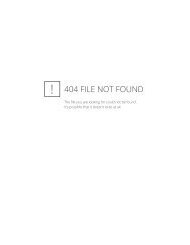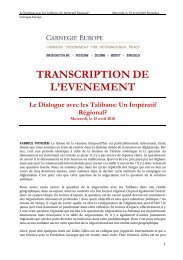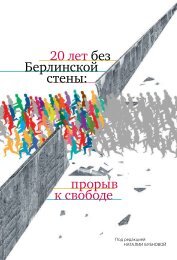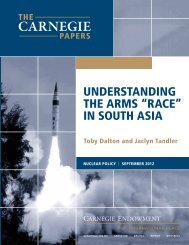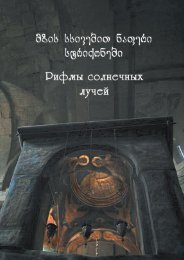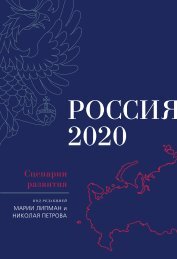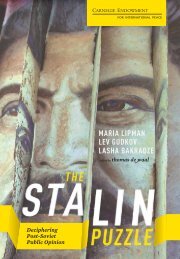Москва - Carnegie Endowment for International Peace
Москва - Carnegie Endowment for International Peace
Москва - Carnegie Endowment for International Peace
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
№ 6 (57), ноябрь — декабрь 2012<br />
МОСКВА КАК ФИЗИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ<br />
ПРОСТРАНСТВО<br />
Рента столичного статуса<br />
Наталья Зубаревич<br />
Архипелаг <strong>Москва</strong><br />
Ольга Вендина<br />
Праздники позитивной солидарности<br />
Алексей Левинсон<br />
Государственное вмешательство:<br />
институциональная ловушка<br />
Борис Грозовский<br />
Дереализация прошлого:<br />
функции сталинского мифа<br />
Лев Гудков<br />
ISSN 1560-8913
№ 6 (57), ноябрь — декабрь 2012<br />
Том 16<br />
ЖУРНАЛ РОССИЙСКОЙ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ<br />
Издается с августа 1996 г.<br />
Выходит шесть раз в год<br />
Главный редактор<br />
Мария Липман<br />
Заместитель<br />
главного редактора<br />
Александр Стариков<br />
Редактор<br />
Наталия Марголис<br />
Ответственный<br />
секретарь<br />
Татьяна Барабанова<br />
Дизайн<br />
Лидия Левина<br />
Верстка<br />
Никита Очагов<br />
Проверка и корректура<br />
Ольга Иванова<br />
Журнал «PRO et CONTRA» (ЗА и ПРОТИВ)<br />
Адрес редакции: 125009, <strong>Москва</strong>, ул. Тверская, 16/2, Московский Центр Карнеги<br />
Телефон: (495) 9358904. Факс: (495) 9358906. Еmail: editor@carnegie.ru<br />
Электронные версии: http://www.carnegie.ru/proetcontra<br />
ISSN 15608913. Свидетельство о регистрации ПИ № ФС7728240 от 18 мая 2007 г. Выдано Федеральной службой<br />
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.<br />
Распространяется бесплатно. Подписано в печать 2.04.2013 года. Дата выхода в свет: 20.04.2013 года<br />
Формат 60х90 1 / 8 . Усл. печ. л. 11. Тираж 2 000 экз.<br />
Консультационный совет<br />
Владимир Барановский<br />
Борис Дубин<br />
Фарид Закария<br />
Томас Карозерс<br />
Эндрю Качинс<br />
Анатоль Ливен<br />
Мари Мендрас<br />
Вадим Радаев<br />
Кирилл Рогов<br />
Дмитрий Тренин<br />
Лилия Шевцова<br />
Константин фон Эггерт<br />
Евгений Ясин<br />
Учредитель<br />
Фонд Карнеги<br />
за Международный Мир<br />
(<strong>Carnegie</strong> <strong>Endowment</strong><br />
<strong>for</strong> <strong>International</strong> Реасе)<br />
Издание осуществляется<br />
при материальной<br />
поддержке<br />
Фонда Макартуров<br />
Издательство «ARTCODEX». <strong>Москва</strong>, ул. Андроньевская Б., д.25/33. Типография ОАО ИПО «Лев Толстой». Тула, ул. Ф. Энгельса, 70. Заказ № 953<br />
© <strong>Carnegie</strong> <strong>Endowment</strong> <strong>for</strong> <strong>International</strong> Реасе, 2013
OТ РЕДАКТОРА<br />
того дня, как Петр увидел, что для России<br />
«С одно спасение — перестать быть русской…<br />
необходимость Петербурга и ненужность<br />
Москвы определилась». «В Петербурге все люди<br />
вообще и каждый в особенности прескверные.<br />
В Москве, напротив, все люди предобрые, только<br />
с ними скука смертельная». «В Москве мертвая<br />
тишина; люди систематически ничего не дела-<br />
ют… в Москве после 10 часов<br />
не найдешь извозчика,<br />
не встретишь человека на<br />
иной улице… В Петербурге<br />
вечный стук суеты сует-<br />
ствий». Все эти цитаты — из<br />
иронического эссе Герцена<br />
«<strong>Москва</strong> и Петербург».<br />
Те два столетия, что столица<br />
находилась в Петербурге, над Москвой привычно<br />
посмеивались: она и сонная, и старомодная, и<br />
провинциальная.<br />
<strong>Москва</strong> вернула себе столичный статус почти<br />
сто лет назад. В советское время Ленинград<br />
постепенно отходил на вторые роли, но <strong>Москва</strong>,<br />
хоть и выполняла столичные функции, в условиях<br />
закрытых границ и плановой экономики сильно<br />
проигрывала по сравнению с европейскими сто-<br />
лицами. В Москве было темновато, серовато и<br />
бедновато: ни тебе ярких витрин, ни рекламных<br />
огней. Российская столица, по крайней мере ее<br />
значительная часть, обрела вид современного<br />
европейского города уже после краха коммуниз-<br />
ма, но особенно в 2000-е, когда быстро росли<br />
цены на нефть. Сегодня уж точно никому не при-<br />
дет в голову назвать Москву сонной или скучной.<br />
Петербург остается самым «европейским» благо-<br />
даря архитектурному ансамблю, но за Москвой<br />
ему уже не угнаться — он проигрывает и в масшта-<br />
бе, и в богатстве, и в притягательности для тех рос-<br />
сиян, которые жаждут реализовать свои амбиции<br />
и таланты.<br />
Не всякая столица — самый большой город в<br />
стране, и не всякая — самый богатый, не все сто-<br />
личные города сосредоточивают в себе столько<br />
функций, сколько собрано в российской столице.<br />
2 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
Оттого что традиционная для России централиза-<br />
ция по-прежнему остается важнейшей основой<br />
государственного управления и Кремль стремится<br />
держать под контролем остальную часть страны,<br />
развитие регионов искусственно сдерживается,<br />
а <strong>Москва</strong> обретает еще большую привлекатель-<br />
ность. Здесь, в столице, власть и деньги, здесь<br />
лучшие российские университеты и выше каче-<br />
ство медицины, здесь главные средства массовой<br />
информации (кроме специалистов едва ли кто<br />
из москвичей в состоянии припомнить хоть одно<br />
название немосковской газеты или журнала!),<br />
здесь центр культуры, хоть массовой, хоть эли-<br />
тарной, и здесь же формируются образцы совре-<br />
менного стиля. Для московского жителя выбор<br />
не-Москвы в качестве места для жизни и работы —<br />
большая редкость, а вот в Москву едут отовсюду.<br />
В столице размещается огромный государ-<br />
ственный аппарат и штаб-квартиры крупнейших<br />
компаний, даже тех, чья деятельность осущест-<br />
вляется далеко за Уралом. Столица вмещает в<br />
себя все новых и новых обитателей — безрабо-<br />
тица в Москве практически отсутствует, так что<br />
находится место и для честолюбивых, рассчиты-<br />
вающих на жизненный успех, и для тех, кто при-<br />
езжает просто на заработки и готов заниматься<br />
тяжелым физическим трудом.<br />
Разнообразие и плотность московского насе-<br />
ления неизбежно ведут к трениям — часть из них<br />
хорошо знакома другим столицам. Так, значитель-<br />
ный приток трудовых мигрантов «некоренной»<br />
национальности провоцирует нетерпимость<br />
и насилие не только в Москве. Отличием рос-<br />
сийской столицы в этом смысле является лозунг<br />
«<strong>Москва</strong> для москвичей», который ежегодно скан-<br />
дируют участники позорного Русского марша.<br />
Также особенностью нашей столицы являет-<br />
ся противостояние граждан с «начальниками»<br />
на московских дорогах. Езда с «мигалками» по<br />
публичному пространству, напоминающая про-<br />
езд феодала со свитой по крестьянским полям,<br />
вызвала к жизни движение «синих ведерок» —<br />
оригинальную гражданскую инициативу исконно<br />
российского происхождения.
Развитие в Москве постиндустриальной эко-<br />
номики привело к формированию в столице<br />
особого меньшинства россиян, освободившихся<br />
от традиционного советского патернализма. Эти<br />
«несоветские» россияне владеют современными<br />
профессиональными навыками и открыты миру,<br />
умеют добиваться успеха, привыкли самостоя-<br />
тельно принимать решения и брать на себя ответ-<br />
ственность — не только за собственную семью, но<br />
и за окружающих, тех, кто нуждается в помощи<br />
и поддержке. За последние годы они накопили<br />
опыт и умение солидарного, организованного<br />
действия в самых разных сферах — от благотво-<br />
рительности до наблюдения за выборами и рабо-<br />
ты в органах городского самоуправления.<br />
Разумеется, такие люди есть не только в<br />
Москве, но именно здесь их концентрация наи-<br />
более высока. Модернизированная социальная<br />
среда столицы притягивает все больше молодых,<br />
энергичных и талантливых людей из других реги-<br />
онов страны. Хотя в масштабах России «несовет-<br />
ские» москвичи составляют ничтожное меньшин-<br />
ство и даже в Москве их относительно немного,<br />
их вклад в российскую и особенно в столичную<br />
жизнь становится более ощутимым. И все более<br />
заметно противоречие между ними и политиче-<br />
ской системой, которая по-прежнему строится<br />
на доминировании государства над обществом<br />
и исключает существование автономных обще-<br />
ственных сил. В конце 2011 года это противоре-<br />
чие выплеснулось в форме массовых протестов.<br />
Протестная волна, продолжавшаяся несколько<br />
месяцев, постепенно схлынула, но интерес к<br />
гражданской активности не исчез: по крайней<br />
мере часть москвичей не хочет жить, как прежде,<br />
повернувшись спиной к политике.<br />
В 2005 году жителям столицы сообщили, что<br />
они лишаются права выбирать собственного<br />
мэра — высшее начальство само станет решать,<br />
кому управлять Москвой. Тогда это известие<br />
практически не вызвало интереса у москвичей.<br />
Четыре года спустя, в 2009-м, жители столи-<br />
цы — «советские» и «несоветские», либералы и<br />
националисты, модернизированные и консер-<br />
вативные — с тем же равнодушием отнеслись к<br />
результатам выборов в Московскую городскую<br />
думу (фальсификации на тех выборах были<br />
настолько вопиющими, что взбунтовалась даже<br />
«системная оппозиция» в Государственной<br />
думе). В ближайшие два года Москве предстоят<br />
выборы и депутатов, и мэра, но картина изме-<br />
нилась: немало волонтеров добилось вклю-<br />
чения в состав УИКов, выборы окажутся под<br />
пристальным вниманием гражданских наблюда-<br />
телей. Лозунг «Это наш город», часто звучавший<br />
на акциях протеста, может оказаться вовсе не<br />
пустым звуком.<br />
Материалы нынешнего номера Pro et Contra<br />
посвящены Москве как социальному и физиче-<br />
скому пространству. Наталья Зубаревич пишет<br />
об особенностях московской экономики: столица<br />
«продолжает жить на ренту от налога на при-<br />
быль, которую аккумулируют штаб-квартиры<br />
крупнейших российских компаний». В центре<br />
внимания Аллы Махровой, Татьяны Нефёдовой<br />
и Андрея Трейвиша — перспективы неуклон-<br />
но растущей Московской агломерации. Тема<br />
Ольги Вендиной — социальная неоднородность<br />
московского населения. Алексей Левинсон ана-<br />
лизирует общероссийское значение московского<br />
протестного движения. Станислав Львовский<br />
предлагает взгляд на столицу как на простран-<br />
ство потоков. За пределами темы мы публикуем<br />
статью Бориса Грозовского о нынешнем состоя-<br />
нии российской экономики, исследование Льва<br />
Гудкова о функциях «сталинского мифа» в сегод-<br />
няшней России и размышления Майкла Мазарра<br />
о стратегической несостоятельности США.<br />
Мария Липман, главный редактор<br />
От редактора<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 3
Автор<br />
СОДЕРЖАНИЕ<br />
ТЕМА НОМЕРА<br />
МОСКВА КАК ФИЗИЧЕСКОЕ<br />
И СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО<br />
6 Рента столичного статуса<br />
НАТАЛЬЯ ЗУБАРЕВИЧ<br />
«Российские власти отдают себе отчет в том,<br />
насколько остро стоит проблема развития сто-<br />
личного мегаполиса, и даже пытаются бороться<br />
с рентными сверхдоходами Москвы. Однако для<br />
решения проблем московской агломерации при-<br />
меняются меры, не затрагивающие системную<br />
основу современной российской власти. Наверху<br />
категорически не готовы поступаться системой<br />
сверхцентрализованного управления страной,<br />
ведь именно она обеспечивает возможности<br />
контроля и перераспределения нефтегазовой<br />
ренты».<br />
19 Московская агломерация<br />
и«Новая <strong>Москва</strong>»<br />
АЛЛА МАХРОВА, ТАТЬЯНА НЕФЁДОВА,<br />
АНДРЕЙ ТРЕЙВИШ<br />
«Столица стала главным в стране центром кон-<br />
троля за финансовыми и товарными потоками.<br />
Ее вклад в экспорт явно завышен таможенной ста-<br />
тистикой, но все равно <strong>Москва</strong> — основное окно<br />
в мир, первый (даже единственный) претендент<br />
на роль глобального центра и главная витрина<br />
реальных и мнимых успехов постсоветской<br />
России. Московская область ей сильно уступает,<br />
но сравнима с Петербургом. Третье место по<br />
валовому региональному продукту после Москвы<br />
и Тюменской области Подмосковье занимает с<br />
2005-го».<br />
33 Архипелаг <strong>Москва</strong><br />
ОЛЬГА ВЕНДИНА<br />
«Новизна ситуации заключается в том, что “две<br />
Москвы”, существующие в теле единого города,<br />
становятся равноценными по располагаемым<br />
ресурсам. На стороне одной — относительное<br />
большинство населения, унаследованные совет-<br />
ские представления и нежелание перемен, на<br />
стороне другой — социальная активность, финан-<br />
4 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
совые возможности, более высокие жизненные<br />
стандарты и более привлекательный образ<br />
жизни. Одна <strong>Москва</strong> ориентирована на интегра-<br />
цию в европейское сообщество, другая предпочи-<br />
тает антизападничество».<br />
50 Праздники позитивной<br />
солидарности<br />
АЛЕКСЕЙ ЛЕВИНСОН<br />
«В столице сочувствует (своим) манифестан-<br />
там примерно половина жителей, в провинции<br />
(московским) манифестантам сочувствует при-<br />
мерно треть. Провинциальные города отличают-<br />
ся от Москвы не только в разы меньшим числом<br />
жителей, но и следующим из этого эффектом<br />
меньшей социальной дистанции между жителями.<br />
Поэтому цена даже самих ответов (“приму уча-<br />
стие в акции протеста”), даваемых интервьюеру в<br />
городах провинции, в те же разы больше, нежели<br />
в двенадцатимиллионной столице».<br />
67 Внутренние границы<br />
в пространстве потоков<br />
СТАНИСЛАВ ЛЬВОВСКИЙ<br />
«По мере движения от Центра (Бульварное—<br />
Садовое—ТТК) трудность пересечения границ в<br />
виде кольцевых трасс возрастает — по крайней<br />
мере, для пешехода. МКАД в этом смысле —<br />
последний бастион, который уже довольно силь-<br />
но напоминает собой границу государства, хотя<br />
бы в том смысле, что на выездах из города рас-<br />
положены пункты ГИБДД, напоминающие КПП,<br />
которыми они отчасти и являются. Пересечение<br />
же МКАД на автомобиле часто занимает больше<br />
времени, чем пересечение межгосударственной<br />
границы Сингапура и Малайзии».<br />
СТАТЬИ<br />
88 Государственное вмешательство:<br />
институциональная ловушка<br />
БОРИС ГРОЗОВСКИЙ<br />
«Полтора десятка лет реформ в сфере госуправ-<br />
ления не привели к значимому улучшению ситу-<br />
ации для граждан и бизнеса. Госаппарат и весь
бюджетный сектор по-прежнему работают не “на<br />
клиента”, а на себя. В рамках бюрократической<br />
вертикали они заняты доказыванием собствен-<br />
ной полезности — составлением бессмысленных<br />
отчетов, ответами на запросы, организацией<br />
мероприятий и выполнением поручений. А во<br />
взаимодействии с внешним миром — бизнесом<br />
и гражданами — госсектор остается в парадигме<br />
рентного поведения».<br />
108 Дереализация прошлого:<br />
функции сталинского мифа<br />
ЛЕВ ГУДКОВ<br />
«Реакция населения на усилия кремлевской<br />
пропаганды вернуть Сталина в публичное про-<br />
странство оказалась весьма парадоксальной.<br />
Возобладало, вопреки ожиданиям, равнодушие:<br />
доля индифферентных выросла с 12 проц. в 2000<br />
году до 44 проц. в 2008-м. Среди молодежи, на<br />
которую, собственно, и были направлены усилия<br />
путинских политтехнологов и пропагандистов,<br />
равнодушное отношение к Сталину стало домини-<br />
рующим — такой ответ дали 59 процентов моло-<br />
дых респондентов».<br />
136 Стратегическая<br />
несостоятельность США<br />
МАЙКЛ МАЗАРР<br />
«В свое время историки Гарольд и Маргарет<br />
Спраут кратко сформулировали обанкротившу-<br />
юся стратегию Великобритании в период заката<br />
империи: Британия “имела слишком неподъем-<br />
ные обязательства, исчерпала свой потенциал [и]<br />
категорически не желала расставаться с ролью<br />
великой державы”. Это описание в точности<br />
подходит к сегодняшним Соединенным Штатам.<br />
Дело не в том, чтобы отказаться от главенству-<br />
ющей, глобальной роли США, а в том, чтобы<br />
достичь тех же самых целей более здравым спо-<br />
собом».<br />
РЕЦЕНЗИИ<br />
152 Fiona Hill, Clif<strong>for</strong>d G. Gaddy. Mr. Putin:<br />
Operative in the Kremlin<br />
ИВАН КРАСТЕВ<br />
157 Thane Gustafson. Wheel of Fortune: The Battle<br />
<strong>for</strong> Oil and Power in Russia<br />
ИЛЬЯ ЗАСЛАВСКИЙ<br />
163 Dominic Lieven. Russia Against Napoleon:<br />
The True Story of the Campaigns of War and <strong>Peace</strong><br />
АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР<br />
166 Блэр Рубл. Вашингтонская U-стрит:<br />
Биография<br />
АЛЕКСЕЙ МАКАРКИН<br />
170 Наши авторы<br />
171 Contents and Summaries<br />
Содержание<br />
В журнале отражены личные взгляды авторов, которые могут не совпадать с позицией Фонда Карнеги за Международный Мир<br />
или Московского Центра Карнеги<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 5
ТЕМА НОМЕРА<br />
Наталья Зубаревич<br />
Рента столичного<br />
статуса<br />
<strong>Москва</strong> продолжает жить на ренту от налога на прибыль,<br />
которую аккумулируют штаб-квартиры крупнейших российских<br />
компаний | НАТАЛЬЯ ЗУБАРЕВИЧ<br />
Проблемы развития Москвы нарастают<br />
давно, но оказались в фокусе общественного<br />
внимания только после<br />
не ожиданного предложения президента<br />
Дмитрия Медведева в июне 2011 года о расширении<br />
границ столицы и переносе федеральных<br />
правительственных учреждений на новые<br />
территории, с тем чтобы разгрузить исторический<br />
центр. Разработанный без какой-либо<br />
профессиональной экспертизы, этот план<br />
был чрезвычайно быстро (к концу 2011-го)<br />
реализован при мощном административном<br />
давлении в той его части, которая касалась<br />
расширения границ, но очевидно застопорился,<br />
когда дело дошло до переноса функций.<br />
Уже после расширения административных<br />
границ столичные власти провели<br />
международный конкурс проектов «Большой<br />
Москвы», чтобы с профессиональной точки<br />
зрения обсудить перспективы развития столичной<br />
агломерации. На конкурсе были представлены<br />
десять проектов, основанные на<br />
детальном анализе объективных тенденций,<br />
существующих возможностей и ограничений,<br />
а также на опыте других мегаполисов. В центре<br />
внимания оказались планировочно-градостроительные<br />
и инфраструктурные проблемы<br />
и перспективы развития Московской агломерации,<br />
что крайне важно. Но эти проблемы<br />
трудно решить, не оценив влияние институциональных<br />
факторов развития столицы.<br />
6 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
Агломерационный эффект<br />
и столичный статус<br />
<strong>Москва</strong> — не только ядро крупнейшей агломерации<br />
страны, но и столица России, поэтому<br />
на ее развитие влияют два фактора: агломерационный<br />
и институциональный, то есть столичный<br />
статус. Позитивное влияние агломерационного<br />
фактора обусловлено экономией<br />
на масштабе благодаря территориальной<br />
концентрации функций, а также разнообразием<br />
экономических агентов и мест приложения<br />
труда. Высокая плотность и разнообразие<br />
усиливают конкуренцию, способствуют<br />
ускорению инноваций, передаче «неявного<br />
знания», которое так важно для модернизации.<br />
Кроме того, разнообразие выгодно<br />
для потребителей, поскольку позволяет им<br />
приобретать товары и услуги за лучшую цену.<br />
Агломерационный эффект снижает издержки<br />
бизнеса и потребителей, что доказано в<br />
региональной экономике с помощью математических<br />
моделей (Фуджита, Кругман) 1 . Он<br />
действует в крупных городских агломерациях<br />
любой страны.<br />
Однако агломерационный эффект имеет и<br />
негативные последствия: увеличиваются проблемы<br />
транспортной инфраструктуры и экологии,<br />
что ухудшает качество жизни. С этими<br />
проблемами сталкиваются все крупные агломерации.<br />
Пути их решения хорошо известны.<br />
Во-первых, это грамотное планирование раз-
вития агломерации, создание координирующих<br />
структур для реализации планов и согласования<br />
интересов территорий, входящих в<br />
агломерацию, совершенствование системы<br />
общественного транспорта и др. Во-вторых,<br />
огромные инвестиции в транспортную<br />
инфраструктуру и улучшение экологического<br />
состояния. Накопленный в этой сфере мировой<br />
опыт (и достижения, и ошибки) огромен<br />
и разнообразен. Есть примеры эффективной<br />
и прозрачной городской политики, координации<br />
действий властей разного уровня,<br />
бизнеса и локальных сообществ внутри агломерации.<br />
В принципе, задача такой политики<br />
ясна — сохранить экономические преимущества<br />
агломерационного эффекта и снизить<br />
издержки.<br />
Столичный статус — институциональный<br />
фактор развития. Любая столица пользуется<br />
особым вниманием центральных властей,<br />
притягательна для бизнеса и мигрантов.<br />
Столичный статус имеют многие крупнейшие<br />
агломерации (Париж, Лондон, Пекин,<br />
Мехико и др.), но для них преимущества столичного<br />
статуса менее значимы, чем мощный<br />
агломерационный эффект. В России столичный<br />
статус играет гораздо большую роль для<br />
развития Москвы, обеспечивая ей огромную<br />
ренту, то есть возможность получать незаработанные<br />
доходы благодаря существующей<br />
в нашей стране институциональной среде.<br />
Масштабы столичной ренты, по мнению<br />
автора, сопоставимы с агломерационным<br />
эффектом.<br />
Ренту столичного статуса можно рассматривать<br />
как территориальную модификацию<br />
административной ренты. Она возникает<br />
потому, что Россия имеет сверхцентрализованную<br />
систему управления. Это приводит к<br />
сверхконцентрации в столице крупнейших<br />
компаний, играющих ведущую роль в экономике<br />
страны, а также финансовых и человеческих<br />
ресурсов. Помимо исторической традиции<br />
централизации (унаследованного раз-<br />
Рента столичного статуса<br />
вития в терминах теории “path dependence”),<br />
большой вклад в формирование статусной<br />
ренты вносит авторитарная политическая<br />
система, основной механизм которой — «ручное<br />
управление» экономикой и бюджетом.<br />
Следовательно, крупный бизнес должен быть<br />
рядом с Кремлем и Белым домом, чтобы лоббировать<br />
свои интересы.<br />
Роль агломерационного эффекта и статусной<br />
ренты можно проследить в экономике,<br />
бюджете и в структуре населения столицы.<br />
Экономика Москвы: услуги, нефть и газ<br />
<strong>Москва</strong> — важнейший экономический центр<br />
страны, ее доля в суммарном валовом региональном<br />
продукте (ВРП) российских регионов<br />
достигла почти четверти и непрерывно<br />
росла до кризиса 2009 года — с 14 проц. в<br />
1994-м до 24,3 проц. в 2008 году (см. таблицу 1<br />
на с. 8). Санкт-Петербург уступает Москве<br />
по численности населения в 2,3 раза, а по<br />
объему ВРП — более чем в пять раз. Высокая<br />
концентрация ВРП в столице обусловлена<br />
институциональными особенностями российской<br />
экономики. Сохраняющееся трансфертное<br />
ценообразование в сырьевых отраслях<br />
приводит к переносу значительной части<br />
стоимости продукции на трейдерские компании<br />
(в оптовую торговлю) 2 , а значительной<br />
части прибыли — в штаб-квартиры крупных<br />
российских компаний, дабы минимизировать<br />
налогообложение в рамках холдинга.<br />
Все эти структуры «прописаны» в основном<br />
в Москве. В результате почти 38 проц. ВРП<br />
Москвы дает оптовая и розничная торговля<br />
(в Санкт-Петербурге и в среднем по регионам<br />
РФ — 19 проц. в 2010-м), что подтверждает<br />
колоссальную роль институциональных<br />
преимуществ. Концентрация штаб-квартир<br />
крупного бизнеса создает множество высокооплачиваемых<br />
рабочих мест и обеспечивает<br />
столице дополнительные налоговые доходы<br />
городского бюджета. Это и есть институциональные<br />
преимущества столичного<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 7
Наталья Зубаревич<br />
Таблица 1<br />
статуса. Хотя <strong>Москва</strong> своей собственной<br />
деятельностью также вносит большой вклад<br />
в экономику страны благодаря концентрации<br />
разнообразных сервисных функций и<br />
банковских услуг. Российская столица давно<br />
стала постиндустриальным городом, на сектор<br />
услуг приходится 81 проц. ее ВРП (в 2010<br />
году в Петербурге — 64 проц., в Московской<br />
области — 63 процента).<br />
Еще выше доля столицы во внешней<br />
торговле страны. На Москву приходится<br />
40 проц. всего импорта в Россию, а вместе<br />
с Московской областью — половина. Доля<br />
Москвы в российском экспорте почти такая<br />
же (37 проц.), за 2000-е годы она выросла<br />
вдвое. Хотя основу российского экспорта<br />
составляют нефть и газ, доля главного региона<br />
добычи этих ресурсов — Тюменской<br />
области с автономными округами — непрерывно<br />
сокращается, и в 2010-м она составила<br />
только 11 проц. российского экспорта.<br />
Сверхцентрализация системы внешнеторговых<br />
и таможенных функций также стимулирует<br />
создание высокооплачиваемых рабочих<br />
мест в столичной агломерации (это без учета<br />
коррупционных доходов тех, кто работает в<br />
данной сфере).<br />
Агломерационные и рентные факторы<br />
можно выделить и в развитии столичной<br />
промышленности. По данным статистики,<br />
душевой объем промышленного производства<br />
Москвы значительно выше среднего по<br />
стране и выше, чем, например, в индустри-<br />
8 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
ДОЛЯ МОСКВЫ И ДРУГИХ РЕГИОНОВ В СУММАРНОМ ВРП СУБЪЕКТОВ РФ, %<br />
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />
<strong>Москва</strong> 15,3 19,0 21,0 20,0 21,0 21,2 20,4 22,9 23,4 23,9 24,3 22,3 22,5<br />
Санкт-<br />
Петербург<br />
Московская<br />
область<br />
Тюменская<br />
область<br />
Рассчитано по данным Росстата<br />
3,8 3,6 3,3 3,5 3,9 3,8 3,9 3,7 3,7 4,0 4,2 4,6 4,5<br />
4,2 3,7 3,2 3,4 3,7 3,9 3,8 3,9 4,1 4,6 4,9 4,7 4,8<br />
8,4 8,3 9,9 10,5 10,3 10,4 11,0 12,3 11,3 9,9 9,2 9,0 8,8<br />
альном Красноярске. В то же время москвичи<br />
хорошо знают, что многие столичные предприятия,<br />
за исключением пищевых, дышат<br />
на ладан, их территории используются под<br />
офисы, торговые центры и др. В чем же<br />
дело? При оценке промышленных функций<br />
столицы следует учитывать две особенности.<br />
Во-первых, начиная с 2005 года новый общероссийский<br />
классификатор видов экономической<br />
деятельности (ОКВЭД ) включил в<br />
промышленное производство инфраструктурные<br />
отрасли (производство и распределение<br />
тепла, газа, воды), которые наиболее<br />
развиты в мегаполисах, особенно в огромной<br />
Москве. Мощная производственная инфраструктура<br />
— следствие агломерационного<br />
эффекта. Во-вторых, с 2006 года показатели<br />
объема промышленного производства в<br />
столице завышаются искусственно под воздействием<br />
институциональных факторов. В<br />
2011-м 20 проц. промышленного производства<br />
Москвы составляли добывающие отрасли<br />
(в 2009 году — 19 проц.), причем речь идет<br />
почти исключительно о нефтегазодобыче (99<br />
процентов). В результате более 8 проц. всей<br />
добывающей промышленности России статистически<br />
отнесено к Москве. Росстат в этом<br />
не виноват. Очевидно, что в столице нефть<br />
и газ не добываются, но крупный бизнес с<br />
целью налоговой оптимизации «прописывает»<br />
часть добывающих дочерних компаний<br />
по столичному адресу своей штаб-квартиры.<br />
В результате статистически завышается уро-
вень промышленного производства Москвы.<br />
Помимо статистических, есть вполне осязаемые<br />
результаты: компании, «прописанные»<br />
в столице до 2012 года, платили налог на<br />
прибыль в ее бюджет, внося свой вклад в столичную<br />
ренту. Для сравнения, в Петербурге<br />
добывающая промышленность почти отсутствует<br />
(ее доля составляет 0,3—0,4 проц. промышленного<br />
производства), хотя там также<br />
зарегистрированы юридические адреса<br />
некоторых российских крупных компаний<br />
(«Газпромнефти», нефтехимической компании<br />
«СИБУР» и др. 3 ).<br />
Динамику промышленного производства<br />
столицы нужно рассматривать с учетом<br />
вышеперечисленных статистических искажений.<br />
В докризисном 2008-м объем промышленного<br />
производства в Москве восстановился<br />
до уровня 1990 года, в то время как в<br />
целом по России он составил только 84 проц.<br />
от уровня 1990-го, а в Санкт-Петербурге — 82<br />
процента. Однако новый кризисный спад<br />
промышленности в столице в 2009 году был<br />
сильнейшим и до сих пор полностью не преодолен<br />
(см. таблицу 2 на с. 9). Кризис ускорил<br />
постиндустриальную трансформацию<br />
московской экономики. Промышленность<br />
быстрее развивается во внешней зоне крупнейших<br />
агломераций федеральных городов<br />
(в Ленинградской и Московской областях),<br />
что соответствует мировым тенденциям.<br />
Принято считать, что <strong>Москва</strong> — наиболее<br />
инвестиционно привлекательный город<br />
Таблица 2<br />
Рента столичного статуса<br />
России. Так ли это? В период экономического<br />
роста 2000-х доля столицы во всех инвестициях<br />
в РФ составляла 11—13 проц., в кризисном<br />
2009-м она сократилась до 9 проц., а в 2010—<br />
2011 годах — до 7—8 проц., то есть сравнялась<br />
с долей Москвы в населении России. <strong>Москва</strong><br />
не стала менее инвестиционно привлекательной<br />
— сократились инвестиционные возможности<br />
столичного бюджета. До кризиса, в<br />
2008-м, столичный бюджет обеспечивал 43<br />
проц. инвестиций в Москву (федеральный<br />
бюджет — еще 5 процентов). Вряд ли можно<br />
найти в мире какой-либо другой крупный<br />
столичный город (за исключением Астаны),<br />
в котором бюджетные инвестиции достигали<br />
бы почти половины всех инвестиций. Для<br />
сравнения, в тот же период 2008—2009 годов<br />
в Петербурге доля инвестиций из бюджета<br />
города составляла 25—27 проц. (при этом<br />
доля инвестиций из федерального бюджета<br />
была значительно выше — 15—17 проц.), в<br />
Московской области — 2—4 процента.<br />
Чтобы понять масштабы инвестиций из<br />
столичного бюджета, приведем такое сравнение:<br />
до кризиса они составляли треть<br />
инвестиций из всех бюджетов субъектов РФ.<br />
Откуда в столичном бюджете столько денег?<br />
Их давали рентные доходы. Когда в бюджете<br />
очень много денег, их нужно тратить с выгодой<br />
для городских властей, поэтому контроль<br />
над московским стройкомплексом — это не<br />
прихоть Юрия Лужкова, а эффективный способ<br />
приватизации рентных доходов с помо-<br />
ДИНАМИКА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, В % ПО ОТНОШЕНИЮ К 2008 ГОДУ<br />
2009 г. 2010 г. 2011 г.<br />
в среднем по РФ -11 -3 1<br />
Ленинградская область -6 8 14<br />
Московская область -15 -5 4<br />
С.-Петербург -20 -13 -1<br />
<strong>Москва</strong> -17 -15 -13<br />
Рассчитано по данным Росстата<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 9
Наталья Зубаревич<br />
щью «родственных» компаний. Механизм<br />
«приватизации» рентных доходов отработан<br />
и может воспроизводиться.<br />
Кризис 2009 года резко уменьшил доходы<br />
столичного бюджета (см. ниже), что привело<br />
к ощутимому сокращению инвестиций<br />
в Москве: на треть в 2010-м по сравнению с<br />
2008 годом. Инвестиции из столичного бюджета<br />
уменьшились более чем в два раза, их<br />
доля в общем объеме инвестиций в Москву<br />
снизилась до 26 процентов. В 2011-м рост<br />
инвестиций в столице был небольшим (на<br />
5 проц. к предыдущему году). <strong>Москва</strong> очень<br />
медленно выбирается из инвестиционной<br />
«ямы». Проблема не только в снижении<br />
столичной ренты: сокращение инвестиций<br />
в Санкт-Петербурге и Московской области<br />
было еще более существенным (на 41 и 50<br />
проц. соответственно в 2011-м по сравнению<br />
с 2008 годом). Крупнейшие агломерации<br />
после кризиса стали менее инвестиционно<br />
привлекательными; это следствие общего<br />
ухудшения инвестиционного климата. Только<br />
в Ленинградской области, где реализуются<br />
масштабные проекты транспортировки на<br />
Запад экспортных ресурсов, инвестиции за<br />
тот же период выросли на 47 процентов.<br />
После смены столичного мэра федеральные<br />
власти стали существенно больше<br />
помогать Москве. В 2011-м инвестиции из<br />
федерального бюджета составили 12 проц.<br />
всех инвестиций в Москву по сравнению с<br />
4 проц. в 2008 году. Федеральный бюджет<br />
частично компенсировал Москве снижение<br />
ее инвестиционных возможностей. Если рассматривать<br />
все инвестиции из федерального<br />
бюджета в регионы в 2011 году, то <strong>Москва</strong><br />
получила 10 проц., несколько больше досталось<br />
только Краснодарскому краю (11 процентов).<br />
Столичная рента сохранилась, но ее<br />
источники стали более диверсифицированными,<br />
к ним добавились особые преимущества<br />
в получении инвестиций из федерального<br />
бюджета.<br />
10 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
Развитие розничной торговли в столице<br />
обусловлено в первую очередь позитивным<br />
влиянием агломерационного эффекта.<br />
В 2010—2011 годах на Москву приходилось<br />
17 проц. всего оборота розничной торговли<br />
в стране, вместе с Московской областью —<br />
24 процента. Это объясняется постиндустриальной<br />
трансформацией экономики столицы<br />
и Московской области и концентрацией платежеспособного<br />
спроса в крупнейшей агломерации<br />
страны.<br />
Богатая <strong>Москва</strong> для москвичей<br />
По данным статистики, доходы москвичей<br />
в 2,2 раза превышают среднероссийский<br />
уровень и в 1,8 раза — доходы жителей Санкт-<br />
Петербурга и Московской области. С учетом<br />
более высокой стоимости жизни в столице<br />
(в 1,5 раза выше средней по стране) разрыв<br />
сокращается: в 2009 году в Москве среднедушевые<br />
доходы были выше городского прожиточного<br />
минимума в 6 раз, в Петербурге — в<br />
4,1 раза, а в среднем по стране — в 3,3 раза.<br />
В 2011-м показатели федеральных городов<br />
сблизились: в Москве указанный выше разрыв<br />
сократился до 5,1 раза, в Петербурге,<br />
напротив, увеличился до 4,3 раза.<br />
Сравнивая эти показатели, нельзя забывать,<br />
что статистически измерить доходы<br />
столичного населения не менее сложно,<br />
чем жителей республик Северного Кавказа.<br />
Доходы складываются из многих источников,<br />
включая теневые, в федеральных городах<br />
на доходы оказывает большое влияние<br />
валютный курс 4 . Статистические органы<br />
при расчете доходов населения делают<br />
существенную дооценку, учитывая оборот<br />
розничной торговли, объем платных услуг<br />
и т. д., поэтому точность измерений относительна.<br />
Подтверждением этому служат резкие<br />
изменения структуры доходов, которая<br />
включает в себя легальную заработную плату,<br />
предпринимательский доход, социальные<br />
выплаты, доходы от собственности и другие
доходы, к которым относят скрытую заработную<br />
плату. В Москве за 2000—2010 годы<br />
доля легальной заработной платы выросла<br />
с 18 до 44 проц. от всех доходов населения,<br />
в Петербурге за тот же период — с 43 до<br />
48 проц., а в среднем по России — с 38 до<br />
41 процента. Можно ли верить столичной<br />
статистике? Отчасти она отражает борьбу с<br />
серыми зарплатными схемами, широко распространенными<br />
в столице. В начале 2000-х<br />
страховые возмещения составляли треть<br />
всех социальных выплат населению Москвы,<br />
а в 2009 году эта доля снизилась в три раза.<br />
Московские зарплаты удалось частично «обелить»,<br />
но насколько — в точности неизвестно.<br />
Кроме того, в столице далеко не полностью<br />
учитываются доходы населения от массовой<br />
сдачи жилья в аренду. В результате определить,<br />
насколько в действительности различаются<br />
доходы населения столицы и других<br />
регионов России, очень трудно.<br />
Несмотря на дефекты статистики, вряд ли<br />
кто-то сомневается, что в Москве самые высокие<br />
доходы населения. Преимущество обеспечивается<br />
в первую очередь агломерационным<br />
эффектом. Во всех крупнейших городах<br />
мира доходы населения выше, чем в среднем<br />
по стране, как и стоимость жизни; эти города<br />
обладают огромным и разнообразным<br />
рынком труда, концентрируют качественные<br />
рабочие места. Вклад столичного статуса<br />
в доходы населения измерить сложнее, но<br />
в последние годы он уменьшился, что подтверждается<br />
сопоставлением среднедушевых<br />
доходов населения двух федеральных городов<br />
с учетом стоимости жизни в них.<br />
<strong>Москва</strong> отличается колоссальным неравенством<br />
населения по доходам: по данным<br />
Рента столичного статуса<br />
Росстата, соотношение доходов крайних<br />
децильных групп (10 проц. самых богатых и<br />
10 проц. самых бедных жителей) составило<br />
в 2007 году 42 раза. В 2010-м оно сократилось<br />
до 28 раз, но остается самым высоким<br />
в стране. Для сравнения, в Петербурге это<br />
соотношение значительно меньше — 20 раз,<br />
и оно почти не менялось за тот же период.<br />
Повышенная стоимость жизни в российской<br />
столице увеличивает масштабы бедности:<br />
хотя уровень бедности в Москве невысок<br />
(10 проц. населения в 2010 году) и ниже<br />
“Доля граждан, получающих социальную поддержку<br />
из бюджета города, чрезвычайно высока — более трети<br />
жителей столицы”.<br />
среднего по стране (12,6 проц.), более миллиона<br />
москвичей, по данным Росстата, имеют<br />
доходы ниже прожиточного минимума.<br />
Значительное неравенство по доходу характерно<br />
для многих крупнейших городов мира,<br />
<strong>Москва</strong> тут не одинока.<br />
Влияние огромной столичной ренты наиболее<br />
очевидным образом проявляется в<br />
социальной политике города. Доходами от<br />
ренты нужно делиться с населением, поэтому<br />
доля граждан, получающих социальную<br />
поддержку из бюджета города, чрезвычайно<br />
высока — более трети жителей столицы.<br />
Во-первых, из столичного бюджета с 1990-х<br />
годов выплачиваются московские надбавки<br />
к пенсии, доводившие размер пенсий<br />
неработающих пенсионеров до полутора<br />
прожиточных минимумов пенсионера.<br />
В остальных регионах доплаты из бюджета<br />
до прожиточного минимума пенсионера<br />
осуществляются только с 2011 года в соответствии<br />
с новым федеральным законом.<br />
При этом федеральный бюджет перечисляет<br />
трансферты на эти выплаты большинству<br />
регионов, поскольку им не хватает собственных<br />
средств. Во-вторых, из бюджета Москвы<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 11
Наталья Зубаревич<br />
выплачиваются надбавки к заработной плате<br />
занятым в секторе бюджетных услуг (образование,<br />
здравоохранение и др.), поэтому в<br />
2010-м в столице средняя заработная плата в<br />
сфере образования (34 тыс. рублей) в 2,4 раза<br />
превышала среднюю заработную плату в этой<br />
же отрасли по стране, а в здравоохранении<br />
(40 тыс. рублей) — в 2,5 раза. В-третьих, жители<br />
Москвы оплачивают 70 проц. стоимости<br />
жилищно-коммунальных услуг (в 2007 году —<br />
половину), хотя федеральный норматив требует<br />
стопроцентной оплаты и подавляющее<br />
большинство регионов близки к нормативу.<br />
Дотации локальным монополиям в сфере<br />
ЖКХ, покрывающие убытки из-за недоплаты,<br />
выдаются из бюджета города. Существующая<br />
система в первую очередь экономит расходы<br />
людей, которые являются владельцами<br />
больших квартир. В-четвертых, жилищные<br />
субсидии москвичам выплачиваются при<br />
доле расходов домохозяйства на жилищнокоммунальные<br />
услуги свыше 10 проц. от дохода<br />
семьи, притом что федеральный норматив<br />
— 22 процента. Такая система социальной<br />
поддержки населения возможна только при<br />
сверхдоходах городского бюджета. С приходом<br />
Сергея Собянина она начала меняться<br />
в сторону оптимизации и повышения адресности<br />
социальной поддержки, но пока это<br />
происходит медленно.<br />
Даже при огромных рентных доходах бюджета<br />
столицы власти предпочитали делиться<br />
ими с населением в «разумных пределах».<br />
При Лужкове был разработан особый статистический<br />
механизм оптимизации перераспределения<br />
столичной ренты. <strong>Москва</strong> —<br />
дорогой город, прожиточный минимум<br />
здесь выше. Но если сравнить московский<br />
прожиточный минимум пенсионеров и трудоспособных<br />
жителей со средними по России<br />
для этих же возрастных групп, то окажется,<br />
что прожиточный минимум трудоспособного<br />
населения Москвы в полтора раза выше<br />
среднероссийского, а московских пенси-<br />
12 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
онеров — только на четверть, хотя трудно<br />
поверить, что московскому пенсионеру жить<br />
значительно дешевле, чем трудоспособным.<br />
Манипуляции с прожиточным минимумом —<br />
способ «статистической борьбы» с бедностью<br />
пенсионеров. Московский бюджет перегружен<br />
социальными обязательствами, сокращать<br />
их трудно по политическим причинам,<br />
но еще труднее платить надбавки пенсионерам<br />
в обещанных масштабах. В тупиковой<br />
ситуации был выбран простой способ: занизить<br />
прожиточный минимум пенсионера. Эта<br />
схема была придумана и активно использовалась<br />
при Лужкове.<br />
Новые власти Москвы приняли более<br />
честное решение: зафиксировали верхнюю<br />
границу, до которой доплачивается московская<br />
надбавка пенсионерам. Теперь прожиточный<br />
минимум пенсионера гораздо<br />
меньше влияет на социальные обязательства<br />
города. Расходы бюджета столицы на московские<br />
надбавки к пенсии будут с каждым годом<br />
снижаться, по мере того как Пенсионный<br />
фонд будет увеличивать базовые пенсии с<br />
учетом инфляции. Кроме того, власти города<br />
приняли решение выплачивать московские<br />
надбавки только пенсионерам, проработавшим<br />
в столице не менее десяти лет, что ограничивает<br />
вход в систему новых получателей.<br />
Кусочки ренты, даже маленькие, должны<br />
доставаться «своему» электорату.<br />
Бюджет столицы: возможности и риски<br />
ренты<br />
В последние докризисные годы доходы<br />
московского бюджета росли сверхвысокими<br />
темпами — на 200 млрд рублей в год, то есть<br />
почти на величину бюджета Петербурга<br />
(см. таблицу 3 на с. 13). На долю столицы<br />
приходилось 20 проц. доходов консолидированных<br />
бюджетов всех субъектов РФ при<br />
семипроцентной доле в населении страны.<br />
В структуре доходов столичного бюджета<br />
почти половину составлял налог на прибыль
Таблица 3<br />
организаций. Большая его часть — это поступления<br />
крупнейших российских компаний:<br />
«Газпрома», «Роснефти» и многих других.<br />
Именно налог на прибыль крупнейших компаний<br />
— основа рентных доходов бюджета<br />
Москвы, он составлял почти половину доходов.<br />
В кризисном 2009-м поступления налога<br />
на прибыль в Москве сократились на треть,<br />
из-за этого доходы московского бюджета<br />
рухнули на 22 проц., а доходы всех субъектов<br />
РФ сократились только на 4 процента. В 2011<br />
году объем поступлений налога на прибыль<br />
все еще не восстановился до докризисного<br />
уровня, а его доля выросла до 43 проц. всех<br />
доходов бюджета только в 2012-м (январь—<br />
июль). Московская рента очень велика, но<br />
кризис показал, что она нестабильна.<br />
Более устойчив налог на доходы физических<br />
лиц (НДФЛ), он формируют треть доходов<br />
бюджета столицы. Его выплачивают все<br />
работающие в Москве, а не только москвичи.<br />
С учетом маятниковой трудовой миграции из<br />
Подмосковья и легальной трудовой миграции<br />
из других регионов это дополнительно дватри<br />
миллиона человек, дающих до 20 проц.<br />
всех поступлений НДФЛ в бюджет столицы.<br />
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА<br />
Рента столичного статуса<br />
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.<br />
Доходы бюджета, млрд руб.<br />
<strong>Москва</strong> 758 958 1 292 1 011 1 128 1 482<br />
С.-Петербург 218 281 343 320 351 406<br />
Доля налога на прибыль, %<br />
<strong>Москва</strong> 47 45 * 48 33 39 38<br />
С.-Петербург 32 31 30 21 26 27<br />
в среднем по субъектам РФ 31 32 28 18 23 25<br />
Доля НДФЛ, %<br />
<strong>Москва</strong> 27 31 31 39 38 32<br />
С.-Петербург 24 25 29 31 30 29<br />
в среднем по субъектам РФ 25 26 27 28 27 26<br />
* В 2007 году в федеральный бюджет было перечислено 201 млрд рублей налога на прибыль, без этих перечислений его<br />
доля в доходах бюджета Москвы превысила бы 60 процентов<br />
Рассчитано по данным Федерального казначейства<br />
Во время кризиса этот налог почти не падал<br />
и тем самым поддерживал столичный бюджет.<br />
Прочие налоговые поступления намного<br />
меньше, особенно те, которые в крупнейших<br />
городах других стран составляют основу<br />
доходов бюджета. В Москве гигантское по<br />
стоимости имущество, но налоговые доходы<br />
от него составляют менее 7 проц. доходов<br />
бюджета. Налоги от малого бизнеса едва<br />
достигают 2 процентов. Столица продолжает<br />
жить на ренту от налога на прибыль, которую<br />
аккумулируют штаб-квартиры крупнейших<br />
российских компаний.<br />
К столичной ренте добавилась и особая<br />
федеральная поддержка: в 2011 году доля<br />
трансфертов (безвозмездных перечислений)<br />
из федерального бюджета 5 увеличилась до<br />
11 проц. доходов бюджета Москвы. В годы<br />
правления Лужкова она не превышала 3—5<br />
процентов. <strong>Москва</strong> дополнительно получила<br />
76 млрд рублей (эта сумма сопоставима с<br />
бюджетом Воронежской или Ленинградской<br />
областей) по статье «прочие безвозмездные<br />
поступления». По некоторым данным, эти<br />
трансферты направлены для развития столичного<br />
метро, но федеральные власти не<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 13
Наталья Зубаревич<br />
объясняют своего решения добавить денег<br />
самому богатому субъекту РФ, действуя в<br />
обычном для современной России режиме<br />
«ручного управления». В результате источников<br />
столичной ренты становится больше.<br />
В 2000-е огромные рентные доходы столицы<br />
порождали неэффективные расходы.<br />
Помимо колоссальных и неэффективных<br />
инвестиций из бюджета, с помощью которых<br />
«приватизировались» рентные доходы,<br />
почти 30 проц. расходов столичного бюджета<br />
составляла поддержка ЖКХ. Огромная рента<br />
позволяла заботиться о населении, но при<br />
этом множилось число неадресных социальных<br />
программ, не учитывающих уровень<br />
доходов получателей помощи, и расходы на<br />
них неуклонно росли.<br />
Кризис 2009 года стал «холодным душем»<br />
для команды Лужкова. За два года (2009—<br />
2010) пришлось сократить расходы бюджета<br />
на 16 проц. по сравнению с 2008-м. На 45<br />
проц. снизились расходы на национальную<br />
экономику из-за резкого сокращения бюджетных<br />
инвестиций. Более чем на 40 проц. за два<br />
года сократились расходы на ЖКХ.<br />
Кризисный шок заставил столичную<br />
администрацию адекватно реагировать еще<br />
при Лужкове, но самую политически рискованную<br />
работу пришлось делать команде<br />
Собянина. В 2010 году почти 20 проц. московского<br />
бюджета расходовалось на социальную<br />
политику (в начале 2000-х эта доля составляла<br />
5—6 проц.), половина этих средств шла<br />
на московские доплаты к пенсиям. Лужков<br />
обещал довести пенсии москвичей до двух<br />
прожиточных минимумов, поэтому расходы<br />
на доплаты пенсионерам в 2010 году достигли<br />
10 проц. всех расходов столичного бюджета.<br />
14 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
Такого нет нигде в России, но и московский<br />
бюджет не выдерживал гигантской тяжести<br />
популистских обязательств. При этом город<br />
задыхался в пробках, требовались огромные<br />
инвестиции в транспортную инфраструктуру.<br />
Властям пришлось делать политический<br />
выбор, на что тратить деньги бюджета.<br />
Московские власти системно подошли<br />
к решению проблемы. Во-первых, еще при<br />
Лужкове с помощью налоговых органов была<br />
проведена проверка работающих пенсионеров,<br />
которым надбавки не полагаются,<br />
что позволило сократить число получате-<br />
“Если бы <strong>Москва</strong> не имела столь высоких рентных<br />
доходов, потоки трудовой миграции более равномерно<br />
распределялись бы между крупными городами России”.<br />
лей доплат. Во-вторых, в 2011 году — уже<br />
при Собянине — были изменены правила и<br />
зафиксирован «потолок» доплаты к пенсиям<br />
(до 12 тыс. рублей). Это позволило снизить<br />
нагрузку на столичный бюджет, в 2011 и 2012<br />
годах доля расходов бюджета на московские<br />
надбавки к пенсиям снизилась до 8 процентов.<br />
В-третьих, одновременно с ростом расходов<br />
столичного бюджета на образование, здравоохранение<br />
и социальную политику идет активный<br />
процесс их оптимизации: укрупнение<br />
школ и больниц, уплотнение детских садов,<br />
сокращение бюджетного финансирования<br />
бесплатных досуговых центров и развитие<br />
платных форм, а также многие другие меры,<br />
которые болезненно воспринимаются населением.<br />
Доля расходов бюджета Москвы на<br />
ЖКХ сокращается (14,6 проц. в январе—июле<br />
2012-го по сравнению с 17,4 проц. в 2010 году),<br />
поэтому быстро увеличиваются расходы населения<br />
столицы на оплату жилищно-коммунальных<br />
услуг (ЖКУ). Преимущества москвичей,<br />
долгое время получавших социальные кусочки<br />
от большого «рентного пирога» в виде финансирования<br />
значительной части расходов
на ЖКУ из городского бюджета, надбавок к<br />
пенсиям и множества других социальных программ,<br />
исчезают на глазах.<br />
С одной стороны, это позитивный процесс:<br />
жизнь на ренту развращает, не позволяя<br />
делать социальные расходы эффективными,<br />
а социальную помощь — адресной. С другой<br />
стороны, сама рента никуда не делась, ее<br />
лишь перенаправили на другие цели — на<br />
развитие транспортной инфраструктуры.<br />
И вновь возникают вопросы: почему при<br />
очевидной необходимости концентрировать<br />
финансовые ресурсы города на развитии<br />
инфраструктуры московские власти почти<br />
вдвое увеличили расходы на благоустройство<br />
столицы — с 28 до 43 млрд рублей (январь—<br />
июль 2011-го и январь—июль 2012-го, соответственно)?<br />
Эти расходы сопоставимы с бюджетом<br />
Саратовской и Ленинградской областей,<br />
а также с расходами Москвы на жилищное<br />
хозяйство или дошкольное образование.<br />
Еще одно сравнение: расходы столичного<br />
бюджета на московские надбавки к пенсиям<br />
всего лишь в 1,5 раза выше, чем на благоустройство.<br />
Не слишком ли дороги цветочки<br />
и тротуарная плитка?<br />
Все — в Москву, никто — из Москвы<br />
Проведенная в 2010 году перепись населения<br />
показала, что численность жителей столицы<br />
достигла 11,5 млн человек. Однако темпы<br />
роста населения Москвы (с 10,5 до 11,5 млн<br />
человек за 2002—2010 годы) вызывают большое<br />
сомнение у демографов, поскольку при<br />
проведении переписи в Москве был большой<br />
объем двойного счёта (население учитывалось<br />
и по месту реального проживания, и<br />
по данным о регистрации, полученным в<br />
ДЭЗ). Напомним, что перепись 2002-го также<br />
добавила Москве полтора миллиона жителей<br />
по сравнению с 1989 годом. К сожалению,<br />
реальная численность москвичей остается<br />
загадкой. Кроме самих москвичей, в столице,<br />
по оценкам, проживают один-два миллиона<br />
Рента столичного статуса<br />
трудовых мигрантов из других регионов и<br />
стран, а еще около миллиона приезжает на<br />
работу из Подмосковья.<br />
Не вызывает сомнения, что Московская<br />
агломерация чрезвычайно притягательна<br />
для россиян и граждан ближнего зарубежья<br />
и сопоставима с другими крупнейшими<br />
агломерациями по силе притяжения населения.<br />
По данным Росстата, в конце 2000-х до<br />
60 проц. чистой миграции (имеется в виду разница<br />
между прибывшими и выбывшими) внутри<br />
России оседало в Москве и Подмосковье,<br />
еще 20 проц. — в Санкт-Петербурге и<br />
Ленинградской области. Столичная агломерация<br />
работает как пылесос, притягивая<br />
население из других регионов страны. При<br />
этом Росстат учитывает только миграцию с<br />
переменой места жительства, число трудовых<br />
мигрантов — еще больше.<br />
Огромный приток в Москву мигрантов из<br />
ближнего зарубежья затрудняет их адаптацию,<br />
усиливает социальную напряженность<br />
и ксенофобию. Этот приток не принято связывать<br />
со столичной рентой, хотя связь прямая:<br />
сверхконцентрация доходов в столице<br />
создает настолько существенный отрыв доходов<br />
и заработной платы от остальной части<br />
страны, что большинство мигрантов направляется<br />
именно в столицу. Если бы <strong>Москва</strong> не<br />
имела столь высоких рентных доходов, потоки<br />
трудовой миграции более равномерно распределялись<br />
бы между крупными городами<br />
России.<br />
Благодаря длительному миграционному<br />
притоку возрастная структура населения<br />
Москвы не очень существенно изменилась<br />
в сторону старения. Доля трудоспособного<br />
населения (63 проц.) немного выше средней<br />
по России, а с учетом тех, кто приезжает<br />
работать в столицу, она существенно выше.<br />
Тем не менее <strong>Москва</strong> все-таки стареет, доля<br />
населения в пенсионном возрасте достигла<br />
24 проц. (среди женщин — 30 проц.), что усиливает<br />
социальные проблемы и нагрузку на<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 15
Наталья Зубаревич<br />
бюджет. В Петербурге «старение» выражено<br />
еще сильнее: в возрастной структуре доля<br />
женщин старше трудоспособного возраста<br />
составляет 33 проц. всех женщин города.<br />
Очень высокая доля пожилых в огромном<br />
городе — это аномалия, в развитых странах<br />
пенсионеры стремятся уехать из крупнейших<br />
городов мира поближе к природе.<br />
Московские власти готовы стимулировать<br />
миграцию пожилых, разрабатывались программы<br />
переселения в малые города, но они<br />
были восприняты пожилыми москвичами<br />
крайне негативно. До тех пор пока москвичи<br />
имеют более высокие пенсии, более доступные<br />
и качественные социальные услуги, эту<br />
проблему не решить. Сверхцентрализация<br />
и рентные доходы столицы и здесь создают<br />
ловушку как для пожилых москвичей, так и<br />
для властей города.<br />
<strong>Москва</strong> и Россия: только вместе<br />
Российские власти отдают себе отчет в том,<br />
насколько остро стоит проблема развития<br />
столичного мегаполиса, и даже пытаются<br />
бороться с рентными сверхдоходами<br />
Москвы. Однако для решения проблем<br />
московской агломерации применяются<br />
меры, не затрагивающие системную основу<br />
современной российской власти. Наверху<br />
категорически не готовы поступаться системой<br />
сверхцентрализованного управления<br />
страной, ведь именно она обеспечивает возможности<br />
контроля и перераспределения<br />
нефтегазовой ренты. Что бы ни говорилось<br />
публично о децентрализации управления,<br />
дальше косметических мер дело не идет.<br />
В 2000-е наиболее привлекательным для<br />
российских властей был механизм статусной<br />
ренты. Он использовался для того, чтобы<br />
стимулировать развитие второго крупнейшего<br />
города страны — Санкт-Петербурга<br />
(«малой родины» клана Путина). Крупным<br />
российским компаниям предлагалось добровольно-принудительноперерегистрировать-<br />
16 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
ся в Северной столице. Некоторые это сделали,<br />
переместив туда свои дочерние структуры<br />
(«Газпромнефть», отдельные дивизионы<br />
«СИБУР-холдинга» и др.). Вероятность<br />
перевода крупнейшего российского налогоплательщика<br />
— «Газпрома» — становится<br />
все более призрачной: возведение новой<br />
штаб-квартиры компании в Петербурге обернулось<br />
многолетним конфликтом с местным<br />
населением, строительство так и не начато,<br />
при этом налоги на прибыль штаб-квартиры<br />
«Газпрома» закреплены за Москвой на ближайшие<br />
пять лет. В целом перевод «денежных<br />
мешков» в Северную столицу не состоялся,<br />
крупный бизнес предпочитает обитать<br />
там, где принимаются решения. Перевод<br />
властных структур ограничился принудительным<br />
переселением Конституционного суда, а<br />
в октябре стало известно, что за ним последуют<br />
Верховный и Высший арбитражный суды.<br />
Для решения инфраструктурных проблем<br />
Москвы федеральные власти постановили<br />
расширить ее границы по аналогии с прирезками<br />
советского времени, но в гораздо<br />
больших территориальных масштабах.<br />
«Рейдерский захват» немалой, и при этом<br />
наименее заселенной, части Подмосковья<br />
удалось продавить без особого усилия с<br />
помощью административного ресурса, но все<br />
остальные решения об использовании новых<br />
территорий застопорились. Федеральные<br />
министерства и ведомства саботируют переезд,<br />
профессиональные сообщества и большинство<br />
экспертов негативно оценивают<br />
принятое решение, в то время как население<br />
Москвы пока скорее его поддерживает, но,<br />
по всей видимости, просто от нелюбви к<br />
чиновникам. Если назвать реальную стоимость,<br />
в которую может обойтись перемещение<br />
ведомств, мнение жителей переменится.<br />
Федеральный бюджет и бюджет Москвы не<br />
имеют средств на огромные расходы по освоению<br />
новых территорий (по предварительным<br />
оценкам, более 1 трлн рублей). Кроме
того, велики политические риски. Освоение<br />
прирезанных территорий может стать<br />
дополнительным, и очень сильным, фактором<br />
слабо контролируемого «разбухания»<br />
Москвы, которое и так не удается остановить.<br />
В результате <strong>Москва</strong> может оказаться для российских<br />
властей еще более горячей точкой<br />
на политической карте страны. Недовольство<br />
населения столицы может плохо закончиться<br />
для политического режима.<br />
Любые попытки решить проблемы столичной<br />
агломерации только с помощью традици-<br />
онных инструментов региональной и городской<br />
политики (развитие транспортной<br />
инфраструктуры, городское планирование,<br />
расширение территории и др.), сохраняя<br />
при этом сверхцентрализацию управления,<br />
не будут давать ожидаемого эффекта.<br />
«Дорожная карта» развития столичной<br />
агломерации должна быть увязана с институциональными<br />
изменениями всей страны.<br />
Одно из важнейших направлений — развитие<br />
столицы за счет преимуществ агломерационного<br />
эффекта, а не за счет статусной ренты,<br />
которая достигает максимального уровня в<br />
сверхцентрализованной системе управления.<br />
Первый важный шаг уже сделан: после<br />
вступления в силу нового закона о налогообложении<br />
интегрированных компаний<br />
<strong>Москва</strong> теряет часть рентных доходов от<br />
налога на прибыль. Теперь он более равномерно<br />
распределяется между регионами, где<br />
размещены предприятия, и прописанными<br />
в столице штаб-квартирами компаний, которые<br />
владеют этими предприятиями. Закон<br />
поможет избавить Москву от статистических<br />
функций нефтедобывающего центра — самого<br />
яркого и малоприличного проявления<br />
Рента столичного статуса<br />
статусной ренты. Упомянутое выше временное<br />
выведение «Газпрома» из-под действия<br />
нового закона позволит сохранить налоговые<br />
поступления в бюджет столицы еще на пять<br />
лет, но это лишь на определенный период.<br />
Налог на прибыль сократится, поэтому столице<br />
придется развивать традиционные для<br />
агломераций источники доходов: налоги на<br />
имущество, малый и средний бизнес.<br />
Второй шаг — реальная децентрализация и<br />
дерегулирование управления, что помогло бы<br />
ускорить развитие других крупнейших горо-<br />
“В целом перевод «денежных мешков» в Северную<br />
столицу не состоялся, крупный бизнес предпочитает<br />
обитать там, где принимаются решения”.<br />
дов России. Децентрализация позволит к тому<br />
же сократить федеральные функции и численность<br />
чиновников федеральных министерств<br />
и ведомств (по оценкам, их более 60 тыс. человек),<br />
а также их территориальных органов по<br />
Москве (26 тыс. человек, по данным Росстата,<br />
за июль 2012 года). Суммарная численность<br />
чиновников федеральных органов управления<br />
(около 100 тыс. человек без вспомогательного<br />
персонала, занятого их обслуживанием) относительно<br />
невелика, исходя из общей численности<br />
занятых в столице, но эффект от сокращения<br />
будет заметным.<br />
<strong>Москва</strong> и Московская область выиграют от<br />
децентрализации, поскольку их конкурентоспособность<br />
выше благодаря мощному агломерационному<br />
эффекту. Здесь лучше условия<br />
для развития малого и среднего бизнеса —<br />
основной экономической базы агломераций.<br />
Существующий политический режим явно<br />
не готов проводить децентрализацию, но в<br />
случае его ослабления в результате экономических<br />
или политических причин процесс<br />
пойдет именно в этом направлении. Система<br />
будет сдвигаться от неэффективной сверхцентрализации<br />
к точке оптимума.<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 17
Наталья Зубаревич<br />
Третий шаг — это отказ от идущей на<br />
протяжении многих лет «холодной войны»<br />
между Москвой и Подмосковьем, переход<br />
к активному взаимодействию для решения<br />
общих инфраструктурных проблем и поиска<br />
компромиссов в многочисленных спорных<br />
вопросах, связанных с развитием транспортной<br />
и энергетической инфраструктуры, налогообложением<br />
жителей Подмосковья, работающих<br />
в столице, проблемами дачной сезонной<br />
миграции, свалок, кладбищ и множества<br />
других. В российской политической культуре<br />
это практически невозможно: горизонтальные<br />
взаимодействия не развиты и не приветствуются,<br />
компромисс воспринимается<br />
как признак слабости. Для решения острых<br />
проблем агломерации федеральные власти<br />
предпочли бы объединить столицу и область<br />
в единую территориальную структуру, управляемую<br />
привычными административными<br />
методами. Но с политической точки зрения<br />
подобное объединение едва ли оправданно:<br />
власти субъекта РФ, в котором живет каждый<br />
восьмой россиянин и производится почти<br />
30 проц. суммарного ВРП страны, неизбежно<br />
создадут для Кремля серьезные риски.<br />
ПРИМЕЧАНИЯ 1 Fujita M., Krugman P., Venables<br />
A. J. The Spatial Economy: Cities, Regions, and<br />
<strong>International</strong> Trade. The MIT Press. Cambridge,<br />
Massachusetts, 2000.<br />
2 Доклад Мирового банка по России за 2005 год.<br />
3 Поступления налога на прибыль от<br />
«Газпромнефти» в бюджет Санкт-Петербурга значительны,<br />
но ее дочерние добывающие структуры<br />
18 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
Горизонтальные взаимодействия властей<br />
Москвы и области, разных муниципалитетов<br />
могут развиваться только под давлением<br />
жителей агломерации и бизнеса, которым эта<br />
интеграция нужна для решения многочисленных<br />
проблем. Давление «снизу» обеспечивают<br />
гражданское общество и система честных<br />
выборов; формирование и того и другого<br />
требует времени, поэтому быстрого решения<br />
проблемы, как интегрировать агломерацию,<br />
не существует. Как она решается «сверху»,<br />
мы уже видели: это очень уж напоминает<br />
рейдерский захват. С помощью прирезанной<br />
территории проблемы развития агломерации<br />
решить нельзя.<br />
Мировой опыт показывает, что можно разработать<br />
и реализовать хорошие планировочные<br />
решения, создать эффективную<br />
транспортную инфраструктуру и систему<br />
общественного транспорта, комфортную для<br />
жизни городскую среду, повысить мобильность<br />
населения, в том числе пожилых<br />
людей, которым облегчается переезд ближе к<br />
природе. Но все это было реализовано в другой<br />
институциональной среде, которой в<br />
России пока нет.<br />
не приписаны юридически к Северной столице, в<br />
отличие от Москвы.<br />
4 В методике измерения доходов учитывается<br />
покупка и продажа валюты.<br />
5 Инвестиции и трансферты из федерального<br />
бюджета представляют собой разные виды финансирования.<br />
Трансферты — это безвозмездные перечисления<br />
из федерального бюджета.
У<br />
спущенного сверху — неожиданно<br />
для публики и экспертного сообщества<br />
— решения о резком расширении<br />
административной территории Москвы<br />
есть, как минимум, одна положительная сторона.<br />
Благодаря ему оживился интерес к расселению<br />
и урбанизации, градостроительству<br />
и градорегулированию, пространственной<br />
организации и самоорганизации общества, а<br />
заодно высветились до сих пор не решенные<br />
или недорешенные проблемы. Среди них<br />
задача выделения городских агломераций, их<br />
превращения из неправовых и бесстатусных<br />
образований, для которых нет общепринятых<br />
критериев и отсутствует официальная статистика,<br />
в информационно-статистические или<br />
даже нормативные единицы, каковыми они<br />
давно стали в ряде западных стран 1 .<br />
Соответствующая научная база сложилась<br />
еще в недрах позднесоветской градостроительной<br />
геоурбанистики, пусть и с поправкой<br />
на секретность, а также очевидный дефицит<br />
данных. Оставалось унифицировать методику<br />
и передать ее ЦСУ СССР для дальнейшего<br />
применения, но советского времени не<br />
хватило, а потом эти исследования прервал<br />
кризис. До былого уровня им и теперь далеко.<br />
Постсоветские управленцы 2000-х годов,<br />
игнорируя научные наработки, увидели в<br />
ТЕМА НОМЕРА<br />
Московская<br />
агломерация<br />
и «Новая <strong>Москва</strong>»<br />
Можно ли направить растущую агломерацию, нигде не стесненную<br />
морем или горами, в каком-либо желаемом, наилучшем направлении?<br />
| АЛЛА МАХРОВА, ТАТЬЯНА НЕФЁДОВА, АНДРЕЙ ТРЕЙВИШ<br />
агломерации средство мобилизации развития,<br />
централизации ресурсов и власти. Отсюда<br />
попытки считать агломерациями произвольные<br />
множества городов, разделенных порой<br />
сотнями километров, а не сложившиеся эволюционным<br />
путем их компактные сгустки 2 .<br />
Агломерацию формирует и объединяет<br />
прежде всего возможность ежедневных маятниковых<br />
поездок, особенно трудовых, из<br />
чего становится ясно, почему радиус агломерации<br />
(при нынешних средствах сообщения)<br />
редко превышает 100 км, а ее площадь может<br />
составлять десятки, но не сотни тысяч кв. км.<br />
Другое дело — скопление агломераций, следующий<br />
ранг в таксономии урбанистических<br />
структур, называемый за рубежом мегалополисом.<br />
Мегалополисов немного в отличие<br />
от агломераций, которых в России, даже по<br />
самым жестким критериям, не менее пятидесяти.<br />
Московская занимает среди них не<br />
просто первое, а поистине уникальное место.<br />
С ее краткой характеристики мы и начнем.<br />
<strong>Москва</strong> и ее окружение: лидерство<br />
в России<br />
Своим положением Московская агломерация<br />
и Московский регион (их границы<br />
полностью не совпадают, но близки) обязаны<br />
своему ядру — столичной Москве. По<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 19
АллА МАхровА, ТАТьянА нефёдовА, Андрей Трейвиш<br />
Таблица 1<br />
ДОЛЯ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В РОССИИ ПО ИЗБРАННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ (В %)<br />
переписи населения 2010 года, здесь его в<br />
2,4 раза больше, чем в Санкт-Петербурге, а в<br />
Московском регионе (с областью) — в 2,8 раза<br />
больше, чем в регионе Северной столицы 3 .<br />
По сравнению с этими двумя прочие города<br />
и урбанизированные регионы страны выглядят<br />
гораздо скромнее. Иначе говоря, среди<br />
наших главных центров не хватает нескольких<br />
ступеней «нормальной иерархии». Такое<br />
утверждение требует пояснения, хотя об<br />
этом уже шла речь, в том числе и на страницах<br />
Pro et Contra 4 .<br />
Ранг-размерное правило Дж. Ципфа, в его<br />
упрощенной версии, требует, чтобы второй<br />
центр идеальной городской системы был<br />
вдвое меньше первого, третий — втрое, четвертый<br />
— вчетверо и т. д. А у нас и Петербург<br />
не дотягивает до размеров города второго<br />
ранга, и нет центров ни с 4-миллионным, ни с<br />
3-миллионным, ни даже с 2—2,5-миллионным<br />
населением. В этом отношении Россия не<br />
похожа на другие страны-гиганты, где верхняя<br />
часть кривой Ципфа близка к «норме»<br />
(США) либо отклоняется от нее в сторону би-<br />
и полицентризма (Китай, Индия и др.). Что<br />
тому причиной — неизбывный централизм<br />
или какие-то другие факторы? Вопрос непро-<br />
20 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
<strong>Москва</strong> Московская область<br />
1990 г. 2000 г. 2010 г. 1990 г. 2000 г. 2010 г.<br />
Численность населения 6,1 6,9 8,1 4,5 4,5 5,0<br />
Численность занятых в экономике 6,9 8,8 9,5 3,9 3,8 4,3<br />
Валовой региональный продукт - 21,0 22,3* - 3,2 4,8*<br />
Инвестиции в основной капитал 6,0 13,4 6,9 3,4 4,4 3,8<br />
Внешняя торговля - 26,1 37,7 - 3,1 3,8<br />
Розничный товарооборот 11,5 29,0 17,5 3,6 4,1 6,2<br />
Ввод жилья 3,7 11,0 3,0 3,9 8,6 13,6<br />
Промышленное производство** 6,7 4,7 10,3 4,9 2,9 7,1<br />
Сбор всех видов налогов - 17,8 21,8 - 3,5 5,0<br />
* Данные за 2009 год<br />
** Согласно классификаторам отраслей, действовавшим на каждую дату<br />
Источники: Регионы России, 2002; Регионы России, 2007; Регионы России, 2011.<br />
стой. Ясно только, что дело не в больших<br />
расстояниях: они, при прочих равных условиях,<br />
содействуют росту сопоставимых по<br />
размерам населения центров, гася накал их<br />
борьбы. Как бы то ни было, Москве и ее региону<br />
нет равных в стране, и не только по числу<br />
жителей. К тому же по большинству показателей<br />
доля Москвы и ее региона в России росла<br />
(см. таблицу 1 на с. 20).<br />
По объемам валового продукта, доходов и<br />
потребления (розничная торговля) в 2009—<br />
2011 годах Московский регион опережал<br />
Петербургский в 4—6 раз, по массе рублевых<br />
банковских вкладов — в 7, доходов консолидированных<br />
бюджетов — в 13,5 раза. Столица,<br />
пользуясь своим статусом, стала главным в<br />
стране центром контроля за финансовыми<br />
и товарными потоками. Ее вклад в экспорт<br />
явно завышен таможенной статистикой, но<br />
все равно <strong>Москва</strong> — основное окно в мир,<br />
первый (даже единственный) претендент на<br />
роль глобального центра и, конечно, главная<br />
витрина реальных и мнимых успехов постсоветской<br />
России. Московская область ей<br />
сильно уступает, но сравнима с Петербургом.<br />
Третье место по валовому региональному<br />
продукту (ВРП) после Москвы и Тюменской
области Подмосковье занимает с 2005-го, а по<br />
строительству жилья стало лидером, обойдя<br />
в 2004 году Москву.<br />
Как возник подмосковный «второй<br />
Петербург», рассеянный по сотням пунктов<br />
вокруг столицы? Его главное отличие от города<br />
на Неве, от регионов-субъектов и от муниципальных<br />
образований состоит в том, что<br />
он никем не учреждался, а сложился в ходе<br />
долгого спонтанного развития Москвы и<br />
окрестностей. Интересно проследить основные<br />
этапы процесса.<br />
История Московской агломерации<br />
Городское (промышленно-городское) агломерирование<br />
— явление Нового времени,<br />
для Средних веков не типичное. Главными<br />
субцентрами в феодальной Московии были<br />
города-крепости и столицы бывших удельных<br />
княжеств, удаленные от нее на 75—200 км и<br />
сгущавшиеся на опасных южном и западном<br />
направлениях 5 . К стенам Москвы жались<br />
не города, а подгородные села, посады,<br />
монастыри. Их появлением регион обязан<br />
развитию торговли и промышленности, разрастанию<br />
сельских промыслов, мануфактур<br />
и фабрик. Лучи дорог, с ХIХ века железных<br />
дорог, задали «звездообразную» форму будущей<br />
агломерации. В начале ХХ века Москву —<br />
десятый по населению город в мире и второй<br />
в России — окружал плотный пояс промышленных,<br />
жилых и дачных предместий.<br />
По переписи 1926 года, агломерация<br />
включала 8 городов и 36 поселков городского<br />
типа (пгт), насчитывая около 2,5 млн<br />
Таблица 2<br />
Московская агломерация и «Новая <strong>Москва</strong>»<br />
человек. За годы первых пятилеток ее людность<br />
выросла более чем вдвое. После войны<br />
развитие транспорта, особенно за счет<br />
электрификации железных дорог, активизировало<br />
трудовые связи, ведя к расширению<br />
зоны двухчасовой доступности Москвы. В<br />
1959-м <strong>Москва</strong> перешагнула 5-миллионный<br />
рубеж, а вся агломерация — 9-миллионный.<br />
Темпы ее роста замедлялись при усложнении<br />
структуры, что выражалось в формировании<br />
агломераций второго порядка (см. таблицу 2<br />
на с. 21). Ближние пригороды Москвы стали,<br />
по существу, ее «внешними районами», и в<br />
1960—1961 годах в состав столицы вошла вся<br />
зона ее ближайших пригородов (5 городов,<br />
14 пгт). Территория была расширена в 2,5<br />
раза, население увеличено на 1 млн человек.<br />
При этом темпы урбанизационных процессов<br />
продолжали убывать по мере расширения<br />
зоны влияния Москвы, повышения плотности<br />
населения и хозяйственной деятельности.<br />
По переписи 1970-го, агломерация<br />
выросла до 11,6 млн человек, приближаясь<br />
по отдельным направлениям к внешним границам<br />
Московской области и имея 16 агломераций<br />
второго порядка.<br />
В 1970-е годы растут отрасли советского<br />
«хайтека» и сферы услуг, завершается электрификация<br />
железных дорог, строятся скоростные<br />
шоссе, возрастает интенсивность<br />
связей. Число городов в агломерации стабилизируется,<br />
но ее население продолжает<br />
расти, достигнув в 1979-м 13,6 млн человек, в<br />
том числе 7,9 млн в Москве. Столичная агломерация<br />
по отдельным лучам сближается с<br />
РОСТ АГЛОМЕРАЦИЙ ВТОРОГО ПОРЯДКА В МОСКОВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ<br />
1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г. 2010 г.<br />
Количество агломераций 8 16 19 21 22<br />
Число городских поселений в них 55 85 92 131 126<br />
В том числе городов 30 44 47 54 75<br />
Численность городского населения, тыс. человек 1 935,9 2 982,7 3 919,6 4 593,7 5 417,8<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 21
АллА МАхровА, ТАТьянА нефёдовА, Андрей Трейвиш<br />
Рисунок 1<br />
агломерациями соседних областных центров,<br />
образуя ту форму расселения надагломерационного<br />
уровня, которую именуют мегалополисом.<br />
В последние 20 лет Московская агломерация<br />
продолжала развиваться, сохраняя<br />
тенденции уплотнения ядра, усложнения<br />
структуры и периметрического расширения.<br />
Для нее характерны следующие черты:<br />
• моноцентризм, связанный с мощью и<br />
влиянием Москвы;<br />
• полицентризм спутниковой зоны (наличие<br />
равных экономических центров и<br />
агломераций второго порядка);<br />
• радиально-концентрическое и секторнопоясное<br />
устройство с резкими различиями<br />
22 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
ОСНОВНЫЕ УРБАНИСТИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ В ЦЕНТРЕ РОССИИ<br />
центр — периферия, асимметрией западной<br />
и восточной частей;<br />
• не вполне обычное для России развитие<br />
окраинных центров и ареалов в местах<br />
транспортных контактов с центрами<br />
соседних областей.<br />
Ближний пояс подмосковных районов<br />
сливается с Москвой, ряд его городов теснее<br />
интегрирован с ней, чем некоторые части<br />
самой Москвы, что напоминает картину конца<br />
1950-х, то есть перед расширением границ<br />
города-ядра. <strong>Москва</strong> с ближними пригородами<br />
— это фактически зона сплошной застройки,<br />
так называемый реальный (физический)<br />
город, который по отдельным направлениям<br />
заходит в муниципалитеты второго пояса.
Расползание города в пригороды дополнено<br />
расширением во все стороны самой<br />
агломерации, что обостряет транспортные<br />
проблемы (в том числе из-за дорожных<br />
пробок) и конфликты землепользования,<br />
разрушает экологический каркас. В то же<br />
время автомобилизация и рост скоростей на<br />
железных дорогах (за счет экспресс-поездов<br />
до центров смежных областей) расширяли<br />
ареал трудовых связей, отодвигая изохрону<br />
двухчасовой доступности Москвы за границу<br />
области. Однако главная причина этого<br />
расширения состоит не в улучшении транспортной<br />
доступности, а в концентрации привлекательных<br />
рабочих мест в столице при их<br />
нехватке в провинции. По разным данным,<br />
число маятниковых мигрантов в Москву<br />
достигает ныне 1—1,3 млн человек (к 1990<br />
году оно оценивалось в 750 тысяч). В 2000-х<br />
вырос и поток маятниковых мигрантов из<br />
Москвы в Московскую область, особенно в<br />
ближние пригороды, из-за субурбанизации<br />
офисно-деловых и торгово-развлекательных<br />
функций, особенно землеёмких.<br />
Места приложения труда множились и<br />
дальше от Москвы, в очагах ускоренного<br />
роста отраслей, ориентированных на региональный<br />
рынок (Ступино, Клин и др.). Там<br />
ежедневный въезд на работу стал превышать<br />
выезд. Многие жители таких очагов работают<br />
в Москве, а новые рабочие места занимают<br />
мигранты из соседних городов и даже<br />
областей. Возник феномен «замещающей<br />
занятости», наиболее характерный для агломераций<br />
второго порядка.<br />
Перепады в доходах населения между<br />
Москвой, Московской и окружающими областями,<br />
гиперактивный рынок труда стали<br />
Московская агломерация и «Новая <strong>Москва</strong>»<br />
важными факторами развития агломерации,<br />
расширения зоны «водосбора» трудовых<br />
миграций. Жители центральных регионов<br />
страны едут в Москву и Подмосковье в<br />
режиме недельных и других рабочих циклов<br />
(аналоги вахтового метода). Это своеобразное<br />
отходничество конца ХХ — начала ХХI<br />
века усиливает связи в рамках уже не только<br />
столичной агломерации, но и Центрального<br />
мегалополиса с населением порядка 30 млн<br />
человек, общая структура которого показана<br />
на рисунке 1 (см. с. 22). Отрыв Москвы и ее<br />
“Ближний пояс подмосковных районов сливается<br />
с Москвой, ряд его городов теснее интегрирован с ней,<br />
чем некоторые части самой Москвы”.<br />
агломерации как центра этого мегалополиса<br />
от окраин по уровню жизни ускоряет опустошение<br />
староосвоенных территорий, создавая<br />
огромные контрасты между центром и глубинкой<br />
с ее сельской местностью и небольшими<br />
городами.<br />
Постиндустриальные сдвиги в экономике<br />
Подмосковья усиливают роль сервисных<br />
функций как градообразующих и в так называемых<br />
окраинных, или концевых (edge cities),<br />
городах. Их можно разделить на две группы.<br />
Одна (Химки, Красногорск, Одинцово и ряд<br />
других ближних спутников столицы) примыкает<br />
к городу-ядру и быстро наращивает<br />
офисно-деловые и торгово-развлекательные<br />
функции в расчете на спрос москвичей и<br />
своих жителей. Другая группа — это ядра агломераций<br />
второго порядка, расположенных<br />
как в Московской, так и в соседних областях.<br />
Часть из них — Дубна, Ступино, Обнинск —<br />
тоже развились в центры приложения труда и<br />
потребления, приуроченные уже к внешним<br />
рубежам агломерации, что говорит о появлении<br />
признаков относительно самодостаточной<br />
постсубурбии североамериканского<br />
типа 6 . В дальних пригородах, в отличие от<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 23
АллА МАхровА, ТАТьянА нефёдовА, Андрей Трейвиш<br />
ближних, новые отрасли возникают в ходе<br />
реиндустриализации, ориентированной на<br />
рынок не только столицы, но и всей агломерации<br />
(пищевая и мебельная промышленность,<br />
выпуск строительных материалов и др.).<br />
Ключевая функция агломераций второго<br />
порядка в составе Московского региона —<br />
регулирование перегруженности Москвы.<br />
Сверхконцентрация столичных и экономических<br />
функций вкупе с растущими объемами<br />
селитебной * нагрузки позволяет рассматривать<br />
эти субагломерации в качестве опорных<br />
элементов при возможном перераспределении<br />
ролей путем их частичной передачи из<br />
столицы.<br />
Вопрос о структуре Московской агломерации<br />
остается открытым и трактуется<br />
по-разному. Тем не менее ясно, что в постсоветский<br />
период пропорции внутри агломерации<br />
изменились в пользу ядра за счет его<br />
ускоренного роста. В целом такая динамика<br />
соответствует стадии классической крупногородской<br />
урбанизации, когда основной демоэкономический<br />
потенциал сосредоточен в<br />
ядре, а центростремительные потоки, прежде<br />
всего трудовые, доминируют над центробежными.<br />
В 1990-х годах, при общем спаде<br />
экономики, она в Москве росла. Но в 2000-х<br />
началось социально-экономическое «подтягивание»<br />
пригородов к Москве (см. таблицу 1<br />
на с. 20), что можно рассматривать как признак<br />
процесса субурбанизации хозяйства в<br />
виде диффузии промышленных и сервисных<br />
функций в пригородную зону.<br />
Указанные тенденции усиливают полицентричность<br />
зоны спутников и ведут к<br />
постепенной трансформации Московской<br />
агломерации в город-регион. Этот процесс<br />
тоже чреват проблемами — от коммунально-бытовых<br />
до административно-управлен-<br />
* Cелитебный — предназначенный под застройку<br />
или находящийся под застройкой (о земле, населенных<br />
пунктах).<br />
24 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
ческих. Уплотнение и слияние с Москвой<br />
ближних пригородов достигли такой степени,<br />
что любая граница там условна и вырождается<br />
в более или менее плавный градиент.<br />
Субурбанизация селитебных функций постепенно<br />
меняет географию экономики (особенно<br />
сервисной) и потребления, перераспределяя<br />
их внутри агломерации. Вытеснение<br />
из ближнего пояса заводов, научных учреждений<br />
и сельскохозяйственных угодий, проигрывающих<br />
в конкуренции за землю, еще<br />
не означает, что область в целом их теряет.<br />
Напротив, ее реиндустриализация в 2000-х<br />
годах по всем признакам была заметнее, чем<br />
в столице. И агросектор немногим более<br />
дальних зон сохраняет высокие показатели<br />
продуктивности.<br />
Территория пригорода активно используется<br />
логистикой. В ряде муниципалитетов<br />
логистические функции стали ведущими<br />
отраслями специализации, как, например,<br />
в Домодедовском, Подольском, Чеховском<br />
муниципальных районах и городском округе<br />
Химки, что связано с их близостью к аэропортам<br />
и с их транзитным положением.<br />
Мобильность населения и рынок<br />
жилья<br />
Есть сомнения в том, что границы агломераций<br />
можно выделять строго, объективно и<br />
однозначно. В мире существуют разные практики:<br />
что такое, скажем, «Рейн — Рур»? Одна<br />
агломерация или несколько? Отечественная<br />
традиция опоры на изохроны транспортной<br />
доступности города-ядра для маятниковых<br />
мигрантов понемногу подвергается «эрозии».<br />
В состав образующих агломерацию<br />
поселений все чаще пытаются включать дачно-садовые<br />
поселения, занимающие земли<br />
разных категорий. Еще меньше оснований<br />
для включения мест, откуда приходят «вахтовики-отходники»:<br />
это уже не суточный, а<br />
недельный, сезонный и другие ритмы, что<br />
меняет понимание агломерации как группы
населенных мест, связанных именно суточными<br />
ритмами жизнедеятельности.<br />
Если бы удалось рассчитать размеры «времянаселения»<br />
(в человеко-сутках) тех же дачных<br />
мест, то они во многих случаях вряд ли<br />
были бы велики, хотя сами потоки очень внушительны.<br />
По оценке Григория Гольца, поток<br />
отдыхающих из Москвы в область в летний<br />
выходной день еще в 1980-х превышал 2 млн<br />
человек, а в зимний — 1 млн человек 7 . Число<br />
дачников, выезжавших из столицы на более<br />
долгий срок, приближалось тогда к 0,7 млн,<br />
причем каждый третий ежедневно курсировал<br />
между Москвой и дачей как местом<br />
ночлега.<br />
Признаком этих процессов стал бум на<br />
рынке подмосковного жилья. С 2004 года<br />
Московская область лидирует в России по его<br />
строительству, увеличив за последние пять<br />
лет отрыв от столицы втрое. Основную долю<br />
жилья возводят индивидуальные застройщики,<br />
хотя для постоянного проживания рассчитана<br />
его меньшая часть. Доля частных домов<br />
к концу ХХ века достигала 60 проц. вводимой<br />
в Подмосковье площади жилья. В 2000-х ее<br />
потеснила многоэтажная застройка, но масштабы<br />
индивидуальной тоже велики.<br />
Возведение многоэтажного жилья в<br />
Подмосковье стало более распространенной<br />
практикой даже по сравнению с советской. С<br />
середины 2000-х годов девелоперы выводили<br />
на рынок целые жилые мегапроекты («А-101»,<br />
«Новое Ступино», «Большое Домодедово»,<br />
«Олимпик-Сити» и др.). Однако подмосковный<br />
рынок квартирного жилья ориентирован<br />
скорее на внешний спрос, чем на реальную<br />
субурбанизацию 8 . По данным Московской<br />
областной регистрационной палаты, доля<br />
покупателей из других регионов превышала<br />
одну треть, из Москвы — более 15 проц.,<br />
остальное жилье приобреталось жителями<br />
области. Это говорит о центростремительной<br />
тенденции: выходцы из других регионов<br />
и стран обычно нацелены на приобрете-<br />
Московская агломерация и «Новая <strong>Москва</strong>»<br />
ние жилья в столице, но из-за высоких цен<br />
довольствуются Подмосковьем. На рынке<br />
пригородного индивидуального жилья доля<br />
москвичей гораздо выше: на них приходится<br />
уже половина сделок, отражающих растущую<br />
популярность «своего дома с лужайкой» и<br />
появление коттеджных поселков. Пока они<br />
ориентированы на состоятельное население,<br />
но с переселением москвичей на постоянное<br />
жительство в коттеджные и дачные поселки<br />
Подмосковья сезонная субурбанизация может<br />
постепенно меняться на субурбанизацию<br />
западного типа.<br />
Единство Московской агломерации обусловлено<br />
не только территориальной сомкнутостью<br />
ее ядра и пригородной зоны, но<br />
и устойчивостью связей между ними. Общая<br />
транспортная инфраструктура, маятниковые<br />
миграции, тесные экономические, финансовые,<br />
культурно-бытовые, рекреационные<br />
связи позволяют считать агломерацию единым<br />
целым. Однако налицо специфика подхода<br />
властей к этому целому.<br />
Старые и новые реконструктивные<br />
идеи<br />
Прожекты благоустройства Москвы, известные<br />
с екатерининской поры, не имели до<br />
революции такого размаха, как в советское<br />
время. Полезно кратко напомнить об этом<br />
опыте, сопоставляя его с реальными процессами.<br />
В 1920-х годах вместе с планом ГОЭЛРО<br />
и экономическими концепциями опоры на<br />
местные ресурсы была заложена вытянутая<br />
с севера на юг форма Московской области,<br />
включившей Московскую, Рязанскую,<br />
Тульскую, части Тверской и Калужской<br />
губерний. Иначе развивались концепции<br />
расселения. Наиболее дальновидными, предугадавшими<br />
реальное развитие Московской<br />
агломерации можно признать проекты<br />
Бориса Сакулина и Сергея Шестакова. Оба<br />
предлагали радиально-кольцевое устройство<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 25
АллА МАхровА, ТАТьянА нефёдовА, Андрей Трейвиш<br />
Большой Москвы. Сакулин считал необходимыми<br />
крупные города с развитой промышленностью,<br />
но видел Москву прежде всего<br />
культурным и научным центром, передавшим<br />
производственные функции поясам агломерации<br />
9 . Зона промышленного развития у него<br />
вытянута с севера — северо-запада (Дмитров,<br />
Сергиев-Посад, Александров) на юг — юговосток<br />
(Серпухов, Коломна). Через сто лет<br />
именно этот вектор обозначил зону устойчивого<br />
развития производства в Московской<br />
агломерации 10 . Кроме того, он рассматривал<br />
развитие Москвы в рамках обширного реги-<br />
она от Рыбинска и Ярославля до Калуги и<br />
Тулы и от Ржева до Владимира, который, как<br />
показано выше, сформировал мощный мегалополис.<br />
Более популярными были идеи «городов-садов».<br />
Дискуссия 1920-х о соцгородах и<br />
Москве вообще стала собранием утопий 11 .<br />
Даже урбанисты, сторонники сохранения<br />
города, мыслили его как средний по нынешним<br />
меркам — до 80—100 тыс. человек.<br />
На практике это свелось к созданию прифабричных<br />
поселков на окраинах, затруднивших<br />
интеграцию растущего города. Конкурс<br />
схем перепланировки Москвы выявил смелые<br />
концепции направленного развития, причем<br />
схема Николая Ладовского (1930—1933) напоминала<br />
нынешний «галстук», только развернутый<br />
на запад-северо-запад, хотя реализована<br />
она не была. Более реалистичным считается<br />
проект Г.Б. Красовского (1931), в котором<br />
лучи расходятся в разные стороны по магистралям.<br />
Тогдашний проектировочный<br />
«взрыв» питал идеями последующие периоды,<br />
несмотря на то, что их лимитировали недостаток<br />
ресурсов и решения властей.<br />
26 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
В ходе индустриализации 1930—1950-х возобладал<br />
централизованно-отраслевой принцип<br />
управления промышленностью. При<br />
этом границы Московской области меняли<br />
шесть раз. Генеральный план реконструкции<br />
и развития Москвы 1935 года расширял территорию<br />
столицы, выделял лесопарковый<br />
пояс (десятикилометровой ширины) и пригородную<br />
зону (50 км). Это положило начало<br />
подходу к ближайшим районам Московской<br />
области как к дополнению Москвы, по планам<br />
— рекреационно-экологическому, а в<br />
жизни гораздо более широкому. В самой сто-<br />
“Можно ли направить растущую агломерацию, нигде<br />
не стесненную морем или горами, в каком-либо желаемом,<br />
наилучшем направлении?”<br />
лице при всех достижениях (метро, высотки)<br />
велики были потери культурного наследия<br />
(храм Христа Спасителя и многое другое) и<br />
объемы нереализованных замыслов, включая<br />
кольцевые и хордовые магистрали, по сей<br />
день дефицитные. Но главное — это надежды<br />
сдержать рост Москвы и затем ее соседей<br />
паспортным режимом начиная с 1932-го.<br />
Такие попытки характерны и для следующих<br />
этапов. Так, постановление 1956 года<br />
о запрете создавать и расширять промышленные<br />
предприятия распространялось как<br />
на Московскую область, так и на центры<br />
соседних областей (Иваново, Рязань, Тула и<br />
др.). Роста агломерации это не остановило.<br />
К расчетному сроку первого генплана (1960)<br />
население Москвы превысило намеченную<br />
цифру на 1,2 млн человек. При этом мигранты,<br />
оседая у ее границ, тем самым способствовали<br />
периметральному росту пригородов и<br />
их фактическому слиянию. Внешние границы<br />
столичной области были еще одним барьером.<br />
Эта схема работает по сей день; правда,<br />
стали ниже административные пороги, зато<br />
выше ценовые.
При всех попытках сдержать рост региона<br />
его роль и статус повышались. Он все<br />
активнее притягивал учреждения науки,<br />
вузы, техникумы, хотя с 1963-го их создание<br />
было тоже запрещено. В то же время<br />
возврат к ведомственно-отраслевому управлению<br />
после крат кой эпохи совнархозов<br />
вызвал рост министерского аппарата с его<br />
научно-проектным и прочим обеспечением.<br />
Массовое жилищное строительство быстро<br />
осваивало приданные столице территории,<br />
и ей вновь становилось тесно. Стала популярна<br />
концепция городов-спутников, но<br />
лишь новых (Зеленоград). Другие города<br />
резервом для разгрузки столицы не считались,<br />
а росли независимо от установок.<br />
Ситуацию пытались переломить. Так, схема<br />
районной планировки Московской области<br />
в 1970-х предусматривала опережающее развитие<br />
ее периферии 12 . Предлагалась также<br />
«эшелонированная» схема центров — противовесов<br />
Москвы 13 . Обе явно переоценивали<br />
возможности выравнивания территориальных<br />
различий.<br />
Лишь к началу 1980-х в новом Генплане<br />
развития Москвы до 2010 года вновь (после<br />
периода забвения с 1920-х) рассматривались<br />
три варианта развития агломерации в целом:<br />
(1) за счет формирования компактного<br />
ядра, (2) за счет строительства городов-спутников<br />
и (3) по избранным направлениям.<br />
Хотя самым перспективным был признан<br />
третий вариант, фактически возобладал<br />
первый 14 . Новейшее расширение Москвы<br />
с этих позиций может показаться настоящим<br />
прорывом, ведь это расширение явно<br />
направленное. Настораживает то, что оно<br />
не увязано с каким-либо планом развития<br />
всей Московской агломерации. Более того,<br />
ее перегораживание «галстуком» вряд ли<br />
оптимизирует пространственную структуру.<br />
Впрочем, нельзя не заметить, что решение<br />
было принято не случайно и не случайным<br />
способом.<br />
Московская агломерация и «Новая <strong>Москва</strong>»<br />
Галстук или жабо?<br />
Местное самоуправление у нас подавлялось<br />
так долго, что оказалось ослаблено и в целом,<br />
и в сфере межмуниципальной координации.<br />
Здесь и кроется оправдание волевого<br />
решения о «Новой Москве»: иначе, мол, все<br />
утонуло бы в обсуждениях и согласованиях.<br />
Оставим в стороне вопрос о том, лучше<br />
ли будет Москве с «галстуком» до границ<br />
Калужской области. Однако заметим, что<br />
если все время прибегать к такому стилю принятия<br />
решений, то иного не будет никогда,<br />
но тогда и расширять Москву, как все крупные<br />
города России, надо куда решительнее.<br />
Если нет надежд на сотрудничество местных<br />
властей, то всем агломерациям страны от<br />
управленческого хаоса надо прописать единоначалие,<br />
требующее расширения черты<br />
центрального города всюду, куда агломерация<br />
дотянется. Получится уже не галстук, а целое<br />
средневековое жабо а-ля мельничный жернов.<br />
Гонка административного города за<br />
растущим реальным типична для советской<br />
и московской практики: достаточно вспомнить,<br />
как Москву на рубеже 1960-х годов расширили<br />
«на вырост», до построенной тогда<br />
же МКАД. Эта практика отличается от западной,<br />
когда растущие города с усложняющейся<br />
структурой сами ищут механизмы взаимодействия<br />
ее элементов, обходясь без периодической<br />
перекройки административных<br />
границ 15 . Наша, условно восточная, схема —<br />
это всякий раз по существу административнотерриториальная<br />
реформа, тотальная или<br />
локальная, открыто названная таковой или<br />
проводимая под видом микрокоррекции границ.<br />
Вообще-то в федеративном государстве<br />
такие реформы, затрагивающие состав его<br />
субъектов, требуют особых процедур.<br />
Но дело не только в этом. Есть гораздо<br />
более фундаментальный вопрос: а можно ли<br />
вообще направить растущую агломерацию,<br />
нигде не стесненную морем или горами, в<br />
каком-либо желаемом, наилучшем направ-<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 27
АллА МАхровА, ТАТьянА нефёдовА, Андрей Трейвиш<br />
лении или ей суждено расплываться во все<br />
стороны по схеме масляного пятна? Ключевое<br />
слово здесь — растущая. В самом деле, в первооснове<br />
вышеописанных процессов и проблем<br />
лежит рост экономики, населения и<br />
его благосостояния, выделяющий Москву и<br />
Подмосковье на российском фоне, их отрыв<br />
по показателям доходов и потребления, качества<br />
учебы, карьеры и социальной защиты, по<br />
престижу и выгоде от близости верховной власти.<br />
Правда, имеются уже отмеченные нами<br />
признаки центробежных процессов, но преобладание<br />
центростремительных пока налицо.<br />
Взаимоотношения ядра агломерации и ее<br />
окружения, периметральное расползание<br />
Москвы по основным транспортным лучам<br />
(реальная Большая <strong>Москва</strong>), транспортный и<br />
экологический коллапс давно волнуют общественность.<br />
Гламурная издалека, в реальной<br />
жизни <strong>Москва</strong> местами становится непригодной<br />
для нормального существования. Власть<br />
же, не имея механизмов системного решения<br />
проблем всей агломерации, часто хватается<br />
за решения «островные». Порой трудно избавиться<br />
от впечатления, что она не столько<br />
решала проблемы, сколько пыталась убежать<br />
от них и от самой Москвы на какое-то не<br />
очень дальнее, но свежее, менее перегруженное<br />
место.<br />
Как бы то ни было, решение о «галстуке»<br />
было принято и одобрено обеими думами —<br />
городской и областной, и его предстояло<br />
облечь в конкретные планировочные формы.<br />
Но какие и кем? На этот раз, возможно полнее<br />
осознав масштабы задачи и самого объекта,<br />
власти пошли другим путем. Это уже<br />
другая, самоновейшая история.<br />
Современные концепции: конкурс 2012<br />
года<br />
В начале 2012-го, впервые после 1930 года,<br />
был объявлен международный конкурс на<br />
разработку проекта Концепции развития<br />
Московской агломерации. Независимо от<br />
28 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
результатов, он привлек большое внимание<br />
к ее проблемам, а участие известных иностранных<br />
архитектурных бюро позволило<br />
по-новому взглянуть на объект и его перспективы.<br />
Особых «идеологических» расхождений<br />
в видении задач и траекторий развития<br />
Москвы и агломерации среди команд не<br />
было: все они опирались на современные<br />
урбанистические концепции — нового<br />
урбанизма, устойчивого развития города,<br />
«умного» города/региона, реурбанизма.<br />
Каждая команда включала и российских, и<br />
зарубежных участников, что тоже сближало<br />
их позиции. И все предлагали «гуманизацию»<br />
городской среды, сохранение природных<br />
ландшафтов и озелененных территорий,<br />
создание экокварталов, комфортной для<br />
пешеходов городской среды, регенерацию<br />
промышленных зон, развитие субцентров,<br />
создание культурных, креативных и публичных<br />
пространств. Но именно иностранцы с<br />
их установками на «гуманизацию» и создание<br />
дружелюбной городской среды видят будущее<br />
Москвы как «города среди лесов», дарящего<br />
«радость жизни» (Антуан Грюмбах), как<br />
«тайги-метрополиса» («Лаук»), как «городского<br />
великолепия» (итальянская «Студио Ас<br />
Сечи — Вигано»). Все команды предлагали<br />
активно развивать транспортную систему с<br />
новыми радиальными магистралями в югозападном<br />
секторе, поперечными связками,<br />
соединением аэропортов высокоскоростной<br />
железной дорогой, экспресс-линиями автобуса<br />
и трамвая, связывающими центр Москвы с<br />
новыми территориями.<br />
В основе проекта испанской команды<br />
Рикардо Бофилла лежала идея «умного<br />
линейного города» по двум направлениям<br />
(южному вдоль Варшавского шоссе и югозападному<br />
вдоль Киевской железной дороги),<br />
соединяемым в районе Коммунарки в единую<br />
юго-западную ось. «Линейный интегрированный<br />
город» предполагает освоение незастро-
енных территорий в пригороде и реорганизацию<br />
производственных территорий внутри<br />
Москвы.<br />
Эти идеи, включая создание юго-западной<br />
транспортной «петли» для связи центра с<br />
новым «галстуком», близки к установкам<br />
архитектурно-дизайнерской мастерской<br />
Андрея Чернихова. Но российская команда<br />
видит Москву не «линейным городом», а<br />
«городом-архипелагом» с приоритетом «конкурентности<br />
Москвы как глобального города»<br />
и как «матрицы развития российских горо-<br />
дов». Правда, возникает вопрос: как стремительно<br />
растущий глобальный город станет<br />
«матрицей» для других, 85 проц. которых<br />
представлены малыми и средними городами<br />
с их особыми проблемами? Предлагая интенсифицировать<br />
внутренние территориальные<br />
ресурсы развития старой («безгалстучной»)<br />
Москвы, в Новой Москве авторы, напротив,<br />
предлагают внедрять новые функции<br />
на участки, свободные от застройки, новые<br />
точки роста.<br />
Команда «О.М.А.» (Нидерланды) рассматривает<br />
Московскую агломерацию в<br />
свете представлений об агломерации как<br />
«городе-регионе», предлагая ее «переориентацию»<br />
в полицентрическую из пяти ядер,<br />
включая старую Москву, в виде пяти олимпийских<br />
колец. По сути, это популярная<br />
идея аэропортосити, с новыми ядрами на<br />
базе Домодедова, Внукова, Шереметьева,<br />
Чкаловского, что позволит равноценно развивать<br />
несколько лучей агломерации. Вот<br />
только недоучет сложившегося расселения<br />
может вести к «утяжелению» агломераций<br />
второго порядка и их центров, на месте<br />
которых (хотя и без их упоминания) наме-<br />
Московская агломерация и «Новая <strong>Москва</strong>»<br />
чены ядра 16 . Как и предложения команды<br />
Чернихова, это чревато сильным уплотнением<br />
застройки ближних и средних пригородов<br />
и дальнейшим расползанием Москвы по<br />
принципу масляного пятна.<br />
Команда ЦНИИП Градостроительства<br />
тоже видит Московскую агломерацию как<br />
«город-архипелаг», но предлагает совместить<br />
схемы спутникового и направленного роста<br />
(один коридор вдоль Москвы-реки, другой — в<br />
направлении с юго-запада на северо-восток).<br />
Идея раскрытия потенциала Москвы-реки<br />
“Порой власть не столько решала проблемы, сколько<br />
пыталась убежать от них и от самой Москвы на какое-то<br />
не очень дальнее, но менее перегруженное место”.<br />
используется в концепциях многих команд:<br />
«<strong>Москва</strong> — роскошная река» у французской<br />
«Лаук», «<strong>Москва</strong> = Москве» у команды<br />
«Остоженка», которая рассматривает реку как<br />
связующее звено развития, «Город на реке» у<br />
американской «Урбан Дизайн Ассошиэйтис».<br />
В основе концепции команды Грюмбаха<br />
лежит формирование «линейного города»<br />
в юго-западном и западном направлениях<br />
за счет наращивания транспортной инфраструктуры,<br />
новых колец и радиусов. В целом,<br />
как и проект команды Чернихова, эту работу<br />
выделяет глубокая проработка структуры и<br />
проблем развития агломерации, но с серьезной<br />
опорой на существующий каркас расселения<br />
при определении приоритетных узлов<br />
развития. Спорной представляется идея<br />
формирования новых градостроительных<br />
узлов («ворот Москвы») на МКАД, вся зона<br />
которой — самая перегруженная территория<br />
со сложной экологией.<br />
Стержнем концепции парижской<br />
команды «Лаук» стала оригинальная идея<br />
развития «поперечного линейного города»<br />
вдоль новой скоростной магистрали,<br />
соединяющей аэропорты Домодедово и<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 29
АллА МАхровА, ТАТьянА нефёдовА, Андрей Трейвиш<br />
Внуково через центр города (Домодедово —<br />
Подольск — Правительственный центр —<br />
Троицк — Внуково — Сколково — центр города<br />
— Шереметьево). Это предложение может<br />
ускорить превращение Московской агломерации<br />
не только в город-регион, но и в относительно<br />
равномерно заселенную территорию.<br />
К тому же это один из немногих проектов,<br />
который не ограничивается территорией<br />
Новой Москвы, а затрагивает и другие пригороды.<br />
Российское архитектурное бюро<br />
«Остоженка» развивает Москву как «компактный<br />
город» за счет внутренних резервов (по<br />
оценкам авторов, общая площадь неэффективно<br />
используемых территорий достигает<br />
21 тыс. га, что позволяет построить 210 млн<br />
кв. м недвижимости). На новых же территориях<br />
предложено сохранять ценные природные<br />
ландшафты, развивать бальнеологические<br />
курорты, реабилитационные центры,<br />
агропарки, новые общественные и рекреационные<br />
зоны. Риски в этом случае связаны с<br />
усилением центростремительных миграций<br />
в результате строительства жилья и новых<br />
рабочих мест в срединной зоне города, а не<br />
на периферии.<br />
«Студио Ас Сечи — Вигано» предлагает<br />
развивать Москву как «ячеистый парковый<br />
город». Принципами этой концепции<br />
являются экология, интеграция городских<br />
пространств и обеспечение непрерывной<br />
центральности. Расчеты ячеистой структуры<br />
и параметров застройки определили шансы<br />
и пределы развития, включая природный<br />
ландшафт городов, потенциал демографической<br />
и градостроительной емкости ячеек на<br />
присоединенных территориях и в границах<br />
старой Москвы.<br />
Речная тема, идея «города на реке», — ядро<br />
концепции американской команды «Урбан<br />
Дизайн Ассошиэйтис», которая, как и итальянская,<br />
предлагает уделять особое внимание<br />
особенностям существующего ландшафта при<br />
30 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
развитии территории и создании зон нового<br />
освоения. Еще одной сквозной для всех<br />
команд темой стала реорганизация производственных<br />
территорий во внутренней Москве.<br />
Как и у других команд, здесь есть своя радикальная<br />
идея — нового Центрального железнодорожного<br />
вокзала в районе Зарядья (радикализма<br />
тут, конечно, меньше, чем в идее Ле<br />
Корбюзье 1930-х построить Москву заново<br />
после сноса всей исторической застройки,<br />
кроме отдельных памятников Кремля).<br />
Конкурсное задание предусматривало<br />
полимасштабный подход, то есть разработку<br />
концепций на нескольких уровнях<br />
(Центральный федеральный округ,<br />
Московская агломерация, <strong>Москва</strong> и ее югозападный<br />
«галстук», зоны размещения федерального<br />
правительственного центра) 17 .<br />
Однако в большинстве проектов развитие<br />
старой и новой, расширенной Москвы проработано<br />
лучше всего. Фактически основными<br />
результатами стали предложения по развитию<br />
присоединенного юго-западного сектора<br />
и реорганизации производственных территорий,<br />
расположенных в старых границах<br />
города. Проекты часто недоучитывали существующие<br />
диспропорции развития Москвы,<br />
ее пригородов (кроме юго-западных) и всей<br />
агломерации, например, между расселением<br />
людей и размещением мест приложения<br />
труда.<br />
Из «экстерналий», предопределивших<br />
ограниченность эффекта от разработанных<br />
командами идей, можно выделить две важнейшие.<br />
Во-первых, жесткие условия конкурса,<br />
включая безальтернативность юго-западного<br />
направления развития Москвы. Во-вторых,<br />
номинальное участие властей в обсуждении<br />
предлагаемых проектов. При этом, если первое<br />
ограничение кто-то и мог преодолеть, то<br />
второе, связанное с ментальностью московских<br />
и российских властей, ставило команды<br />
в тупик 18 . Тиражирование прессой немногословных<br />
высказываний Владимира Путина
ставило в тупик разработчиков по поводу<br />
степени поддержки им ранее принятых решений<br />
по расширению Москвы. В кулуарах сам<br />
конкурс получил название «дымовой завесы»:<br />
дескать, он сам по себе, а решения по Москве<br />
и Московской агломерации примут безотносительно<br />
к его результатам, как проявление<br />
личного видения «философии» развития<br />
города правящей элитой.<br />
Ясно одно: резкий поворот в развитии<br />
Московской агломерации налицо, а будет<br />
ПРИМЕЧАНИЯ 1 Там же на рубеже XIX— XX веков<br />
возник термин «агломерация», стали складываться<br />
первые научные школы изучения этого продукта<br />
урбанизации (Альфред Вебер, Георг Зиммель,<br />
Патрик Геддес и др.).<br />
2 Ситуация не нова и напоминает историю<br />
с городами-спутниками. Статус города-спутника<br />
получил построенный в 1960-х Зеленоград, а не<br />
Подольск, Люберцы, Мытищи и другие реальные<br />
спутники Москвы. Между тем развитую моноцентрическую<br />
агломерацию отличает от единичного<br />
города, хотя бы очень большого, именно зона<br />
многочисленных спутников.<br />
3 Напомним, что питерская агломерация<br />
покрывает меньшую часть Ленинградской области,<br />
чем <strong>Москва</strong> — Московской, поскольку первая в 1,8<br />
раза обширнее и ее северо-восточные окраины удалены<br />
от Петербурга на три сотни километров.<br />
4 Смирнягин Л. Трудное будущее российских городов<br />
// Pro et Contra. Т. 11. 2007. № 1 (35). С. 56—71.<br />
5 См.: Московский столичный регион:<br />
Территориальная структура и природная среда.<br />
М.: ИГАН СССР, 1988. С. 77; Трейвиш А.И. Город,<br />
район, страна и мир: Развитие России глазами<br />
страноведа. М.: Новый хронограф, 2009. С. 154.<br />
6 Golubchikov O., Phelps N., Makhrova A. From<br />
Closed City to Edge City? Governing Growth at the<br />
Periphery of Moscow — the Case of Khimki. //<br />
<strong>International</strong> Perspectives on Suburbanization: A Post-<br />
Suburban World? / N. Phelps, F. Wu (eds). Palgrave;<br />
MacMillan, 2011. P. 177—191.<br />
7 Московский столичный регион:<br />
Территориальная структура и природная среда.<br />
М.: ИГАН СССР, 1988. С. 254.<br />
Московская агломерация и «Новая <strong>Москва</strong>»<br />
ли он успешным или неудачным, реальным<br />
либо снова утопичным, устойчивым или<br />
эфемерным, принесет всей стране пользу<br />
или вред, судить еще рано. Как показывает<br />
весь опыт развития столицы, процесс<br />
трансформации занимает не менее 20—25<br />
лет, в течение которых могут быть приняты<br />
и реализованы новые градостроительные<br />
решения, меняющие и границы, и всю<br />
систему функционирования столичной<br />
агломерации.<br />
8 Махрова А.Г. Территориальная дифференциация<br />
рынка загородного жилья в Московской области<br />
//Вест. Моск. ун-та. Сер. 5. География. 2006.<br />
№ 2. С. 29—34.<br />
9 См.: Сакулин Б.В. Городское строительство:<br />
План застройки в городах и пригородах //<br />
Техника, строительство и промышленность. 1922.<br />
№ 1. С. 16—20; № 3. С. 13—21; № 4-5. С. 19—28.<br />
Астафьева-Длугач М. Первые схемы социалистического<br />
расселения в СССР // Архитектура СССР.<br />
1970. № 6. С. 14—17; Московский столичный регион:<br />
Территориальная структура и природная среда.<br />
С. 208.<br />
10 Махрова А.Г., Нефедова Т.Г., Трейвиш А.И.<br />
Московская область сегодня и завтра: Тенденции<br />
и перспективы пространственного развития.<br />
М.: Новый хронограф, 2008. С. 179.<br />
11 Тут были проекты «Города на рессорах»<br />
Александра Лавинского, «Горизонтальных<br />
небоскребов» Эля Лисицкого, «Города на опорах»<br />
Лазаря Хидекеля, «Города-линии» Виталия<br />
Лаврова и «Летающего города» Георгия Крутикова,<br />
подробно см.: Любовный В.Я., Сдобнов Ю.А. <strong>Москва</strong><br />
и столичный регион: Проблемы регулирования<br />
социально-экономического и пространственного<br />
развития. М.: Экон-информ, 2011. С. 110—125.<br />
12 Правы, однако, оказались критики этой<br />
утопической идеи, см.: Гохберг М.Я., Соловьев Н.А.<br />
Проблемы развития и размещения производительных<br />
сил Центрального экономического района.<br />
М.: Мысль, 1975.<br />
13 Листенгурт Ф.М., Наймарк Н.И. Прогноз формирования<br />
и развития сети городских поселений<br />
и систем расселения в ЦЭР // География произ-<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 31
АллА МАхровА, ТАТьянА нефёдовА, Андрей Трейвиш<br />
водительных сил Центральной России. М.: МФГО<br />
СССР, 1971. С. 113—121.<br />
14 См.: Московский столичный регион:<br />
Территориальная структура и природная среда.<br />
С. 220.<br />
15 В США мало кого волнует тот факт, что столичный<br />
Вашингтон перерос рамки федерального<br />
округа Колумбия с 0,6 млн постоянных жителей,<br />
число которых днем удваивают маятниковые<br />
мигранты из почти 5-миллионных пригородов<br />
на территории штатов Виргиния и Мэриленд. К<br />
официальному Парижу (105 кв. км с 2 млн человек)<br />
конечно же надо добавлять 9—10 млн фактических<br />
парижан из семи департаментов обеих<br />
«корон» Парижской агломерации. Если на Западе<br />
создают органы управления крупными урбанистическими<br />
образованиями, то они обычно дополняют<br />
традиционные и нацелены на координацию их<br />
действий.<br />
16 Напомним, что население существующих<br />
агломераций второго порядка составляет от<br />
155 тыс. человек в Домодедовско-Видновской<br />
системе, потенциал и структура которой будут<br />
затронуты реализацией проекта Большое<br />
Домодедово, до 460 тыс. человек в активно застра-<br />
32 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
иваемой Химкинско-Зеленоградской и до 750 тыс.<br />
человек в Люберецко-Раменской агломерации второго<br />
порядка.<br />
17 Международное жюри по итогам конкурса по<br />
первым двум номинациям признало победителем<br />
команду Антуана Грюмбаха, а по третьей — размещение<br />
федерального правительственного центра<br />
— американскую «Урбан Дизайн Ассошиэйтис».<br />
Хотя для команд главным было участие в конкурсе<br />
и успешное прохождение трех ее этапов, так как<br />
московские власти неоднократно заявляли, что<br />
проектные решения будут только учтены при разработке<br />
нового генерального плана Москвы и<br />
схемы территориального планирования Москвы и<br />
Московской области.<br />
18 Особенно если они сравнивали их поведение<br />
с поведением французских властей при разработке<br />
схемы Большого Парижа, а часть команд участвовала<br />
и в парижском конкурсе при бывшем президенте<br />
Франции Николя Саркози и при его активном<br />
участии (с командами — участниками московского<br />
конкурса из «первых лиц» дважды встречался мэр<br />
Москвы Сергей Собянин). При этом основные<br />
идеи, наработанные в ходе этого конкурса, поддержал<br />
уже новый президент Франсуа Олланд.
Привычка рассуждать о Москве в категориях<br />
целостности — московская<br />
экономика, московское сообщество,<br />
московская культура — опирается, во-первых,<br />
на факт функционального и административного<br />
единства города и, во-вторых, на<br />
унаследованное от советского времени представление<br />
о том, что равенство доступа к<br />
городскому сервису, социальным благам и<br />
возможностям способно преодолеть социальное<br />
неравенство. Если идея юридического<br />
единства как административного подчинения<br />
сохранила свое значение до сих пор (эта<br />
идея лежит в основе неоднократного расширения<br />
границ Москвы: ее территориальные<br />
пределы увеличились с 285 кв. км в 1930 году<br />
до 2 565 кв. км в 2012-м), то равенство «по<br />
месту жительства» явно утратило смысл 1 .<br />
Последним актом социальной справедливости<br />
по-советски стало право «бесплатной<br />
приватизации» жилья, наделившее людей<br />
не только собственностью, но и ответственностью<br />
за его содержание. Феномен «нищих<br />
собственников дорогих квартир» рассеял<br />
иллюзии относительно равенства возможностей.<br />
Тезис о том, что <strong>Москва</strong> — это очень<br />
большой, сложно устроенный и разнообразный<br />
город, сегодня справедлив как никогда,<br />
а вот тезис о единстве и общности Москвы<br />
и москвичей оказывается не слишком убедительным.<br />
Социальное и имущественное расслоение<br />
и резко выросшее этнокультурное<br />
разнообразие заметно ослабили мотивацию<br />
к единению и усилили тенденции дезинтегра-<br />
ТЕМА НОМЕРА<br />
Архипелаг <strong>Москва</strong><br />
Какую часть московской реальности описывает концепция глобального<br />
города и в какой мере задача трансформации Москвы в глобальный город<br />
отвечает общим интересам? | ОЛЬГА ВЕНДИНА<br />
ции. Принцип «мы все разные, но нас объединяет<br />
то, что мы живем в одном городе»<br />
практически не работает, поскольку подавляющее<br />
большинство людей руководствуется<br />
в жизни утилитарно-эгоистическими, а не<br />
общественно-альтруистическими соображениями.<br />
В отличие от советского прошлого<br />
в сегодняшней жизни уже не декларируется<br />
приоритет общих целей над личными интересами.<br />
Однако без понимания общих целей,<br />
возникающих как результат совпадения и<br />
согласования многих интересов, жизнь большого<br />
города превращается в клубок неразрешимых<br />
противоречий. Декларациями о<br />
синтезе культур и цивилизаций, единстве<br />
в многообразии и гармоничном развитии<br />
делу не поможешь. Чтобы понять, в чем<br />
собственно состоят общие цели развития<br />
Москвы, нужно хорошо представлять себе<br />
существующие различия, степень фрагментарности<br />
и контрастности городской социальной<br />
и пространственной среды и способы<br />
преодоления этой фрагментарности. Цель<br />
данной статьи — показать Москву как «архипелаг»,<br />
состоящий из «островов» городских<br />
районов 2 , объединенных общей функциональной<br />
инфраструктурой и разъединенных<br />
мировоззрением населения, его уровнем благосостояния<br />
и образом жизни.<br />
<strong>Москва</strong> «глобальная» и не очень<br />
В июне 2011 года, выступая на<br />
Петербургском экономическом форуме,<br />
президент Дмитрий Медведев связал задачи<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 33
Ольга Вендина<br />
модернизации страны с необходимостью первоочередного<br />
развития глобальных функций<br />
столицы и ее превращения в мировой финансовый<br />
центр. Спустя год в развитие этой<br />
идеи на московском конкурсе, посвященном<br />
выработке «Проекта концепции развития<br />
Большой Москвы», перед его участниками<br />
был поставлен вопрос: «Как сделать Москву<br />
глобальным городом и создать социально-экономические<br />
условия жизни населения, соответствующие<br />
этому высокому статусу?»<br />
Согласно международно признанной<br />
методике, существует пять основных критериев<br />
определения глобальности города 3 .<br />
Наибольшей значимостью обладают критерии<br />
деловой (бизнес-) активности и располагаемого<br />
человеческого капитала, но не<br />
вообще, а в отношении к глобальному рынку.<br />
Индикаторами оценки деловой активности<br />
являются число штаб-квартир крупнейших<br />
мировых компаний, объемы финансового<br />
рынка, развитость сектора деловых услуг, объемы<br />
товарооборота и пассажиропотоков через<br />
транспортные узлы города, число международных<br />
конференций. Человеческий капитал<br />
оценивается через призму способности города<br />
привлекать «таланты», поэтому ключевыми<br />
показателями являются число лиц с высшим<br />
образованием, число лиц иностранного происхождения,<br />
проживающих в городе, качество<br />
университетов, определяемое международными<br />
рейтингами, число международных<br />
учебных заведений и иностранных студентов.<br />
Следующие два критерия — участие в информационных<br />
обменах и интенсивность культурной<br />
жизни — имеют вдвое меньшую значимость.<br />
На последнем месте стоит вовлеченность<br />
города в мировой политический процесс.<br />
Внешняя политика — это сфера ответственности<br />
государства, а роль города — служить удобной<br />
и хорошо обустроенной площадкой для<br />
переговоров, размещения посольств и представительств,<br />
международных организаций и<br />
исследовательских центров.<br />
34 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
<strong>Москва</strong> входит в первую двадцатку глобальных<br />
городов, и ее положение в рейтингах<br />
достаточно стабильно 4 . Нет сомнений в<br />
том, что <strong>Москва</strong> является глобальным городом<br />
— вопрос не в этом, а в том, насколько<br />
<strong>Москва</strong> глобальная совпадает с Москвой<br />
фактической, какую часть московской реальности<br />
описывает концепция глобального<br />
города и в какой мере задача трансформации<br />
Москвы в глобальный город отвечает общим<br />
интересам. Поэтому обратимся к важнейшим<br />
индикаторам глобальности, таким как концентрация<br />
мест приложения труда в сфере<br />
деловых услуг (управление, финансы, аудит,<br />
юридическое и информационное сопровождение,<br />
консалтинг) и качество населения, и<br />
посмотрим, как они маркируют пространство<br />
города.<br />
География мест приложения труда<br />
Принято считать, что одной из проблем<br />
Москвы является крайне неравномерное<br />
распределение мест приложения труда —<br />
сверхконцентрация в центре и фактическое<br />
отсутствие на окраинах. В действительности<br />
исторический центр столицы аккумулирует<br />
немногим более трети всех рабочих мест,<br />
сверхконцентрация наблюдается лишь в<br />
сфере государственного и бизнес-управления,<br />
финансов и деловых услуг (65—70<br />
проц.) — эти рабочие места расположены<br />
преимущественно в Центральном административном<br />
округе. В отличие от центра,<br />
занятого государственными учреждениями<br />
и крупным бизнесом, окраины — это царство<br />
торговли, среднего и малого бизнеса,<br />
которые особенно активно развивались в<br />
последнее двадцатилетие, отчего МКАД<br />
фактически превратился в главную торговую<br />
улицу Москвы. Центр-периферийный контраст<br />
в распределении рабочих мест в городе<br />
далеко не так велик, как это принято считать.<br />
Наблюдаемый эффект частично объясняется<br />
несовершенством статистического учета.
Таблица 1<br />
Данные о структуре занятости населения по<br />
районам города приводятся Мосгорстатом<br />
без учета малого бизнеса, а это практически<br />
половина рабочих мест! 5 Главное различие<br />
между центром и окраинами столицы не в<br />
количестве рабочих мест 6 , а в их качестве и<br />
предлагаемой оплате труда.<br />
Другое общепринятое мнение, которое<br />
также недостаточно адекватно описывает<br />
московские реалии, связано с постиндустриальным<br />
характером московской экономики.<br />
Хотя промышленность в Москве переживает<br />
не лучшие времена, в городе функционируют<br />
1,1 тыс. промышленных предприятий, обеспечивающих<br />
756 тыс. рабочих мест. Вклад<br />
индустрии в ВРП столицы — 18 проц., а в<br />
консолидированный бюджет города — 11<br />
процентов. (Для сравнения с аналогичными<br />
показателями Лондона, Парижа и Нью-<br />
Йорка см. таблицу 1 на с. 35.) В Москве существуют<br />
не просто индустриальные районы,<br />
такие как Люблино, Царицыно, Гольяново,<br />
Перово, Новогиреево, Очаково, Солнцево<br />
и другие, но и гипериндустриальные, где более<br />
50 проц. рабочих мест сосредоточено в промышленности<br />
(в Капотне, например, таковых<br />
85 проц., в Бирюлёве Западном — 60,3<br />
проц., Северном Медведкове — 52 процента).<br />
Московские районы, несущие на себе<br />
печать индустриальности, расположены<br />
преимущественно на севере, северо-востоке,<br />
востоке, юго-востоке и юге столицы за преде-<br />
Архипелаг <strong>Москва</strong><br />
НЕКОТОРЫЕ СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОСКВЫ И ЛИДИРУЮЩИХ ГЛОБАЛЬНЫХ ГОРОДОВ МИРА (2010 ГОД)<br />
ГОРОД ВВП/ППС, $<br />
Доля занятых<br />
в промышленности,<br />
%<br />
Вклад промышленности<br />
в ВРП города, %<br />
Доля занятых<br />
в секторе<br />
услуг, %<br />
Количество<br />
жилья в собственности,<br />
%<br />
Количество<br />
машин на 1000<br />
жителей, шт.<br />
<strong>Москва</strong> 24,4 11 18 76,3 85 299<br />
Лондон 53,1 4,2 4,0 91 59 341<br />
Париж 47,5 6,9 8,1 86,8 31,9 389<br />
Нью-Йорк 60,5 5,1 5,8 93 33 210<br />
Источники: Всемирный банк (data.worldbank.org), Росстат (www.gks.ru), Мосгорстат (moscow.gks.ru), UK National Statistics<br />
(www.statistics.gov.uk), Greater London Authority (www.london.gov.uk), L'Institut national de la statistique et des études<br />
économiques (Insee) (www.insee.fr), NYCEDC (www.nycedc.com).<br />
лами исторического центра. Это «остатки»<br />
гигантской промзоны, которую в советские<br />
годы характеризовали как «промышленный<br />
флюс» 7 . Обвальная деиндустриализация<br />
1990-х годов привела здесь не к «прорыву»<br />
в постиндустриальную экономику, а к развитию<br />
обширной сети уличных рынков.<br />
С социальной точки зрения, такие районы<br />
не очень удобны для жизни, но с экономической<br />
— привлекательны для инвестиций,<br />
поскольку часть сохраняющихся производств<br />
успешно функционирует. Более тридцати<br />
московских районов можно определить как<br />
транзитные, переживающие процесс дезиндустриализации<br />
и являющиеся индустриальносервисными<br />
или сервисно-индустриальными. В их<br />
числе многие районы старой промышленности,<br />
такие как Бутырский, Нижегородский,<br />
Москворечье-Сабурово или Покровское-<br />
Стрешнево. Здесь значительную часть составляет<br />
пожилое население и высока доля убыточных<br />
производств, но благодаря удобному<br />
местоположению и хорошей социальной и<br />
транспортной инфраструктуре эти районы<br />
представляют интерес для девелоперов и<br />
нового строительства.<br />
Районы северо-западного, западного и югозападного<br />
административных округов столицы<br />
обладают сервисной структурой экономики.<br />
Здесь же находятся и наиболее привлекательные<br />
жилые кварталы, располагающие всей<br />
необходимой инфраструктурой. В полной<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 35
Ольга Вендина<br />
Рисунок 1<br />
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ:<br />
УРОВЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ МОСКВЫ (2010) — 40,1 %<br />
Источник: Перепись населения, 2010<br />
мере сервисными и постиндустриальными<br />
могут быть названы лишь районы исторического<br />
центра города, но экономический<br />
профиль таких районов, как Басманный,<br />
Мещанский, Даниловский, Красносельский,<br />
деформирует сверхзанятость в сфере транспорта<br />
— сказывается центральное местоположение<br />
московских вокзалов, их сортировочных<br />
станций, складских территорий и<br />
ремонтных цехов. В наибольшей степени критериям<br />
глобального города отвечает та часть<br />
центра Москвы, где концентрируются функ-<br />
36 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
ции управления, банковского, аудиторского<br />
и юридического сервиса, информационного<br />
сопровождения и консалтинга, выставочные<br />
площади и высококлассные гостиницы.<br />
Это районы Арбат, Тверской, Мещанский,<br />
Хамовники и Пресненский. Помимо экономических<br />
функций, здесь сосредоточена культурная<br />
и политическая жизнь столицы.<br />
Обширная московская окраина также<br />
неоднородна; тенденции, заданные центральными<br />
кварталами, продолжают действовать<br />
и за пределами центра. Если на западной
периферии сложились спальные районы, которые<br />
отличает достаточно развитая социально-транспортная<br />
инфраструктура, активно<br />
развивающийся рынок труда, сравнительно<br />
высокая обеспеченность жильем и хорошая<br />
репутация, то на восточной — ситуация менее<br />
благоприятная. Бывшие рабочие кварталы<br />
Москвы менее обеспечены инфраструктурой,<br />
их рынки труда и услуг развиты недостаточно,<br />
обеспеченность жильем на уровне средних<br />
московских показателей или хуже. В составе<br />
населения здесь существенную долю составля-<br />
ют представители — исчезающего в Москве —<br />
рабочего класса и новые мигранты.<br />
Чтобы уточнить пределы глобальной<br />
Москвы, воспользуемся вторым важнейшим<br />
индикатором — уровнем высшего образования<br />
населения, который позволяет оценить объемы<br />
культурного капитала, необходимого<br />
для функционирования глобального города.<br />
Согласно переписи 2010 года, 40,1 проц.<br />
взрослого населения Москвы имеет высшее<br />
образование (26,6 проц. — перепись 1989<br />
года, и 29,9 проц. — перепись 2002 года).<br />
Значения этого показателя сильно варьируют<br />
по районам: в 24 районах города они заметно<br />
выше, достигая максимума в Куркино (65,2<br />
проц.) и Хамовниках (61,2 проц.), а в районах<br />
Капотня, Северное Чертаново, Лианозово,<br />
Нижегородский, Дмитровский, Бирюлёво<br />
Западное и Братеево значительно ниже, не<br />
дотягивая до уровня 2002 года. Еще в шестидесяти<br />
районах доля лиц с высшим образованием<br />
ниже среднего показателя для Москвы.<br />
Ареал жилых кварталов, отличающихся<br />
более высоким уровнем образования, достаточно<br />
компактен и напоминает по форме<br />
бумеранг, накрывающий своей широкой<br />
Архипелаг <strong>Москва</strong><br />
частью исторический центр и вытянутый с<br />
северо-запада на юго-запад. В «выемке» бумеранга<br />
оказывается кластер районов, сложившихся<br />
на западной окраине Москвы в промышленной<br />
зоне Филей, Очакова, Солнцева,<br />
Рабочего поселка (см. рисунок 1 на с. 36).<br />
Сравнение экономического профиля районов<br />
столицы и уровня образования живущего<br />
там населения достаточно наглядно<br />
демонстрирует социально-экономический<br />
раскол на две Москвы — индустриальную и<br />
постиндустриальную, очень разные по каче-<br />
“Московская окраина неоднородна; тенденции, заданные<br />
центральными кварталами, продолжают действовать<br />
и за пределами центра”.<br />
ству располагаемого человеческого капитала<br />
и по стартовым позициям людей. Если статистику<br />
дополнить адресной информацией<br />
о местоположении федеральных структур,<br />
офисов крупного российского и международного<br />
бизнеса, наиболее авторитетных<br />
университетов, научных центров, посольств,<br />
элитного жилья, а также крупнейших торговых<br />
моллов, наиболее чувствительных<br />
одновременно к стоимости участков земли<br />
и платежеспособности населения, то неформальная<br />
граница между глобальной Москвой<br />
и остальным городом станет еще более очевидной<br />
(см. рисунок 2 на с. 39).<br />
Глобальная <strong>Москва</strong> не совпадает не только<br />
с фактическим городом, но и с его постиндустриальной<br />
частью, оставляя за своими<br />
виртуальными пределами спальные окраины.<br />
В деятельность глобальной Москвы<br />
вовлечена меньшая часть тех москвичей,<br />
которые имеют возможность пользоваться<br />
преимуществами глобализации (доходы, контакты,<br />
глобальный рынок труда и отдыха). У<br />
большинства москвичей такая возможность<br />
сильно ограничена; для них главные бонусы<br />
связаны со столичной рентой, а не с участи-<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 37
Ольга Вендина<br />
ем в глобальном перераспределении денег,<br />
ресурсов и власти. Поэтому усиление глобальных<br />
функций Москвы означает и усиление<br />
социального неравенства, углубление социально-пространственных<br />
расколов города,<br />
накопление не только «богатства», но и «бедности».<br />
Имущественные контрасты трансформируются<br />
в социальные конфликты,<br />
которые периодически принимают форму<br />
протестных акций. Неслучайно в публичном<br />
пространстве периодически возникают разговоры<br />
— типичные для глобального города —<br />
о необходимости введения своего рода имущественного<br />
ценза на жизнь в Москве 8 .<br />
Все эти во многом стихийные тенденции<br />
свидетельствуют о том, что город<br />
по-прежнему нуждается в планировании, в<br />
определении того, что соответствует общим<br />
интересам. Ориентируясь на задачи «трансформации<br />
Москвы в глобальный город»,<br />
нельзя забывать о негативных последствиях<br />
такой трансформации, которые затрагивают<br />
большинство москвичей; надо думать о способах<br />
интеграции Москвы индустриальной и<br />
постиндустриальной, вовлечении населения<br />
в процессы социальной и институциональной<br />
модернизации. Это ставит вопрос об<br />
инструментах консолидации городского<br />
сообщества. Учитывая, что социальные<br />
механизмы перераспределения богатства не<br />
обеспечивают равенства доступа к городским<br />
благам и возможностям, основные надежды<br />
возлагаются на идентичность — эмоциональную<br />
и одновременно социальную связь человека<br />
с местом его жизни.<br />
Москвичи и московская идентичность<br />
Городскую идентичность часто определяют<br />
как чувство принадлежности к «малой<br />
родине» и как местный патриотизм. «Малой<br />
родиной» люди считают место, которое в<br />
наибольшей степени отвечает их душевному<br />
настрою, как правило, это место, где они<br />
родились. Однако с местным патриотиз-<br />
38 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
мом все иначе. Человек может отстаивать<br />
ценность территории для утверждения<br />
собственной идентичности, но мотивы тут<br />
могут быть разные, иногда диаметрально<br />
противоположные. На одном полюсе находятся<br />
те, для кого первостепенную важность<br />
имеют особость и уникальность места, на<br />
другом — те, кто выше ценит возможности<br />
самореализации, которые город дает всем и<br />
каждому, а также включенность в мировые<br />
процессы и принадлежность к более широкому<br />
социуму.<br />
В первом случае местный патриотизм<br />
сопряжен с представлением о городском<br />
сообществе как недифференцированной<br />
культурно-самобытной группе, к которой<br />
применяются такие характеристики, как<br />
укорененность, наличие особой культуры,<br />
языка, образа жизни, сакральных ценностей,<br />
включая местные «святые места». Во втором<br />
случае местный патриотизм допускает разнородность<br />
городского сообщества, которое<br />
объединяется благодаря осознанию личной<br />
ответственности за судьбы города и солидаризуется<br />
в решении проблем совместной<br />
жизни.<br />
Плюрализм московского общества, определяемый<br />
различиями происхождения и<br />
социализации людей, экономических укладов<br />
и сферы общения, выливается в многообразие<br />
культурных и политических следствий,<br />
которые не сводятся к общему знаменателю<br />
«московской идентичности».<br />
К сожалению, социологических исследований,<br />
которые позволили бы судить о<br />
сочетании идей самобытности и гражданственности<br />
в московской идентичности,<br />
чрезвычайно мало 9 , поэтому я буду опираться<br />
на исследование 2001 года «Гражданское<br />
участие, социальный капитал и перспективы<br />
демократического управления в Москве» 10 .<br />
Несмотря на то что полученные в 2001 году<br />
конкретные результаты устарели, те тенденции,<br />
которые удалось выявить в проведенном
Рисунок 2<br />
тогда опросе, не утратили актуальности и<br />
позволяют судить о множественности форм<br />
московской идентичности.<br />
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНАЯ И ИНДУСТРИАЛЬНАЯ МОСКВА<br />
Архипелаг <strong>Москва</strong><br />
Для жителей Москвы характерно сложное<br />
сочетание городской (московской),<br />
страновой (российской и советской),<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 39
Ольга Вендина<br />
наднациональной (европейской и мировой),<br />
узколокальной (район, квартал) и<br />
этнической идентичностей. Часто жители<br />
Москвы не могут выстроить приоритеты<br />
и разделить российскую и московскую<br />
идентичности. Наиболее значимым для<br />
жителей Москвы является ощущение себя<br />
«россиянином». «Советская идентичность»,<br />
хотя и ушла на задний план, все<br />
еще сохраняется, и это не только следствие<br />
социальной инерции, но и сознание ценности<br />
определенного социального порядка 11 .<br />
«Европейская» и «мировая» идентичности<br />
апеллируют к «порядкам» иного рода, правам<br />
и свободам человека 12 , а «этническая»<br />
опирается на этноцентричное мировоззрение<br />
и отражает сдвиги в этническом<br />
составе населения. Этническую принадлежность<br />
как наиболее значимую в определении<br />
координат собственного мира<br />
выдвигают на первый план не только часть<br />
недавних мигрантов, но и порядка трех<br />
процентов русских москвичей. Московская<br />
идентичность занимает второе место после<br />
российской и имеет высокую значимость<br />
для представителей всех названных групп,<br />
включая «этнофоров» 13 . Порядка 20 проц.<br />
москвичей естественно соединяют чувства<br />
«москвича» и «россиянина» и при этом<br />
могут осознавать себя «европейцем» или<br />
«советским человеком»; почти половина<br />
«европейцев» и «советских людей» ощущают<br />
себя «москвичами». Выбор в пользу<br />
тех или иных ценностных установок не в<br />
последнюю очередь определяется межпоколенческими<br />
различиями. Так, европейский<br />
выбор принадлежит тем, кто младше<br />
40 лет (68,7 проц.), а советский — тем, кто<br />
старше 55 лет (60 проц.). Среди тех, кто<br />
идентифицирует себя как «житель своего<br />
района», выделяются пожилые старожилы<br />
(41,4 проц.) и 35–45-тилетние (24,1<br />
проц.) — наиболее многочисленная группа<br />
в среде недавних мигрантов.<br />
40 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
МОСКОВСКИЙ ПАТРИОТИЗМ КАК ЧУВСТВО «КОРЕННОГО<br />
МОСКВИЧА» На чувство «москвича» с очевидностью<br />
влияют два фактора — длительность проживания<br />
в Москве и место рождения. Согласно<br />
переписи-2002, на долю уроженцев Москвы<br />
приходилось чуть более половины населения<br />
города (53,4 проц.), а переписи-2010 — уже<br />
62 процента. Такой рост доли московских<br />
уроженцев в численности населения Москвы<br />
плохо объясним, поскольку миграционный<br />
прирост уже более двадцати лет компенсирует<br />
естественную убыль населения Москвы.<br />
Поколения москвичей себя не воспроизводят<br />
в полном объеме с послевоенного времени 14 .<br />
Как бы то ни было, уроженцы Москвы<br />
оказываются значительно «моложе», чем<br />
население Москвы в целом. Дети вчерашних<br />
мигрантов, рожденные в Москве, становятся<br />
«коренными москвичами» в отличие от собственных<br />
родителей. Поэтому в молодежной<br />
среде доля лиц, определяющих себя прежде<br />
всего как «москвичи», несколько выше, чем<br />
в старших возрастных группах — 19,8 проц.<br />
против 16,8 процента. Но в целом <strong>Москва</strong> —<br />
стареющий город (средний возраст жителей<br />
столицы — 40,7 года), в составе ее населения<br />
преобладают старшие возрастные группы.<br />
Поэтому среди тех, кто считает себя «москвичами»,<br />
существенно больше пожилых, а значит,<br />
«укорененных» московских старожилов,<br />
а не «коренных москвичей». Возрастная<br />
структура населения Москвы влияет и на<br />
особенности социально-профессионального<br />
состава группы «москвичей»: он выглядит значительно<br />
менее современно, нежели характерный<br />
для московского социума в целом.<br />
На долю лиц рабочих профессий приходится<br />
30,1 проц. работающих «москвичей» и 43,2<br />
проц. пенсионеров. Интеллигенция тяготеет<br />
скорее к смешанной «российско-московской»<br />
идентичности, а среди руководителей верхнего<br />
управленческого звена, предпринимателей<br />
и работников правоохранительных органов<br />
«москвичей» на удивление мало.
Еще одна характеристика — районы проживания.<br />
Изначально предполагалось, что<br />
чувство «москвича» будет сильнее выражено<br />
у жителей исторических кварталов Москвы,<br />
где сохранился дух города, а городская среда<br />
красива, разнообразна и соразмерна человеку.<br />
Однако результат оказался противоположным:<br />
наиболее высока доля «москвичей»<br />
среди обитателей городских окраин. Это<br />
заставляет думать, что чувство «москвича»<br />
определяется вовсе не архитектурно-историческими<br />
характеристиками города, а<br />
социально-экономическими параметрами<br />
московской жизни, то есть не местом, а связанными<br />
с ним преимуществами. В качестве<br />
«москвичей» люди чувствуют себя членами<br />
избранного, элитарного столичного сообщества,<br />
которое они хотели бы видеть закрытым<br />
для приезжих, а в качестве «коренных<br />
москвичей» — группой, наделенной правом<br />
преимущественного доступа к московским<br />
социальным благам 15 . Возникает серьезное<br />
подозрение, что такого рода московский<br />
патриотизм служит не задачам «защиты»<br />
интересов города, а выполняет компенсаторные<br />
функции, повышая самооценку людей<br />
(раз «москвич», то богатый и успешный) и<br />
снижая ощущение внутреннего дискомфорта<br />
от неудовлетворенности собственным социальным<br />
положением. Отстаивание общих<br />
интересов сводится к требованию сохранить<br />
за группой «москвичей» статус обладателей<br />
преимущественных прав. Для подкрепления<br />
этих требований широко привлекаются<br />
мифы об особой московской культуре 16 и ее<br />
носителях — «коренных москвичах», Москве<br />
как «русском» городе и др.<br />
МОСКОВСКИЙ ПАТРИОТИЗМ КАК ГРАЖДАНСКОЕ<br />
УЧАСТИЕ выглядит иначе, связываясь с представлением<br />
об общественной активности,<br />
доверии, гражданском контроле. Среди<br />
жителей Москвы наиболее подозрительно<br />
к окружающему миру (не доверяют никому)<br />
Архипелаг <strong>Москва</strong><br />
относятся те, кто идентифицирует себя как<br />
«житель своего района». Наименьшую лояльность<br />
властям проявляют «советские люди»,<br />
«европейцы» и «этногруппы». При этом<br />
«европейцы» не разделяют иллюзий относительно<br />
«мудрого государя и плохих бояр», а<br />
«советские люди» все-таки сохраняют лояльность<br />
первым лицам во властных иерархиях<br />
— мэру и президенту. Для всех групп<br />
москвичей наиболее приемлемыми формами<br />
гражданской активности является голосование<br />
на выборах — 83,9 проц. (реально в<br />
выборах участвует заметно меньшее число<br />
людей) и подписание коллективных обращений<br />
— 67,9 процента. Эти формы гражданского<br />
участия и сегодня остаются наиболее<br />
приемлемыми и действенными. Например,<br />
в декабре 2012 года всего за несколько дней<br />
было собрано более 100 тыс. подписей против<br />
введения в действие Федерального<br />
закона № 272, получившего известность благодаря<br />
запрету гражданам США усыновлять<br />
российских детей-сирот. Тогда же «Новая<br />
газета» начала сбор подписей за проведение<br />
референдума о недоверии Государственной<br />
думе и ее роспуск. Действия, требующие<br />
больших персональных усилий, такие как<br />
инициирование и составление коллективных<br />
обращений, участие в деятельности партий<br />
или общественных организаций, вызывают<br />
меньше энтузиазма. Еще меньше людей готово<br />
участвовать в различных акциях протеста,<br />
составляя примерно 12—15 проц. населения<br />
Москвы. Различные московские исследования<br />
последнего десятилетия дают очень<br />
близкие оценки. Так, согласно цитируемому<br />
опросу 2001 года, порядка 12 проц. москвичей<br />
было готово участвовать в митингах и<br />
демонстрациях, 10 проц. — в забастовках и<br />
5 проц. — в пикетах. Согласно ВЦИОМ, в<br />
Москве и Петербурге в разные месяцы кризисного<br />
2009 года в массовых выступлениях<br />
было готово участвовать 13—17 проц. опрошенных<br />
17 . Согласно данным Левада-Центра,<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 41
Ольга Вендина<br />
в декабре 2011 года массовые акции протеста<br />
однозначно было готово поддержать 12 проц.<br />
москвичей, правда, к середине 2012 года<br />
волна протестных настроений несколько<br />
спала 18 .<br />
Несмотря на то что московская политическая<br />
культура отличается пассивностью 19 ,<br />
практически в каждой из выделенных групп<br />
москвичей был небольшой отряд людей,<br />
готовых к активным формам общественной<br />
деятельности. Представители этногрупп,<br />
нуждающиеся в коллективной защите своих<br />
групповых и индивидуальных прав, склон-<br />
ны к сбору подписей под коллективными<br />
обращениями, а к прямому политическому<br />
протесту в большей мере склонны обращаться<br />
«европейцы» и «советские люди». При<br />
этом «европейцы» скорее не любят такую<br />
рутинную работу, как непосредственный сбор<br />
подписей, и не верят в эффективность забастовок,<br />
а «советские люди», напротив, более<br />
склонны к политической рутине и профсоюзной<br />
деятельности.<br />
Социально-профессиональный профиль<br />
«европейцев» и «советских людей» заметно<br />
различается. Среди «европейцев» преобладает<br />
интеллигенция, предприниматели и<br />
практически полностью отсутствуют работники<br />
силовых структур, среди «советских<br />
людей» — рабочие, инженеры и служащие, а<br />
также военные и руководители, достигшие<br />
пенсионного возраста. Социальный состав<br />
предопределяет и районы их преимущественного<br />
проживания. «Европейцев» больше<br />
в районах преобладания интеллигенции,<br />
которые хорошо видны на карте расселения<br />
лиц с высшим образованием (см. рисунок 1<br />
на с. 36), а «советских людей» — в районах,<br />
42 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
характеризующихся смешанным составом<br />
населения, — более «номенклатурных», таких<br />
как Тверской, или более «рабочих», таких как<br />
Измайлово или Северное Медведково. И тех<br />
и других мало в бывших рабочих кварталах<br />
Москвы.<br />
Таким образом, уже в начале 2000-х годов<br />
в Москве были отчетливо выражены разные<br />
формы проявления не только московской<br />
идентичности, но и политико-гражданской<br />
культуры. Конформизм и лояльность одних<br />
сталкивались с оппозицией со стороны тех,<br />
кто выдвигал на первый план не государ-<br />
“Несмотря на то, что москвичи, прошедшие школу<br />
советской социализации, с тех пор постарели, их роль<br />
в общественной деятельности по-прежнему значима”.<br />
ственно-юридические (наличие определенного<br />
гражданства), территориальные (место<br />
жительства) или статусные (столица) ценности,<br />
а универсальные гражданские основания<br />
самоопределения и патриотизма. На фоне<br />
конформистского большинства среди обитателей<br />
Москвы выделялись «москвичи-европейцы»<br />
— молодые, открытые изменениям<br />
и способные учитывать общие интересы, и<br />
«москвичи — советские люди» — не слишком<br />
молодые и не стремящиеся к переменам,<br />
но разделяющие точку зрения о приоритетности<br />
общих интересов. Именно эти две<br />
группы составляли основу общности, разделяющей<br />
ценности позитивной гражданской<br />
московской идентичности 20 , которая строится<br />
на чувстве ответственности и социальной<br />
солидарности. Потребовалось десять лет,<br />
чтобы эта <strong>Москва</strong> публично заявила о себе на<br />
массовых митингах.<br />
Если сравнить результаты давнего опроса<br />
с исследованием, проведенным среди участников<br />
протестного движения осени — зимы<br />
2011—2012 годов в Москве 21 (см. статью<br />
Алексея Левинсона в этом номере Pro et
Contra), то напрашиваются следующие выводы.<br />
Во-первых, наиболее представительную<br />
группу среди выходивших на митинги<br />
составляли люди, попадавшие в категорию<br />
«молодых» в начале 2000-х, или близкие к<br />
ним по возрасту. Они не отличались четкими<br />
политическими взглядами, зато разделяли<br />
чувство общей ответственности за происходящее<br />
в стране. Во-вторых, выросла численность<br />
молодых людей, ориентированных<br />
на гражданские действия, а не только на<br />
гражданскую риторику, а сами молодые люди<br />
сумели выдвинуть целый ряд гражданских<br />
инициатив и создать разные формы волонтерских<br />
общественных организаций. Это свидетельствует<br />
не только о приобретении нового<br />
опыта в результате большей открытости<br />
страны и ее интернетизации, но и о наличии<br />
механизмов, осуществляющих межпоколенческую<br />
трансляцию ценностей и политических<br />
взглядов. В-третьих, несмотря на то,<br />
что москвичи, прошедшие школу советской<br />
социализации, с тех пор постарели, их роль<br />
в общественной деятельности по-прежнему<br />
значима. Можно утверждать, что без «москвичей-европейцев»<br />
и «москвичей — советских<br />
людей» начала 2000-х гражданское движение<br />
2010-х в Москве не было бы таким массовым,<br />
если бы вообще состоялось. Наконец, около<br />
80 проц. участников протестного гражданского<br />
движения составляли люди с высшим<br />
образованием и порядка 70 проц. — представители<br />
среднего и верхнего среднего класса,<br />
причем среди них 60—70 проц. утверждали,<br />
что придерживаются демократических и<br />
либеральных взглядов. Другими словами, это<br />
те, кто наиболее востребован глобальной<br />
Москвой и выдвигает запрос на модернизацию<br />
и открытость.<br />
Существенные различия в ценностных<br />
основаниях и формах выражения московского<br />
патриотизма заставляют сомневаться в<br />
том, что московская идентичность обладает<br />
значительным интеграционным потенциа-<br />
Архипелаг <strong>Москва</strong><br />
лом. Московская идентичность как чувство<br />
«коренных (настоящих) москвичей» работает<br />
на исключение из городского сообщества<br />
«немосквичей», а московская идентичность<br />
как разделяемая ответственность за происходящее<br />
в городе является фактором включения.<br />
При этом те, кто стоит на гражданских<br />
позициях, часто не рассматривают свою<br />
«московскость» как ключевое основание<br />
самоидентификации, ставя универсальные<br />
ценности выше локальных. Это позволяет<br />
московским патриотам рассматривать их как<br />
«чужих».<br />
Проблема состоит в том, что различия<br />
в мировоззрении людей и их идентичности<br />
обретают не только социальное, но и<br />
пространственное измерение, а значит, и<br />
конфликт разных форм московской идентичности<br />
выходит из сферы межличностных<br />
отношений на городской уровень. Увидеть<br />
внутригородские расколы позволяют результаты<br />
президентских выборов марта 2012<br />
года, на которых основные соперники в ходе<br />
электоральной кампании — Владимир Путин,<br />
Михаил Прохоров и Геннадий Зюганов —<br />
представляли разные идеологические и ценностные<br />
позиции.<br />
Известно, что Путин не набрал в Москве<br />
большинства голосов. Его политический<br />
катехизис базировался на идеях неотрадиционализма,<br />
которые включали в себя формирование<br />
образа врага, антизападничество,<br />
апелляцию к «особому пути» развития России<br />
и «простому человеку», нестоличному жителю<br />
как опоре государственности. Очевидно,<br />
что для глобальной Москвы с ее интенцией к<br />
открытости и культивированием разнообразия<br />
такая идеология представляется чуждой<br />
и даже неприемлемой. Пятерку районов, где<br />
голоса, поданные за Путина, не превысили 40<br />
проц., составляют Арбат, Дорогомиловский,<br />
Хамовники, Гагаринский и Сокол. Это наиболее<br />
респектабельные районы столицы, где<br />
образованное и успешное население состав-<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 43
Ольга Вендина<br />
Рисунок 3<br />
ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2012. ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ.<br />
ПРОРЕФОРМИСТСКОЕ И ПРОСОВЕТСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ<br />
44 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra
ляет большинство. Иная картина характерна<br />
для индустриальных районов Москвы.<br />
Правило электорального поведения, согласно<br />
которому государственно-зависимое население,<br />
не слишком информированное и образованное,<br />
но очень боящееся любых перемен,<br />
держится за существующую власть как<br />
за иллюзию стабильности, справедливо не<br />
только для индустриальных городов провинциальной<br />
России, но и для индустриальных<br />
районов Москвы. Характерно, что в районах,<br />
обеспечивших большинство голосов Путину,<br />
в большей мере распространены радикальные<br />
националистические настроения.<br />
Иначе распределились голоса, поданные<br />
за Прохорова и Зюганова: оба политика<br />
набрали примерно равное число голосов<br />
(20,45 проц. и 19,18 проц.), поэтому сравнение<br />
их электоральной поддержки позволяет<br />
говорить о значимых социальных границах в<br />
обществе. Прохоров, независимо от оценок<br />
его личности и приписываемой ему роли в<br />
электоральной кампании, представлял гражданскую<br />
альтернативу привычным политическим<br />
фигурам и формулам. Его политический<br />
словарь включал понятия «честность»,<br />
«достоинство», «открытость», «благотворительность»,<br />
«реформы», «гражданское<br />
общество». Зюганов, напротив, использовал<br />
привычную риторику «постсоветского советизма»,<br />
которая сочетает в себе советскую<br />
практику и идеи русского православного<br />
фундаментализма. На карте Москве районы,<br />
где сосредоточены сторонники гражданских<br />
ценностей, вполне ожидаемо совпали с кварталами<br />
проживания наиболее образованного<br />
населения, вовлеченного в постиндустриальную<br />
экономику глобальной Москвы (см. рисунок<br />
3 на с. 44). Однако мировоззренческая<br />
граница между Москвой, приверженной<br />
гражданским ценностям, и той, что сохраняет<br />
верность советским представлениям, проявилась<br />
отчетливей, чем граница экономическая.<br />
Сравнение электоральных результатов<br />
Архипелаг <strong>Москва</strong><br />
за предшествующие годы свидетельствует о<br />
том, что сообщество москвичей, разделяющих<br />
дискурс советизма, заметно сократилось;<br />
советизм сохраняет относительно сильные<br />
позиции лишь на окраинах города, а сообщество<br />
лиц, разделяющих гражданские ценности,<br />
расширило свои пространственные<br />
пределы в столице.<br />
Заключение<br />
В советское время пространственная структура<br />
Москвы складывалась под влиянием<br />
функционального зонирования территории<br />
22 — промзоны, транспорт, жилье, наука<br />
и образование, а локализация функций определяла<br />
не только размещение населения, но<br />
и его социально-профессиональный состав в<br />
соответствии с принципом «предприятие/<br />
организация — поселок». В постсоветский<br />
период сложилась принципиально иная ситуация.<br />
Новые функции и виды деятельности<br />
пришли туда, где для этого было необходимое<br />
качество населения и достаточный уровень<br />
обустройства городской среды. Сегодня<br />
механизм пространственной дифференциации<br />
города приводят в действие не задачи<br />
рационального размещения производства и<br />
трудовых ресурсов с оглядкой на идеологию,<br />
а интересы бизнеса, жизненные программы<br />
разных слоев населения и сопряженные с<br />
ними виды социальной и экономической<br />
активности. Вкупе с процессами глобализации,<br />
это привело к формированию в черте<br />
Москвы глобального города и укреплению<br />
социального базиса сегрегации. Если раньше<br />
мы могли говорить об относительной социальной<br />
однородности и смешанности населения<br />
в районах города, то сегодня сегрегация<br />
приобретает не только имущественный,<br />
но и мировоззренческий базис, становится<br />
частью культуры городской жизни.<br />
Новизна ситуации заключается в том, что<br />
«две Москвы» 23 , существующие в теле единого<br />
города, становятся равноценными по<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 45
Ольга Вендина<br />
располагаемым ресурсам. На стороне<br />
одной — относительное большинство населения,<br />
унаследованные советские представления<br />
и нежелание перемен, на стороне другой<br />
— социальная активность, финансовые<br />
возможности, более высокие жизненные<br />
стандарты и более привлекательный образ<br />
жизни. Одна <strong>Москва</strong> ориентирована на<br />
интеграцию в мировую экономику и европейское<br />
сообщество, другая придерживается<br />
антизападничества и рассчитывает на<br />
помощь государства. <strong>Москва</strong> достигла плюрализма,<br />
но еще не научилась вести диалог;<br />
задачи демократизации жизни города<br />
по-прежнему остаются нерешенными. Это<br />
значит, что в ближайшей перспективе мы не<br />
вернемся к ситуации, когда задачи социальной<br />
модернизации (как и контрмодернизации)<br />
решались давлением «сверху», но и времена,<br />
когда гражданские ценности успешно<br />
ПРИМЕЧАНИЯ 1 Например, в «Стратегии социально-экономического<br />
развития Москвы на период<br />
до 2025 года» читаем: «Город не может дать равенства<br />
по доходам, но он стремится к сокращению<br />
социального неравенства. Город может и должен<br />
обеспечить равенство возможностей и свободу<br />
выбора по образу жизни, по доступу к основным<br />
общественным благам — образованию и месту<br />
проживания, отдыху и здоровью, мобильности и<br />
информации». См.: Стратегия социально-экономического<br />
развития Москвы на период до 2025 года:<br />
Проект. М., 2012 (http://www.depir.ru/content/<br />
c383-page1.html). Разумеется, дальше мы не найдем<br />
разъяснений, как обеспечить «равенство возможностей»<br />
и «свободу выбора образа жизни» при<br />
неравенстве доходов.<br />
2 Согласно переписи населения 2010 года,<br />
численность населения московских районов варьирует<br />
от 26 до 242,3 тыс. человек, в 52 городских<br />
районах она превышает 100 тыс. — это уровень<br />
больших городов России! Конечно, сравнение<br />
отдельного городского района с городом некорректно.<br />
Рынок труда, образования, социального<br />
обслуживания и развлечений Москвы функцио-<br />
46 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
транслируются «снизу», еще не наступили.<br />
Поэтому вероятный сценарий развития<br />
города будет определяться не установками<br />
наиболее влиятельных сил или популярными<br />
трендами (в этом смысле интересно, что<br />
станется с проектом развития новых территорий<br />
Москвы), а согласованием интересов<br />
и взаимными уступками — и достижением на<br />
их основе временных консенсусов.<br />
Диффузия социальных инноваций будет<br />
отличаться от плавного поступательного<br />
движения технологических, проходя через<br />
конфликты и столкновения, в которых ни<br />
одна из сторон не может полностью подавить<br />
другую. Это замедляет трансформационные<br />
процессы, вызывает пессимизм и<br />
ощущение стагнации, но повышает шансы<br />
на реализацию задач, стоящих перед столицей,<br />
включая и выполнение роли лидера в<br />
модернизации страны.<br />
нирует как единое целое, и жители районов не<br />
привязаны к месту жительства, имея относительно<br />
широкие возможности выбора мест приложения<br />
труда и удовлетворения своих потребностей, чего<br />
часто лишены жители провинциальных городов.<br />
Тем не менее сопоставление московских районов<br />
и провинциальных городов полезно, поскольку<br />
позволяет понять, что соседство районов Москвы<br />
подобно соседству множества крупных провинциальных<br />
городов и проблемы, существующие там,<br />
имеют место и в столице. Более того, городское<br />
обустройство многих столичных районов не дотягивает<br />
до уровня провинциальных городов того же<br />
масштаба.<br />
3 Понятие «глобальный город» было введено в<br />
научный оборот Саскией Сассен в ее публикации:<br />
Sassen S. The Global City: N. Y.; L.; Tokyo; Princeton:<br />
Princeton Univ. Press, 1991. До этого чаще использовался<br />
термин «мировой город», предложенный<br />
ранее Джоном Фридманом и Гётцем Вольфом<br />
(Friedman J., Wolff G. World City Formation: An<br />
Agenda <strong>for</strong> Research and Action // <strong>International</strong><br />
Journal of Urban and Regional Research. No 6.<br />
1982. P. 309—344). Наиболее цитируемые работы,
связанные с классификацией глобальных городов,<br />
см.: Friedman J. Where We Stand: A Decade of<br />
World City Research // World Cities in a World<br />
System / P. L. Knox, P. J. Taylor (eds). Cambridge:<br />
Cambridge Univ. Press, 1995. P. 21—47; Castells M.<br />
The Rise of the Network Society. Ox<strong>for</strong>d: Blackwell,<br />
1996; Beaverstock J. V., Smith R. G., Taylor P. J. World<br />
City Network: A New Metageography of The Future?<br />
// Annals, Association of American Geographers.<br />
2000. Vol. 90. No 1. P. 123—134; Taylor P. J. World City<br />
Network: A Global Urban Analysis. N.Y.: Routledge,<br />
2004.<br />
4 Рейтинги глобальных городов регулярно<br />
публикуются журналами Foreign Policy и The Economist.<br />
См. также: 2012 Global Cities Index and Emerging<br />
Cities Outlook / A. T. Kearney’s Global Business<br />
Policy Council (http://www.atkearney.com/gbpc/<br />
global-cities-index).<br />
5 См.: Мосгорстат. Основные показатели<br />
социально-экономического положения муниципальных<br />
образований (http://moscow.gks.ru/wps/<br />
wcm/connect/rosstat_ts/moscow/ru/municipal_<br />
statistics/main_indicators/). Недоучет категории<br />
малого бизнеса и, видимо, возникающие в связи<br />
с этим претензии привели к тому, что показатели<br />
занятости населения вовсе исчезли из статистической<br />
ведомости муниципальных образований (районов)<br />
Москвы.<br />
6 Даже при сравнимом числе рабочих мест в<br />
центре и на окраинах их концентрация в центре<br />
выше в силу «малости» исторического центра.<br />
В этой ситуации нет ничего необычного.<br />
7 Лаппо Г.М. География городов. М: ВЛАДОС,<br />
1997.<br />
8 Одной из первых публикаций на эту тему<br />
стало интервью главы столичной строительной<br />
корпорации «Баркли» Леонида Казинца, данное<br />
журналу «Огонек», где он говорит: «Мы хотим,<br />
чтобы бедные, неамбициозные люди чувствовали<br />
себя комфортно в том городе, который является<br />
центром цивилизации. Не хотите напрягаться<br />
— езжайте в другие места. Там спокойная<br />
жизнь, дешевое жилье и сирень под окнами. Вы<br />
же сидите в центре цивилизации, хотите ездить на<br />
дорогой машине, есть в дорогом ресторане, жить<br />
в дорогой квартире. А что вы для этого сделали?<br />
Скажите честно: в этом городе, если ты не<br />
получаешь несколько тысяч долларов в месяц,<br />
тебе нечего делать. Хотите зарабатывать —<br />
зарабатывайте. Нет — переезжайте в отдаленный<br />
Архипелаг <strong>Москва</strong><br />
город, а к родственникам в Москву — 3 часа на<br />
электричке, ничего страшного. Вы по Москве и<br />
так по два часа в пробках в одну поездку мучаетесь»<br />
(см.: Данилова Е. <strong>Москва</strong> — это правильная тусовка<br />
// Огонек. 2008. № 5000). Такие рассуждения, но<br />
в более стыдливой форме, приходилось слышать<br />
неоднократно, в том числе и от представителей<br />
московских властей.<br />
9 Борусяк Л. Патриотизм как ксенофобия:<br />
Результаты опроса молодых москвичей // Вестник<br />
общественного мнения. Дискуссии. 2004. № 6 (74).<br />
С. 58—70; Вендина О. Московская идентичность и<br />
идентичность москвичей // Известия РАН. Серия<br />
географическая. 2012. № 5. С. 27—39; Рыжова С.<br />
Идентичность москвичей: Опыт исследования) //<br />
Социологические исследования. Август 2008. № 8.<br />
С. 40—49.<br />
10 Проект был реализован Центром геополитических<br />
исследований Института географии<br />
РАН при финансовой поддержке Национального<br />
научного фонда США и участии социологического<br />
факультета МГУ. В ходе проекта был проведен<br />
квартирный опрос 3 500 москвичей в 17 районах<br />
Москвы, включая Зеленоград. Выбор районов<br />
опроса был обусловлен типологией, основанной<br />
на анализе 52 индикаторов, включая демографические<br />
и социальные характеристики населения,<br />
политические предпочтения, особенности<br />
застройки и рынка недвижимости. Опрос проводился<br />
по пропорциональной выборке в зависимости<br />
от возраста и образования респондентов.<br />
11 Отношение к советской идентичности как<br />
ностальгическому продукту распада СССР, обреченному<br />
на отмирание, постепенно заменяется<br />
аналитическим подходом к этому феномену и<br />
признанием невозможности полного «стирания»<br />
советской идентичности из общественного сознания<br />
(см., например: Российская идентичность в<br />
Москве и регионах / Отв. ред. Л.М. Дробижева.<br />
М.: Макс Пресс, 2009; Кортунов С.В. Национальная<br />
идентичность: Постижение смысла. М.: Аспект<br />
Пресс, 2009; Идентичность как предмет политического<br />
анализа: Сборник статей. М.: ИМЭМО РАН,<br />
2011). Внутренней опорой советской идентичности<br />
являются мифы о «единстве народа» и «социальной<br />
справедливости», а не только жизненный<br />
опыт старших поколений. Апелляции к советскому<br />
прошлому стали одним из основных политических<br />
приемов, используемых как для негативной, так и<br />
позитивной консолидации общества и очень важ-<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 47
Ольга Вендина<br />
ных для постсоветского национально-государственного<br />
строительства.<br />
12 Согласно исследованиям Института социологии<br />
РАН, чувство общности с «европейцами»<br />
и «всеми людьми на планете» часто разделяли<br />
6 проц. и 8 проц. россиян, соответственно,<br />
а 33 проц. и 36 проц. — ощущали это иногда.<br />
(Российская идентичность в социологическом<br />
измерении: Аналитический доклад / Подготовлен<br />
в сотрудничестве с Представительством Фонда<br />
имени Фридриха Эберта в Российской Федерации.<br />
М.: ИС РАН, 2007.)<br />
13 Этнофор (от греч. ethnos — племя, народ; итальянск.<br />
<strong>for</strong>a — наружу, вперед) — индивид, носитель<br />
этнического самосознания. Существует множество<br />
конкурирующих форм групповой идентичности:<br />
по этничности, по политической лояльности, по<br />
социальной или профессиональной принадлежности,<br />
по месту проживания и проч. Каждая из этих<br />
идентичностей — сложное многомерное явление.<br />
Поскольку человек ощущает себя членом многих<br />
групп, он интуитивно выстраивает для себя иерархию<br />
их значимости в соответствии с собственным<br />
мировоззрением и системой ценностей. Для этнофоров<br />
как носителей этнического самосознания<br />
их принадлежность к этнической группе является<br />
доминирующим основанием самоопределения,<br />
влияющим на восприятие и оценку окружающей<br />
реальности. Этнофоры рассматривают все происходящее<br />
через призму пользы или вреда для своей<br />
этнической группы, которая в их глазах выступает<br />
в качестве объективно существующей общности,<br />
доказавшей свое право на исключительность, они<br />
декларируют свою ответственность за воспроизводство<br />
этнического самосознания и сохранность<br />
«родной» культуры.<br />
14 Выяснение причин роста доли уроженцев<br />
Москвы за межпереписной период 2002—2010<br />
годов требует дополнительных исследований.<br />
Могу высказать лишь некоторые предположения.<br />
Во-первых, неудовлетворительное качество<br />
проведения переписи могло привести к произвольному<br />
и неполному заполнению переписных<br />
листов. Во-вторых, антимигрантские настроения,<br />
существующие в Москве, могли влиять на настроения<br />
приезжих и их социально-психологическое<br />
самочувствие. Страхи заставляли людей скрывать<br />
информацию о своем происхождении и подчеркивать,<br />
что они «свои», а не «чужие». Перепись 2010<br />
года показала аналогичный сдвиг в сторону роста<br />
48 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
численности «русских» в Москве с 84 проц. до 91<br />
процента. В-третьих, помимо страха оказаться<br />
«чужаком», люди могли руководствоваться и стремлением<br />
примкнуть к группе «коренных москвичей»<br />
как представителей столичного населения, обладающих,<br />
в общественном мнении, полным спектром<br />
социальных прав по рождению.<br />
15 См. например: Борусяк Л. Указ. соч.<br />
16 Например, представление о Москве как<br />
социально-культурной целостности, обладающей<br />
самобытностью и особой культурой, стоит за предложением<br />
создать Кодекс москвича — свод правил<br />
жизни в столице — в качестве нормативного предписания<br />
для приезжих. В интервью «Российской<br />
газете» председатель комитета межрегиональных<br />
связей и национальной политики Москвы Михаил<br />
Соломенцев рассказал: «Пока существуют неписаные<br />
правила, которых обязаны придерживаться<br />
жители нашего города. Например, не резать<br />
барана во дворе, не жарить шашлык на балконе,<br />
не ходить по городу в национальной одежде, разговаривать<br />
по-русски... А в ближайшее время мы<br />
хотим разработать свод правил, которые помогут<br />
быстрее освоиться приезжим, которые остаются<br />
в Москве на постоянное место жительства. <br />
Приезжает человек, а ему земляки дают книжку:<br />
посмотри, почитай, что здесь принято, а что<br />
не принято. Суть новой концепции состоит<br />
в том, что… создание общности москвичей<br />
должно сделать всех жителей столицы членами<br />
одной команды, перед которыми стоят одни и<br />
те же задачи». См.: Москвичи пяти морей //<br />
Российская газета. 2010. 16 июня (http://www.<br />
rg.ru/2010/06/16/solomencev.html).<br />
17 Весна и протестные настроения. Прессвыпуск<br />
ВЦИОМ. № 1209. 2009. 24 апр. (http://<br />
wciom.ru/index.php?id=459&uid=11782);<br />
Протестные настроения россиян. Пресс-выпуск<br />
ВЦИОМ. № 1221. 2009. 13 мая (http://wciom.<br />
ru/index.php?id=459&uid=11838); В ожидании<br />
«горячей» осени: протестная активность россиян.<br />
Пресс-выпуск ВЦИОМ. № 1293 (http://wciom.ru/<br />
index.php?id=459&uid=12300).<br />
18 Жители шести крупных городов страны о<br />
выборах губернаторов и акциях протеста. Прессвыпуск<br />
Левада-Центра. 2012. 5 окт. (http://www.<br />
levada.ru/05-10-2012/zhiteli-shesti-krupnykh-gorodovstrany-o-vyborakh-gubernatorov-i-aktsiyakh-protesta).<br />
19 Козлов Н.Д. Политические культуры регионов<br />
России: Уравнение со многими неизвестными //
ПОЛИС (Политические исследования). 2008. № 4.<br />
С. 8—26.<br />
20 В пользу этого вывода говорит развитие многочисленных<br />
низовых инициатив, направленных<br />
на преобразование городской среды и ее «возвращение»<br />
жителям города. С частью из них можно<br />
познакомиться в СМИ, журнале «Большой город»,<br />
на сайтах www.partizanning.ru и Института архитектуры<br />
и дизайна «Стрелка», в изданиях молодежного<br />
движения «Оккупай» и др.<br />
21 Волков Д. Протестное движение в России в<br />
конце 2011—2012 гг.: Истоки, динамика, результаты.<br />
М.: Аналитический центр Юрия Левады<br />
(Левада-Центр), 2012.<br />
22 Принципы функционального зонирования территории<br />
городов были сформулированы в Афинской<br />
Архипелаг <strong>Москва</strong><br />
хартии (1933 год), провозгласившей, что зонирование<br />
есть мероприятие, осуществленное на плане<br />
города в целях обеспечения каждой функции и каждому<br />
жителю их правильного места. Функциональное<br />
зонирование широко применялось в обосновании<br />
множества проектов и генпланов городов, его принципы<br />
были закреплены в нормативных документах,<br />
что в значительной степени обусловило направленность<br />
советского градостроительства.<br />
23 Если принять во внимание мир гастарбайтеров,<br />
численность которых в Москве достигает<br />
миллиона человек и которые живут своей параллельной<br />
жизнью, соприкасаясь с москвичами лишь<br />
в сфере своей трудовой деятельности, то можно<br />
считать, что в столице сложилось три слабо связанных<br />
социальных мира.<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 49
ТЕМА НОМЕРА<br />
Праздники<br />
позитивной<br />
солидарности<br />
Насколько «родным» для города было московское протестное<br />
движение и насколько далеки от народа или близки к народу оказались<br />
демонстранты? | АЛЕКСЕЙ ЛЕВИНСОН<br />
<strong>Москва</strong> — это Россия или не Россия,<br />
об этом много толковали по стране<br />
в истекшем 2012 году. Минувший<br />
год начался, считают очень многие в Москве<br />
и довольно многие в России, под знаком удивительных<br />
событий. По случаю возмущения<br />
фальсификациями на выборах десятки или<br />
сотни тысяч человек разом вышли на демонстрации<br />
в Москве. Событий такого масштаба<br />
и такого характера за все постсоветские годы<br />
наша социальная история не знала.<br />
Общественность других городов России<br />
откликнулась похожими по настроению,<br />
но не похожими по масштабам митингами.<br />
Считать эти процессы общероссийскими или<br />
называть их узкомосковскими — это могло<br />
бы остаться академическим вопросом. Но в<br />
ответ на акции в Москве испуганная власть<br />
вначале сделала несколько жестов в направлении<br />
якобы демократическом. И эти жесты<br />
имели масштаб не столичный, а общероссийский.<br />
Выступления в Москве продолжались.<br />
В стране, судя по опросам, они встречали<br />
достаточно значительное одобрение. Испуг<br />
власти перед лицом москвичей был велик.<br />
На торжества инаугурации новоизбранный<br />
президент промчался по улицам столицы,<br />
очищенным от ее жителей кордонами полиции.<br />
Искать поддержки — силовой или сим-<br />
50 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
волической — власть стала в провинции, стараясь<br />
сыграть именно на этой ноте: <strong>Москва</strong><br />
не Россия, Россия не <strong>Москва</strong>. Из провинции<br />
везли в Москву иногородних голосовать не<br />
так, как голосовали бы москвичи, митинговать<br />
не так, как они митинговали (не против<br />
власти, а за). И силу против москвичей собирали<br />
иногороднюю: московский ОМОН укрепляли<br />
привозным, и пригрозили привезти<br />
уральских пролетариев разобраться с московским<br />
средним классом по-рабочему.<br />
Но к лету—осени 2012 года власть перешла<br />
к действиям другого рода. Начались<br />
репрессии против отдельных участников<br />
московских митингов. Репрессии касались<br />
относительно немногих лиц, известных и<br />
нет, но заводимые на них уголовные дела<br />
стали создавать фон, опору и оправдание для<br />
изменений законодательства и правоприменительной<br />
практики не на московском, а<br />
на федеральном уровне. Заодно с переменами<br />
в законе были даны предметные уроки<br />
того, что и нарушать законы власть будет<br />
без стеснения, когда ей потребуется применить<br />
к кому-либо насилие. Власть, напуганная<br />
москвичами, стала замораживать всю<br />
страну и узконаправленными репрессиями,<br />
и широко транслируемой на всю Россию<br />
телеклеветой на оппозицию, и массирован-
ными попытками заменить формирующуюся<br />
идеологию демократической модернизации<br />
идеологией ретроориентированного фундаментализма<br />
1 .<br />
Вопрос: <strong>Москва</strong> — это Россия или не<br />
Россия, приобрел, таким образом, острополитический<br />
и идеологический характер. У<br />
него ясно обозначилось и геополитическое<br />
измерение. Для наблюдающих извне за происходящим<br />
на одной седьмой части суши<br />
естественно отождествлять страну и ее столицу,<br />
а теперь, увы, естественно и говорить, что<br />
<strong>Москва</strong> прекратила свои попытки сближаться<br />
с демократической Европой, с Западом, и<br />
движется в сторону азиатских авторитарных<br />
режимов. А для наблюдателей изнутри страны<br />
(не изнутри столицы) все выглядит вовсе<br />
не так. Для них <strong>Москва</strong> — это авангард движения<br />
в Европу, на Запад, это сама Европа, это<br />
сам Запад с его/их извечным соблазном и<br />
извечной чужестью России.<br />
Чем богата столица<br />
Тезис «<strong>Москва</strong> — не Россия» любят подкреплять<br />
соображениями о богатстве Москвы и<br />
бедности остальной страны. Разрыв действи-<br />
Таблица 1<br />
Праздники позитивной солидарности<br />
тельно большой. Некорректно сравнивать<br />
жизнь мегаполиса и деревушки, она различается<br />
во всем мире. Сравним Москву с другими<br />
крупнейшими российскими городами<br />
(см. таблицу 1).<br />
Чтобы считаться богатым в «провинции»,<br />
достаточно иметь меньше половины тех<br />
денег, которые нужны для этого в Москве.<br />
А московский прожиточный минимум почти<br />
вдвое больше провинциального. Полуторадвукратный<br />
разрыв Москвы и «провинции»<br />
определяет соотношение большинства индексов<br />
по строке. В Москве богатые вчетверо<br />
богаче нормально живущих москвичей, почти<br />
в пятнадцать раз богаче бедных москвичей.<br />
В нестоличных городах отрыв богатых меньше:<br />
их бюджет — это три нормальных бюджета<br />
и десять бедняцких. Москвичи в разговорах<br />
с жителями других городов иногда пытаются<br />
сказать, что в Москве высоки не только<br />
доходы, но и расходы, но такие аргументы<br />
редко имеют успех. (Чаще всего их парируют<br />
сентенцией: «Нет, у нас вот цены московские,<br />
а зарплаты местные!»)<br />
Примем, что москвичи больше получают<br />
и больше тратят, чем в остальной России.<br />
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МОСКВИЧЕЙ И ЖИТЕЛЕЙ КРУПНЫХ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ О БОГАТСТВЕ И БЕДНОСТИ<br />
(УКАЗАНО СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ)<br />
<strong>Москва</strong><br />
Нижний Новгород, Ростов-на-Дону,<br />
Екатеринбург, Новосибирск<br />
СКОЛЬКО ДЕНЕГ НУЖНО СЕЙЧАС ВАШЕЙ СЕМЬЕ В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА В МЕСЯЦ, ЧТОБЫ ЖИТЬ, ПО ВАШИМ<br />
ПРЕДСТАВЛЕНИЯМ, НОРМАЛЬНО?<br />
53 тыс. рублей 30 тыс. рублей<br />
КАК ВЫ ПОЛАГАЕТЕ, КАКОЙ ДОХОД В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА В МЕСЯЦ ОБЕСПЕЧИВАЕТ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ<br />
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ?<br />
22 тыс. рублей 13 тыс. рублей<br />
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ПРИ КАКОМ СРЕДНЕМЕСЯЧНОМ ДЕНЕЖНОМ ДОХОДЕ В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА СЕМЬЮ МОЖНО<br />
СЧИТАТЬ БЕДНОЙ?<br />
14 тыс. рублей 9 тыс. рублей<br />
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, НАЧИНАЯ С КАКОГО СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ДОХОДА В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА, СЕМЬЮ<br />
МОЖНО СЧИТАТЬ БОГАТОЙ?<br />
200 тыс. рублей 93 тыс. рублей<br />
Опрос Левада-центра по репрезентативной выборке населения шести городов России (<strong>Москва</strong>, С.-Петербург, Нижний<br />
Новгород, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск) проведен 27 сентября — 1 октября 2012 года. Всего опрошено<br />
1500 человек.<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 51
Алексей левинсон<br />
Таблица 2<br />
Назначался Президентом России по представлению<br />
Законодательного собрания региона<br />
Но определяет ли это отличие в материальной<br />
жизни различия в жизни гражданской?<br />
Вот ответы по поводу одного из самых дискуссионных<br />
вопросов нашей политической<br />
системы (см. таблицу 2 на с. 52). (Его дискуссионность<br />
состоит в том, что в отличие<br />
от большинства политических новаций<br />
Владимира Путина отмена губернаторских<br />
выборов никогда не встречала согласия<br />
публики.)<br />
Позиции столичных и нестоличных горожан<br />
полностью совпадают.<br />
А вот мнение по поводу событий и действий,<br />
которые иногда пытаются представить<br />
как исключительно московские (см.<br />
таблицу 3 на с. 52).<br />
Мы видим, что размеры твердой поддержки<br />
этих акций в Москве и в других больших<br />
городах одинаковы. В большинстве крупных<br />
городов страны в самом деле проходили такие<br />
же акции, как в Москве, но отличались существенно<br />
меньшей абсолютной численностью;<br />
различия в доле были меньше, если учесть, что<br />
52 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
ВЫ БЫ ПРЕДПОЧЛИ, ЧТОБЫ ГУБЕРНАТОР ВАШЕГО РЕГИОНА …<br />
<strong>Москва</strong><br />
Нижний Новгород, Ростов-на-Дону,<br />
Екатеринбург, Новосибирск<br />
17 16<br />
Избирался населением региона 77 77<br />
Затрудняюсь ответить 6 7<br />
27 сентября — 1 октября 2012 года; в % от числа опрошенных. N=1500.<br />
Таблица 3<br />
эти города в 5—6 раз меньше столицы по количеству<br />
жителей. Что касается доли от населения,<br />
то, как видим, различия совсем невелики.<br />
В Москве заявили, что готовы лично участвовать<br />
в подобных акциях, 19 проц., в четырех<br />
крупнейших городах «провинции» — 15 процентов<br />
(см. таблицу 4 на с. 53).<br />
На короткой дистанции<br />
Иными словами, можно сказать, что в столице<br />
сочувствует (своим) манифестантам<br />
примерно половина жителей, в провинции<br />
(московским) манифестантам сочувствует<br />
примерно треть. Разрыв, заметим, совсем<br />
не такой разительный, как в рассмотренных<br />
показателях благосостояния. Важно иметь в<br />
виду, что описываемые города отличаются от<br />
Москвы не только в разы меньшим числом<br />
жителей, но и следующим из этого эффектом<br />
меньшей социальной дистанции между жителями.<br />
Здесь люди больше на виду друг у друга,<br />
а также у соответствующих инстанций, здесь<br />
сильнее и жестче все формы социального<br />
ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ЛИ ВЫ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ВЫХОДЯТ НА АКЦИИ ПРОТЕСТА, ПРОХОДЯЩИЕ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ<br />
С ЛОЗУНГАМИ «ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ!», ОСВОБОЖДЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ И Т. П.?<br />
<strong>Москва</strong><br />
Нижний Новгород, Ростов-на-Дону,<br />
Екатеринбург, Новосибирск<br />
Определенно да 16 14<br />
Скорее да 37 29<br />
Скорее нет 15 21<br />
Определенно нет 25 32<br />
Затрудняюсь ответить 7 4<br />
27 сентября — 1 октября 2012 года; в % от числа опрошенных. N=1500.
Таблица 4<br />
контроля. Поэтому цена даже самих ответов<br />
(«приму участие в акции протеста»), даваемых<br />
интервьюеру в городах провинции, в те<br />
же разы больше, нежели в двенадцатимиллионной<br />
столице.<br />
Массовые мирные демонстрации, напугавшие<br />
власть так, как ее не пугали никакие<br />
катастрофы с десятками и сотнями жертв,<br />
прошли, повторим, в Москве. Но принятые<br />
в невероятной спешке законы об ужесточении<br />
ответственности за участие в таких<br />
акциях — это федеральные законы, они действуют<br />
по всей стране. Точнее, как показывают<br />
данные, приводимые ниже (см. таблицу<br />
5 на с. 54), не оказывают предполагаемого<br />
действия, по крайней мере пока. Около двух<br />
третей опрошенных в крупных городах и в<br />
Москве заявляют, что их терроризировать<br />
не удалось.<br />
Неклассический центр<br />
Российское общество принадлежит к довольно<br />
широкому классу социальных систем,<br />
где доминирующими являются законы взаимодействия<br />
центра и периферии. Если<br />
говорить о культурной стороне процесса, то<br />
классическая форма такого взаимодействия<br />
состоит в том, что центр распространяет<br />
на периферию импульсы в виде культурных<br />
инноваций. Они расходятся по социальному<br />
пространству, где мера удаленности от центра<br />
определяет собой и социальное время,<br />
то есть время, за которое инновация доходит<br />
Праздники позитивной солидарности<br />
ЕСЛИ ТАКИЕ АКЦИИ ПРОТЕСТА БУДУТ ПОВТОРЯТЬСЯ, ГОТОВЫ ЛИ ВЫ ПРИНЯТЬ В НИХ УЧАСТИЕ?<br />
<strong>Москва</strong><br />
Нижний Новгород, Ростов-на-Дону,<br />
Екатеринбург, Новосибирск<br />
Определенно да 5 3<br />
Скорее да 14 12<br />
Скорее нет 29 29<br />
Определенно нет 41 46<br />
Затрудняюсь ответить 11 10<br />
27 сентября — 1 октября 2012 года; в % от числа опрошенных. N=1500.<br />
до данной точки на периферии. Культурная<br />
роль пространства и времени в таком случае<br />
сводится к задержке, гашению и искажению<br />
сигнала. Социальная роль периферии, напротив,<br />
состоит в поддержке центра, снабжении<br />
его разнообразными ресурсами, в том числе<br />
человеческими.<br />
Есть особый горький соблазн примерять<br />
к себе такую модель. Но Россия последних<br />
десятилетий представляла собой неклассический<br />
— с точки зрения описанной модели —<br />
случай. Точнее, роль Москвы как культурного<br />
центра сохранялась, если говорить о массовой<br />
культуре. Система массовых коммуникаций,<br />
выстроенная наподобие паутины,<br />
рассылала из центра образцы этой массовой<br />
культуры в виде примеров того, что надо слушать,<br />
думать, чувствовать (и соответственно,<br />
чего не слышать, не видеть, не думать и не<br />
чувствовать). Это происходило при помощи<br />
передач центральных каналов ТВ. Отметим<br />
особую роль рекламы, вставленной в зазоры<br />
между передачами. Рекламируя товары, которые<br />
затем становятся доступными жителям<br />
периферии, а еще более того, путем рекламы<br />
благ и услуг, которые не станут доступными,<br />
<strong>Москва</strong> формировала то, что теперь и в<br />
центре, и на периферии гневно клеймят как<br />
«потребительское общество». Кто-то скажет,<br />
что справедливости ради надо упомянуть и<br />
трансляцию «настоящих» культурных ценностей,<br />
вспомнит канал «Культура» и ему<br />
подобные передачи. Сравнение их рейтингов<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 53
Алексей левинсон<br />
с рейтингами передач «больших» каналов,<br />
увы, покажет, что на роль центра по рассылке<br />
большой культуры, по культурному<br />
окормлению страны московский узел СМИ<br />
не годится.<br />
Дело в политике. Выполняя — наряду с<br />
виноторговлей — задачу держать страну в<br />
состоянии неполной трезвости, неполной<br />
сознательности, частичной мобилизованности<br />
и частичной же расслабленности,<br />
центральные каналы, не будем обольщаться,<br />
не могли делать это, как иногда советуют,<br />
уйдя от политики, но сея разумное и доброе<br />
с помощью популяризации «хорошего искусства»,<br />
«настоящей науки»…<br />
Наука и культура основываются на таких<br />
ценностях, что в случае, если бы все эфирное<br />
время было отдано им, то и без специальной<br />
пропаганды и воспитательной работы, формируя<br />
за счет этих ценностей нравственную<br />
личность у человека, они привели бы к появлению<br />
в массовом масштабе людей, которые<br />
непременно спросят и про ответственность<br />
властей за произвол, и про ответственность<br />
воров за кражи, и пр., и пр. Потому массовым<br />
материалом стали сюжеты, посвященные<br />
тому, что находится за рамками повседневности<br />
или нормы: жизни звезд, мистике,<br />
нарушениям норм общежития и разных табу,<br />
наконец, прямому криминалу.<br />
Итак, <strong>Москва</strong> в нашей неклассической<br />
модели не выступала центром распространения<br />
культуры. Что же касается ресурсной<br />
Таблица 5<br />
54 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
поддержки со стороны периферии, ею<br />
она пользовалась изо всех сил. Речь идет,<br />
во-первых, о широко обсуждаемом и осуждаемом<br />
по всей стране процессе изъятия<br />
центром у регионов большей части производимой<br />
там добавочной стоимости, откачке<br />
капитала. Во-вторых, об «отсасывании» (так<br />
это часто называют) человеческих капиталов.<br />
Наиболее мобильная часть населения<br />
устремляется именно в столицу. Наконец,<br />
третий вид ресурса, который столица берет<br />
у периферии, — это ресурс произвола. Для<br />
сверхцентрализованных систем, к каким<br />
относится и политическая система РФ,<br />
характерно правило: законы строже соблюдаются<br />
в центре, строгость соблюдения<br />
падает по мере удаления от него. В нашем<br />
же случае нарушения законов, охраняющих,<br />
например, права и свободы граждан, вначале<br />
характерные для глуши и глубинки, там<br />
приобретшие статус де-факто разрешенных,<br />
ненаказуемых, берутся на вооружение, а<br />
затем эта практика применяется в центре.<br />
Когда власти начали раскручивать репрессивную<br />
реакцию на митинги, используя<br />
как повод так называемые массовые беспорядки<br />
на майском митинге в Москве, в ход<br />
пошли те практики, которые, как отмечали<br />
наблюдатели, раньше были мыслимы только<br />
на окраинах, прежде всего на Северном<br />
Кавказе: задержания, аресты случайных лиц,<br />
превращение их в обвиняемых, похищения,<br />
пытки и — полная анонимность, что означает<br />
МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ СКАЗАТЬ, ЧТО МЫСЛИ О ВОЗМОЖНЫХ ШТРАФАХ И ПРЕСЛЕДОВАНИЯХ СО СТОРОНЫ ВЛАСТЕЙ<br />
СДЕРЖИВАЮТ ВАШУ ГОТОВНОСТЬ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В ПОДОБНЫХ ПРОТЕСТНЫХ АКЦИЯХ?<br />
<strong>Москва</strong><br />
Нижний Новгород, Ростов-на-Дону,<br />
Екатеринбург, Новосибирск<br />
Определенно да 10 4<br />
Скорее да 13 16<br />
Скорее нет 22 26<br />
Определенно нет 41 43<br />
Затрудняюсь ответить 14 11<br />
27 сентября — 1 октября 2012 года; в % от числа опрошенных. N=1500.
безнаказанность исполнителей этих акций.<br />
<strong>Москва</strong> оказалась все же Россией — но в худшем<br />
из возможных смыслов слова.<br />
Люди небедные<br />
Когда в Москве прошли первые митинги протеста,<br />
стало распространяться мнение, что<br />
это поднялась не <strong>Москва</strong>, по крайней мере<br />
не вся <strong>Москва</strong>, а лишь ее некая особая часть,<br />
не имеющая права говорить от имени всей<br />
Москвы, а тем более — от имени всей России.<br />
Особо нажимали на то, каково имущественное<br />
положение участников митингов.<br />
Вопрос о степени зажиточности людей,<br />
принимавших участие в митингах, обладает<br />
особой важностью по нескольким причинам.<br />
Первая состоит в том, что в российской массовой<br />
политической культуре усилиями нескольких<br />
поколений вульгарных марксистов<br />
утвердилось представление о материальном<br />
интересе как главном движущем мотиве человеческого<br />
поведения, прежде всего массового.<br />
Такое представление о том, что важно, входит<br />
и во властный, и в массовый дискурс. То есть<br />
протестное движение, вызываемое массовым<br />
материальным интересом, понятно власти.<br />
Участники движения и те, кому адресован<br />
протест, оказываются противниками, понимающими<br />
друг друга. У такого движения есть<br />
своего рода легитимность. Трудящиеся, борющиеся<br />
за свои права, голодные, поднявшиеся<br />
на бунт, бедные, восставшие против богатых,<br />
правы. Признание их правоты еще не значит<br />
непременно, что им уступят. Расстрел демонстрации<br />
в Новочеркасске очевидным образом<br />
свидетельствует о том, что власть в испуге<br />
идет и на кровопролитие.<br />
Между тем более недавний опыт мгновенного<br />
отступления власти, объявившей о<br />
монетизации льгот, лишь только выяснилось,<br />
что пенсионеры готовы к массовому протесту,<br />
все же показывает, что власть уважает материальный<br />
интерес и считает его достаточным<br />
основанием для протеста. Детальный анализ<br />
Праздники позитивной солидарности<br />
событий вокруг этого эпизода позволяет сделать<br />
выводы о том, что материальный интерес<br />
был приписан протестантам-пенсионерам<br />
со стороны власти в силу все того же факта,<br />
что власть понимает лишь эту мотивацию<br />
массовых действий протеста. На деле пенсионеры<br />
боролись как раз против «материалистического»<br />
понимания их интересов. Они<br />
хотели сказать, что не согласны на замену<br />
обезличенными денежными выплатами тех<br />
льгот, что выступают в качестве символического<br />
признания их заслуг, выделяющих их из<br />
всего остального общества. Но «экономически<br />
мыслящая» власть этого понять не могла<br />
и приписала им «монетарный» и тем самым<br />
основательный мотив.<br />
В случае с московскими (именно московскими)<br />
митингами «материальная» проблематика<br />
предстала в осложненном рефлексией<br />
виде. Самая первая характеристика<br />
социальной природы митингующих была<br />
дана Леонидом Парфеновым первой фразой<br />
в его первом сообщении с Болотной площади.<br />
Самое главное, что он увидел и поспешил<br />
сообщить остальному миру, отлилось<br />
в слова: «здесь собрались люди небедные».<br />
Парфенов человек ни в коем разе не случайный<br />
и не чужой на этом митинге. По опросу<br />
участников (см. ниже) вышло, что из<br />
деятелей оппозиции ему сначала доверяли<br />
больше всех. Но мы рискнем предположить,<br />
что, говоря в камеру, так высказался не<br />
Парфенов — участник митинга или лидер<br />
оппозиции, а журналист Парфенов, легко<br />
встающий на точку зрения внешнего и притом<br />
массового наблюдателя и/или наблюдателя<br />
со стороны властей. Ожидания и того<br />
и другого, одинаково основанные на вышеописанных<br />
клише: настоящий бунт и протест<br />
— это дело бедных, — оказались нарушены.<br />
Опросы на митингах в самом деле<br />
показывают, что по располагаемому доходу<br />
многие участники относились к «небедным»<br />
слоям, и в этом состав митингующих имел<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 55
Алексей левинсон<br />
Таблица 6<br />
значительные отличия и от состава московского<br />
населения, и населения всей страны<br />
(см. таблицу 6 на с. 56).<br />
Для наглядности можно представить соотношение<br />
двух агрегированных категорий:<br />
одну назовем парфеновским словечком «небедные»,<br />
тогда как другую естественно именовать<br />
«небогатые» (см. рисунок 1 на с. 57).<br />
Диаграмма, построенная на тех же данных,<br />
что и приведенная выше таблица, позволяет<br />
более ясно видеть, что «население»<br />
митингов за этот неспокойный период приблизилось<br />
по своей зажиточности к общим<br />
показателям по столице в целом. Этот результат<br />
исследований важен в основном для опро-<br />
56 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
К КАКОЙ ИЗ КАТЕГОРИЙ ВЫ СЕБЯ СКОРЕЕ БЫ ОТНЕСЛИ?<br />
Митинг<br />
24 декабря<br />
N=771<br />
Митинг<br />
4 февраля<br />
N=1346<br />
Митинг<br />
15 сентября<br />
N=800<br />
<strong>Москва</strong><br />
2012<br />
N=500<br />
Нам не хватает денег даже на питание 3 2 1 1 5<br />
Нам хватает денег на питание, но не хватает<br />
на одежду<br />
Нам хватает денег на питание и одежду, покупка<br />
более дорогих вещей, таких как телевизор<br />
или холодильник, вызывает у нас проблемы<br />
Мы можем покупать некоторые дорогие<br />
вещи, такие как холодильник или телевизор,<br />
но не можем купить автомобиль<br />
Мы можем купить автомобиль, но не можем<br />
сказать, что не стеснены в средствах<br />
Россия<br />
2012<br />
N=1600<br />
4 5 7 6 22<br />
21 25 29 31 50<br />
40 41 45 53 19<br />
28 24 16 8 3<br />
Мы можем ни в чем себе не отказывать 5 3 3 0,4 1<br />
Приводятся ответы участников трех митингов в сравнении с данными регулярных опросов по Москве в целом и по России<br />
в целом (в % от числа опрошенных).<br />
Таблица 7<br />
вержения демагогических заявлений о том,<br />
что взбунтовались «одни богатые», а простые<br />
москвичи всем довольны и не склонны<br />
к протесту. Но более важны для понимания<br />
социальной картины протеста детальные<br />
данные таблицы (см. таблицу 6 на с. 56),<br />
которые показывают, что бедных на митинге<br />
было именно столько, сколько их есть в<br />
московском населении. Наши бедные — это<br />
прежде всего одинокие пенсионеры. Опросы<br />
и наблюдения показывают, что эта категория<br />
также была непременным участником акций<br />
протеста, хотя его значительную и наиболее<br />
характерную часть составляли люди так<br />
называемого активного возраста, и молодежи<br />
ВОЗРАСТНАЯ И ГЕНДЕРНАЯ СТРУКТУРА УЧАСТНИКОВ МИТИНГОВ ПРОТЕСТА В МОСКВЕ В СРАВНЕНИИ С ДАННЫМИ<br />
ПО МОСКВЕ В ЦЕЛОМ И РОССИИ В ЦЕЛОМ (% ОТ ЧИСЛА ОПРОШЕННЫХ)<br />
Митинг<br />
24 декабря<br />
N=771<br />
Митинг<br />
4 февраля<br />
N=1346<br />
Митинг<br />
15 сентября<br />
N=800<br />
<strong>Москва</strong><br />
2012<br />
N=500<br />
Россия<br />
2012<br />
N=1600<br />
Мужчины 60 65 61 46 46<br />
Женщины 40 35 39 54 54<br />
Моложе 25 лет 25 21 23 10 14<br />
25—55 лет 53 59 62 58 56<br />
Старше 55 лет 22 20 15 32 30
Рисунок 1<br />
было больше, чем в населении Москвы и<br />
России в среднем (см. таблицу 7 на с. 56).<br />
Приходилось неоднократно слышать о<br />
том, что в Москве на улицы вышел «средний<br />
класс». В условиях, когда критериям «среднего<br />
класса» в тех странах, где этот термин<br />
возник, в российской социальной среде не<br />
отвечает никакой класс, а также нет принятого<br />
всеми определения российского среднего<br />
класса, смысл такого соображения сводится<br />
ко все тому же тезису о «небедных».<br />
В современном речевом обиходе у словосочетания<br />
«средний класс» есть не то чтобы<br />
эквиваленты, но производные, нагруженные<br />
оценкой в гораздо большей степени.<br />
К собиравшимся на площадях применяли<br />
определения «сетевые хомячки», «офисный<br />
планктон». При этом в таких квалификациях<br />
не было того удивления или умиления,<br />
которое можно ожидать: вот, бессловесные<br />
и бессмысленные, казалось бы, существа, а<br />
тоже имеют гражданские чувства. Нет, эмоциональный<br />
заряд был противоположным:<br />
не обращайте внимания на этих субъектов,<br />
говорящих о своих гражданских правах,<br />
предъявляющих требования к власти. Они<br />
ничтожества.<br />
Праздники позитивной солидарности<br />
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ УЧАСТНИКОВ МИТИНГА, МОСКВИЧЕЙ И РОССИЯН В 2012 Г., В %<br />
Ясно, что так о них можно сказать с двух<br />
позиций. Одна — это позиция вельможи,<br />
высокого чина, у которого под рукой тысячи<br />
таких существ, и он волен распоряжаться<br />
ими. Он может действительно влиять на<br />
жизнь, а их удел — отсиживаться в социальных<br />
сетях. Примерно с такой позиции<br />
обращался к демонстрантам президент, ему<br />
пришло в голову уподобить московских граждан<br />
бандерлогам. Другая позиция — позиция<br />
«рабочего человека», который занимается<br />
настоящим делом (то есть физическим трудом),<br />
а не просиживает штаны в конторе. Тот<br />
же президент, повторим, в один из острых<br />
моментов даже пробовал искать защиты у<br />
представителей этой позиции. Исследования<br />
показали, что те слои населения в регионах<br />
России, которые поддерживают ранее упомянутый<br />
тезис «<strong>Москва</strong> — не Россия», склонны<br />
разделять и представление о том, что <strong>Москва</strong><br />
в основном заполнена «планктоном» или<br />
«хомячками». Тогда можно с облегчением<br />
сказать себе, что нам — российским трудящимся,<br />
но бедным людям — с этими богатыми<br />
московскими бездельниками не по пути,<br />
и слушать, что они там требуют, против чего<br />
бунтуют, не надо.<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 57
Алексей левинсон<br />
Рисунок 2<br />
Но искомый эффект если и возник, оказался<br />
слаб. Разрыв между участниками демонстраций<br />
и остальным населением столицы и страны<br />
состоял не только в степени зажиточности,<br />
но и в уровне образованности (см. рисунок 2<br />
и таблицу 8 на с. 58). Однако из таблиц и диаграмм<br />
хорошо видно, что по показателям<br />
зажиточности <strong>Москва</strong> отличается от России<br />
гораздо больше, чем по показателям образованности.<br />
А при сравнении состава участников<br />
митингов с населением Москвы и России мы,<br />
соответственно, видим, что они более отличаются<br />
по образованности, нежели по богатству.<br />
Таблица 8<br />
ДОЛЯ ЛИЦ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ СРЕДИ УЧАСТНИКОВ МОСКОВСКИХ ПРОТЕСТНЫХ АКЦИЙ<br />
И СРЕДИ ВСЕГО НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ И РОССИИ (2012 ГОД), В %<br />
58 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
Образованных в Москве больше, чем в<br />
России, примерно в два раза, а обеспеченных<br />
— примерно в три раза. Что касается<br />
митингующих, то по уровню обеспеченности<br />
они постепенно приблизились к общемосковским<br />
показателям (как уже отмечалось<br />
выше), но по уровню образования продолжают<br />
сохранять большой отрыв.<br />
Есть смысл по-иному взглянуть на данные,<br />
представленные в таблицах. Тогда станет<br />
видно, что действительно «<strong>Москва</strong> не<br />
Россия», но модель России, усиливающая ее<br />
определенные параметры. В свою очередь,<br />
ОБОБЩЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЛАГОСОСТОЯНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ МИТИНГОВ ПО СРАВНЕНИЮ С МОСКВОЙ<br />
И РОССИЕЙ В ЦЕЛОМ (В % ОТ ЧИСЛА ОПРОШЕННЫХ)<br />
Митинг<br />
24 декабря<br />
N=771<br />
Митинг<br />
4 февраля<br />
N=1346<br />
Материальное положение<br />
Митинг<br />
15 сентября<br />
N=800<br />
<strong>Москва</strong><br />
2012<br />
N=500<br />
Россия<br />
2012<br />
N=1600<br />
Небогатые 27 32 36 38 77<br />
Небедные 73 68 64 62 23<br />
Уровень образования<br />
Среднее 18 19 28 47 71<br />
Высшее 82 81 72 53 29
Таблица 9<br />
сообщества людей, собиравшиеся на митинги,<br />
могут быть рассмотрены как модели Москвы,<br />
московского социума, акцентирующие его<br />
особые (кто желает, может сказать — лучшие)<br />
черты. Например, <strong>Москва</strong> — образованный<br />
город России. Митинг — это «образованная<br />
<strong>Москва</strong>» в миниатюре, в живой модели.<br />
К мысли о том, что митинги — модель городского<br />
сообщества, мы вернемся позднее.<br />
Быть образованным у нас более почетно,<br />
чем быть богатым. Наверное, поэтому в<br />
сочувственных публикациях в прессе перешли<br />
к именованию митингующих «креативным<br />
классом». Это определение тоже нельзя считать<br />
точным. Понятие «креативный класс»<br />
ввели на Западе для обозначения людей,<br />
занятых инновационной деятельностью. У<br />
нас тоже было решено «внедрять инновации»,<br />
и кому-то приходится этим заниматься.<br />
Но «креативные» — это про тех, кто стоит<br />
первыми в цепи. Они создающие, а не внедряющие<br />
созданное другими. А наше место в<br />
этой цепи редко третье, чаще — четвертое—<br />
шестое. Так что от лестного классового опре-<br />
Праздники позитивной солидарности<br />
НЕ МОГЛИ БЫ ВЫ СКАЗАТЬ, ЛЮДИ КАКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИ ВАМ ПО СВОИМ ИДЕЯМ?<br />
Митинг<br />
24 декабря<br />
N=771<br />
Митинг<br />
4 февраля<br />
N=1346<br />
Митинг<br />
15 сентября<br />
N=800<br />
Демократы 38 30 29<br />
Либералы 31 27 23<br />
Коммунисты 13 18 17<br />
Социалисты/социал-демократы 10 10 10<br />
«Зеленые» 8 6 10<br />
Национал-патриоты 6 14 12<br />
Анархисты 3 4 4<br />
Консерваторы 3 2 3<br />
«Антифа» 2 2 3<br />
«Новые левые» 2 4 7<br />
Другие 4 4 4<br />
Никто из них 6 6 7<br />
Затрудняюсь ответить 3 2 6<br />
деления пока надо бы отказаться. Но если<br />
вести речь об уровне креативности тех, кто<br />
ходил на митинги и приносил туда плакаты,<br />
то он, несомненно, очень высок. Недаром<br />
несколько организаций и специалистов ринулись<br />
сохранять на фото и в подлинниках этот<br />
митинговый дизайн (см., например, выставку<br />
в АРТ-МОСКВА). Такого взлета фантазии,<br />
остроумия, тонкой иронии и изысканного<br />
вкуса московским улицам до того видеть не<br />
приходилось.<br />
Стоит отметить, что сами участники не<br />
применяли к себе эти вроде бы лестные классовые<br />
определения. Сами себя они называли<br />
чаще всего «люди» или «москвичи».<br />
Граждане горожане<br />
Правильное определение тех, кто вышел на<br />
улицы, полагаем мы, дали опрошенные нами<br />
офицеры МВД: «граждане», «рассерженные<br />
горожане». Действительно, это «граждане»,<br />
ибо они вышли именно потому, что чувствуют<br />
себя таковыми. И этих горожан/граждан объединяла<br />
одна эмоция — они были рассержены.<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 59
Алексей левинсон<br />
Таблица 10<br />
КОМУ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ/ЛИДЕРОВ ОППОЗИЦИИ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ?<br />
Гнев — это эмоция. Но гнев людей, знающих,<br />
что есть причина их гнева и на кого он<br />
направлен, — это уже не эмоция, а позиция.<br />
Исследование показало, что у большинства<br />
пришедших эта позиция была, и она могла<br />
быть описана на политическом языке (см.<br />
таблицу 9 на с. 59) не через указание врагов, а<br />
через указание союзников.<br />
Таким образом, основная часть опрошенных<br />
заявили о своих симпатиях демократам,<br />
сравнимое с ними количество симпатизируют<br />
либералам. Проведенные опросы<br />
показали, что в том политическом языке,<br />
который был использован респондентами,<br />
между категориями «демократ» и «либерал»<br />
нет политических различий. Так, для многих<br />
«либералов» слово «демократ» тоже годилось<br />
бы, но участники опросов чувствуют, что оно<br />
в нынешнем языке слишком «истаскано» и<br />
60 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
Митинг<br />
24 декабря 2011 года (место в рейтинге)<br />
Леонид Парфёнов 1<br />
Алексей Навальный 2<br />
Борис Акунин 3<br />
Юрий Шевчук 4<br />
Григорий Явлинский 5<br />
Владимир Рыжков 6<br />
Михаил Прохоров 7<br />
Евгения Чирикова 8<br />
Борис Немцов 9<br />
Алексей Кудрин 10<br />
Геннадий Гудков 11<br />
Илья Яшин 12<br />
Сергей Миронов 13<br />
Сергей Удальцов 14<br />
Сергей Митрохин 15<br />
Михаил Касьянов 16<br />
Илья Пономарёв 17<br />
Александр Белов 18<br />
Владимир Тор 19<br />
«замазано». В любом случае эти люди понимали,<br />
что их воззрения являются по сути дела<br />
оппозиционными, но не совпадающими с<br />
симпатиями тех, кто поддерживает обозначившуюся<br />
было оппозицию внутри парламента:<br />
коммунистов, жириновцев и справороссов.<br />
Подавляющее большинство — особенно<br />
мощное в первой фазе процесса — определяло<br />
себя как сознательную демократическолиберальную<br />
внепарламентскую оппозицию.<br />
И если среди сторонников парламентских<br />
оппозиционных партий в декабре 2012 года<br />
до 10 проц. проголосовали бы за Путина на<br />
воображаемых президентских выборах «в<br />
ближайшее воскресенье», то среди участников<br />
митинга 24 декабря 2011-го на предстоявших<br />
реальных выборах в марте Путина<br />
готовы были поддержать не более одного<br />
процента.
Таблица 11<br />
На митинге 24 декабря абсолютное и подавляющее<br />
большинство (96 проц.) поддерживали<br />
основное требование — отмену результатов<br />
выборов и проведение новых. Кроме<br />
того, 97 проц. были согласны с требованием<br />
об отставке главы ЦИК РФ Владимира<br />
Чурова и роспуске избирательных комиссий.<br />
Характерно, что 83 проц. участников<br />
акции поддержали требование об освобождении<br />
всех политзаключенных, в частности<br />
Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.<br />
(При этом иной точки зрения придерживаются<br />
11 процентов.) Пройдет полгода, и<br />
Праздники позитивной солидарности<br />
КОМУ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ/ЛИДЕРОВ ОППОЗИЦИИ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ?<br />
Митинг<br />
15 сентября 2012 года (место в рейтинге)<br />
Алексей Навальный 1<br />
Борис Акунин 2<br />
Юрий Шевчук 3<br />
Сергей Удальцов 4<br />
Илья Яшин 5<br />
Геннадий Гудков 6<br />
Леонид Парфёнов 7<br />
Гарри Каспаров 8<br />
Дмитрий Быков 9<br />
Дмитрий Гудков 10<br />
Ксения Собчак 11<br />
Владимир Рыжков 12<br />
Евгения Чирикова 13<br />
Илья Пономарёв 14<br />
Борис Немцов 15<br />
Григорий Явлинский 16<br />
Ольга Романова 17<br />
Алексей Кудрин 18<br />
Сергей Пархоменко 19<br />
Сергей Миронов 20<br />
Елизавета Глинка 21<br />
Михаил Касьянов 22<br />
Эдуард Лимонов 23<br />
Михаил Прохоров 24<br />
Сергей Митрохин 25<br />
политзаключенными станут называть тех,<br />
кто был осужден за свои действия на митинге<br />
шестого мая.<br />
Большинство опрошенных (73 проц.)<br />
пришли на проспект Сахарова выразить<br />
возмущение фальсификациями на выборах<br />
в Госдуму. Но столько же (73 проц.) назвали<br />
причину гораздо более общего характера:<br />
«недовольство положением дел в стране».<br />
Митинг на проспекте Сахарова был не отдельным<br />
событием, а частью протеста как процесса:<br />
большинство (56 проц.) демонстрантов<br />
участвовали в митинге на Болотной площади,<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 61
Алексей левинсон<br />
Таблица 12<br />
КОМУ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ/ЛИДЕРОВ ОППОЗИЦИИ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ?<br />
22 проц. митинговали 5 декабря на Чистых<br />
прудах. Процесс в этом фазисе захватывал все<br />
новые круги: 37 проц. тогда впервые вышли<br />
на улицу. Отметим для будущих рассуждений<br />
особый уровень согласия среди митингующих.<br />
Согласие на уровне 70 проц. опрошенных<br />
крайне редко встречается в опросах<br />
общественного мнения. Здесь же ряд вопросов<br />
вызывал согласие еще более высокое.<br />
Политика без политиков<br />
Протест можно назвать политическим в<br />
том смысле, что он был протестом против<br />
политически значимых действий властных<br />
структур, но он явно принадлежит новой<br />
политической парадигме. Это политика без<br />
политиков.<br />
Посмотрим, кому выражали наибольшее<br />
доверие демонстранты самого большого<br />
62 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
24 декабря 15 сентября<br />
Повышение (+) или<br />
понижение (-) места<br />
Сергей Удальцов 14 4 +10<br />
Илья Яшин 12 5 +7<br />
Геннадий Гудков 11 6 +5<br />
Илья Пономарёв 17 14 +3<br />
Алексей Навальный 2 1 +1<br />
Борис Акунин 3 2 +1<br />
Юрий Шевчук 4 3 +1<br />
Михаил Прохоров 7 24 -17<br />
Александр Белов 18 33 -15<br />
Владимир Тор 19 34 -15<br />
Сергей Митрохин 15 25 -10<br />
Григорий Явлинский 5 16 -8<br />
Алексей Кудрин 10 18 -8<br />
Сергей Миронов 13 20 -7<br />
Леонид Парфёнов 1 7 -6<br />
Владимир Рыжков 6 12 -6<br />
Борис Немцов 9 15 -6<br />
Михаил Касьянов 16 22 -6<br />
Евгения Чирикова 8 13 -5<br />
оппозиционного собрания (см. таблицу 10 на<br />
с. 60).<br />
Первые места были отданы общественным<br />
фигурам, пришедшим в политику, но не в<br />
качестве профессионалов-политиков, а как<br />
раз наоборот, в качестве признанных профессионалов<br />
в области искусств или деятельности,<br />
так сказать, контрполитической (в<br />
случае Навального). Им свидетельствовали<br />
уважение, но их не собирались выдвигать в<br />
руководители движения.<br />
Что касается профессиональных политиков,<br />
то их упоминали, но гораздо реже, чем<br />
общественных деятелей нового типа.<br />
С конца декабря 2011-го до середины сентября<br />
2012 года, когда был произведен аналогичный<br />
замер, прошли необычайно наполненные<br />
общественными событиями времена.<br />
Протест как процесс сменил несколько фаз.
Произошло множество событий, выдвигавших<br />
те или иные фигуры в центр общественного<br />
внимания.<br />
Вот какой вид принял список деятелей,<br />
пользующихся доверием митингующих (см.<br />
таблицу 11 на с. 61).<br />
Прежде всего отметим появление на относительно<br />
заметных местах нескольких новых<br />
для этого списка фигур. Их отсутствие в<br />
списке 24 декабря в какой-то степени можно<br />
считать случайностью. Но их присутствие<br />
случайностью быть не может. За вычетом<br />
Гарри Каспарова и Эдуарда Лимонова все они<br />
либо вообще не политики, либо политики<br />
некоего нового типа.<br />
Сравнение списков 24 декабря и 15 сентября<br />
показывает, что движение по-прежнему<br />
наделяет наибольшим доверием музыканта,<br />
писателя и блогера, прославившегося разоблачениями<br />
коррупции.<br />
Существенно возросло доверие к новым<br />
деятелям оппозиции. Но не исключено, что<br />
это следствие репрессий, применяемых к ним<br />
со стороны власти. В таком случае правильнее<br />
говорить о том, что, называя эти имена в<br />
ответ на вопрос о доверии, участники митинга<br />
скорее выражают им свое сочувствие и поддержку,<br />
свидетельствуют им свое уважение.<br />
Между тем наиболее поучительным представляется<br />
развитие дел с группой профессиональных<br />
политиков. Именно они понесли<br />
потери в доверии, зачастую потери драматические<br />
(см. таблицу 12 на с. 62).<br />
Таблица 13<br />
Праздники позитивной солидарности<br />
Движение без руководителей<br />
В прессе было много спекуляций относительно<br />
неспособности упомянутых выше политиков<br />
выдвинуть новые идеи для движения<br />
и относительно неспособности движения<br />
выдвинуть новых лидеров.<br />
Автор не видит смысла в том, чтобы<br />
присоединяться к этим соображениям или<br />
заклинаниям/закликаниям. Можно, конечно,<br />
ждать прихода пророка, спасителя. Это<br />
исторически зарекомендовавшая себя позиция,<br />
но ее эффект если и сказывается, то в<br />
масштабе тысячелетий. Мы все же надеемся<br />
на более быстрые результаты. В этом случае<br />
стоит отдать должное проницательности<br />
рядовых участников движения, которые в<br />
лагере Оккупай-Абай заявили принципиальную<br />
позицию: здесь нет руководителей.<br />
Эта декларация вкупе с данными наших<br />
исследований подталкивает к тому, чтобы<br />
выдвинуть гипотезу о новом характере<br />
движения. Отметим еще раз: обстоятельства<br />
появления и проявления протестного<br />
процесса, безусловно, политические, ибо<br />
связаны с проблематикой власти и характером<br />
политического режима в стране.<br />
В ходе митингов решались — и возможно,<br />
не были решены — определенные политические<br />
задачи, приобретен определенный<br />
(в том числе негативный) опыт политической<br />
борьбы. Однако политикой ситуация<br />
далеко не исчерпывается. Как представляется<br />
по нашим исследованиям и натурным<br />
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, БЫЛИ ЛИ НАРУШЕНИЯ ПРИ ПОДСЧЕТЕ ГОЛОСОВ НА ВЫБОРАХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ<br />
В ДЕКАБРЕ 2011 ГОДА, И ЕСЛИ ДА, ТО НАСКОЛЬКО СУЩЕСТВЕННЫЕ?<br />
Не было нарушений 6<br />
Незначительные нарушения 28<br />
Довольно значительные, но вряд ли изменившие результаты выборов 29<br />
Значительные, существенно изменившие результаты выборов 29<br />
Затрудняюсь ответить 11<br />
Опрос по репрезентативной выборке населения Москвы, 500 человек в возрасте 18 лет и старше, проведен 9—13 июня<br />
2012 года; в % от числа опрошенных.<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 63
Алексей левинсон<br />
Таблица 14<br />
СОЗДАЮТ ЛИ ДЛЯ ВАС ПРОБЛЕМЫ И НЕУДОБСТВА АКЦИИ ПРОТЕСТА ОППОЗИЦИИ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ?<br />
Серьезные проблемы 3<br />
Некоторые проблемы 14<br />
Никаких проблем 63<br />
Эти проблемы выдуманы властью для того, чтобы препятствовать проведению протестных акций 15<br />
Затрудняюсь ответить 5<br />
9—13 июня 2012 года. В % от числа опрошенных; N=500.<br />
наблюдениям, политический протест и<br />
общая эмоция гнева стали факторами<br />
негативной солидарности. Рассерженные<br />
горожане были едины в своих требованиях<br />
честных выборов, наказания фальсификаторов<br />
и др. Об этом говорят свидетельства<br />
многих очевидцев, об этом же говорят приведенные<br />
выше данные опросов (уровень<br />
согласия в 75 проц. и выше по ряду вопросов).<br />
Сам уровень такой солидарности<br />
переживается как особая, для абсолютного<br />
большинства участников небывалая обстановка.<br />
Не один раз приходилось слышать,<br />
что люди идут на эти митинги «ради атмосферы».<br />
Есть основания предполагать,<br />
что на митингах произошло интересное<br />
социально-психологическое явление: перерождение<br />
негативной солидарности в позитивную.<br />
Еще интереснее, что для многих<br />
участников на митингах 2012 года предмет<br />
этой солидарности перестал быть политическим<br />
— им стал сам город. Несколько<br />
факторов действовали в пользу этого.<br />
Таблица 15<br />
64 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
Большинство акций активно использовали<br />
городское пространство Москвы, прежде<br />
всего ее исторической части. Шествия,<br />
белые кольца и круги, прогулки по бульварам<br />
актуализировали потенциал города как<br />
публичного пространства. Переживание<br />
этого обстоятельства выливалось в формулу<br />
«Это наш город!». Непрерывные попытки<br />
властей огородить, не пропустить, отнять<br />
городское пространство у митингующих<br />
помогали проявить именно эти социальные<br />
качества пространства, увидеть его<br />
ценность (наделенность существенными<br />
для людей смыслами), которая незаметна<br />
в рутинном повседневном городском существовании.<br />
Действующая модель города<br />
Митингующие представляли собой своего<br />
рода модель городского сообщества с некоторыми<br />
наиболее выделенными его чертами.<br />
Важно отметить: действующую модель.<br />
Митинги, скажем просто, являли собой город<br />
КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К НЕДАВНО ЭКСТРЕННО ПРИНЯТЫМ ПОПРАВКАМ В ЗАКОН О СОБРАНИЯХ, МИТИНГАХ,<br />
ДЕМОНСТРАЦИЯХ, ШЕСТВИЯХ И ПИКЕТИРОВАНИЯХ, РАСШИРЯЮЩИХ ДЕЙСТВИЕ ЭТОГО ЗАКОНА НА ЛЮБОГО РОДА<br />
«МАССОВОЕ ОДНОВРЕМЕННОЕ ПРЕБЫВАНИЕ И (ИЛИ) ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ГРАЖДАН» И УЖЕСТОЧАЮЩИХ НАКАЗАНИЯ<br />
ЗА НАРУШЕНИЯ В ИХ ПРОВЕДЕНИИ ДО 300 ТЫС. РУБЛЕЙ?<br />
Целиком положительно 8<br />
Скорее положительно 11<br />
Скорее отрицательно 39<br />
Резко отрицательно 28<br />
Затрудняюсь ответить 14<br />
9—13 июня 2012 года. В % от числа опрошенных; N=500.
Таблица 16<br />
как особый тип человеческого общества.<br />
Обстоятельства заставили людей одновременно<br />
обостренно переживать символическую<br />
ценность московского городского пространства<br />
и столь же обостренно чувствовать<br />
друг друга, ощущать свою принадлежность к<br />
важному и дорогому целому. Имя ему — город.<br />
Но этот город — столица страны, неотъемлемая<br />
часть страны, а они — часть народа. Онито<br />
знают, что <strong>Москва</strong> — это Россия. Поэтому<br />
лозунги на митингах никогда не были узкоместными,<br />
московскими, а всегда касались<br />
общероссийских проблем.<br />
Остается важный вопрос, насколько<br />
«родным» для города был протекавший в<br />
течение года протестный процесс, насколько<br />
далеки от народа или близки к народу<br />
оказались демонстранты. Их социальные и<br />
демографические отличия мы уже обсудили.<br />
Посмотрим, как реагировали средние<br />
москвичи на различные факторы, вызвавшие<br />
протест или вызванные протестом.<br />
Опросы москвичей, проведенные в этом<br />
же году, объяснили, во-первых, почему не<br />
большая, а меньшая часть москвичей вышли<br />
протестовать. Большинство видели нарушения,<br />
знали о них, но — как это было все<br />
прошлые годы — не считали это важным (см.<br />
таблицу 13 на с. 63).<br />
Таким образом, о нарушениях знали очень<br />
многие, но лишь какая-то часть «рассердилась».<br />
Горожане поняли протестующих.<br />
Праздники позитивной солидарности<br />
КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К НЕДАВНО ЭКСТРЕННО ПРИНЯТЫМ ПОПРАВКАМ В ЗАКОН О СОБРАНИЯХ, МИТИНГАХ,<br />
ДЕМОНСТРАЦИЯХ, УЖЕСТОЧАЮЩИХ НАКАЗАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ В ИХ ПРОВЕДЕНИИ ДО 300 ТЫС. РУБЛЕЙ?<br />
июнь 2012<br />
Целиком положительно 5<br />
Скорее положительно 25<br />
Скорее отрицательно 28<br />
Резко отрицательно 18<br />
Затрудняюсь ответить 24<br />
Опросы были проведены 21—26 июня 2012 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского<br />
населения среди 1559 человек в возрасте 18 лет и старше и 1—17 июня среди 1525 человек в 130 населенных пунктах<br />
45 регионов страны. В % от числа опрошенных.<br />
Городские власти, стремившиеся всемерно<br />
ограничить пространственно-временные<br />
рамки протестных акций, чаще всего ссылались<br />
на помехи для остальных горожан.<br />
Но горожане не видели для себя никакого<br />
ущерба (см. таблицу 14 на с. 64).<br />
Две трети горожан не видят никакой<br />
проблемы, еще 15 проц. видят проблемы,<br />
создаваемые властью для предотвращения<br />
протестных акций. Горожане как прирожденные<br />
владельцы городского пространства признают<br />
за протестантами право использовать<br />
его как публичное.<br />
Московские граждане вполне определенно<br />
высказались против законов, ограничивающих<br />
свободу собраний (см. таблицу 15 на<br />
с. 64). (Для сравнения приведем данные,<br />
как ответили на этот же вопрос в целом по<br />
России — см. таблицу 16 на с. 65.)<br />
Наконец, опросы показали, что москвичи<br />
прекрасно понимают, почему Дума и Совет<br />
Федерации спешно приняли данные поправки.<br />
68 проц. считают, что власть боится роста<br />
протестной активности, и только 21 проц.<br />
полагают, что законы приняты из соображений<br />
поддержания порядка и спокойствия<br />
граждан. (Отметим, что в целом по России<br />
ответы были очень схожие: мнение, что<br />
власть боится протестной активности, высказали<br />
62 проц. опрошенных, и 24 проц. считают,<br />
что власть заботится о поддержании<br />
порядка.)<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 65
Алексей левинсон<br />
Опросы доказали, что московское протестное<br />
движение органично вырастает из тела<br />
Москвы, подобно тому как <strong>Москва</strong> органично<br />
растет из тела России. Попытки физически<br />
ПРИМЕЧАНИЯ 1 Помимо того что спецслужбы<br />
демонстративно засучили рукава, оживились церковники.<br />
Эти две институции, подобно институту<br />
президентства, уже давно пользуются большой<br />
благосклонностью россиян. Надо только понимать,<br />
что популярны не институты, состоящие<br />
из людей, коммуникационных систем, зданий и<br />
пр., размещенных в реальном пространстве, а<br />
символические конструкции, которые пребывают<br />
в пространстве массового сознания. Что касается<br />
конкретных лиц и учреждений, то в случае<br />
органов граждане знакомы почти исключительно<br />
с органами МВД, и мнение об их работе чрезвычайно<br />
низкое. У большинства россиян есть опыт<br />
66 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
или символически изолировать протест от<br />
Москвы, Москву от протеста, получаются<br />
потому не более осмысленными, чем отделить<br />
Москву от России, а Россию от Москвы.<br />
общения с милицией/полицией. Прежде всего с<br />
ГИБДД, и впечатления от этих контактов самые<br />
негативные. У москвичей и жителей еще нескольких<br />
городов, где проходили массовые уличные<br />
акции протеста, есть также опыт общения с<br />
ОМОНом, и этот опыт также отрицательный. Что<br />
касается РПЦ, то для страны она предстала в лице<br />
патриарха, репутация которого для части публики<br />
оказалась попорчена рядом скандалов. В списке<br />
тех общественных деятелей, к которым россияне<br />
испытывают наибольшее доверие, он в декабре<br />
2012-го был на девятом месте, уступая не только<br />
Жириновскому с Зюгановым, но и Прохорову с<br />
Матвиенко.
Не далее как два года назад я посещал<br />
офис довольно известной медиагруппы,<br />
расположенный, как это сравнительно<br />
часто бывает в нынешней Москве, на<br />
территории бывшего завода и подвергнутый<br />
(с относительным, признаться, успехом) джентрификации.<br />
В нашем случае это означает, что<br />
на территорию пустили некоторое количество<br />
бизнесов, в разной степени соответствующих<br />
представлениям владельцев земли о «креативности»,<br />
«новой экономике», «постиндустриальной<br />
эпохе» и прочих вещах в этом роде.<br />
Разумеется, при входе на джентрифицированную<br />
территорию мне первым делом<br />
понадобился паспорт. Сначала я показал его<br />
в проходной, расположенной на границе территории<br />
завода и остального города, отстояв<br />
очередь к первому окошку. В окошке паспорт<br />
отсканировали. Потом я перешел ко второму<br />
окошку — точнее, к следующей очереди.<br />
«Второе окошко» здесь — буквальное выражение.<br />
В помещении охраны — две комнаты<br />
одного помещения, расположенные одна за<br />
другой. Расстояние между окошками составляет<br />
не более полуметра. Во второе окошко я<br />
сдал пропуск, полученный мною после сканирования<br />
паспорта два метра назад, в первом.<br />
ТЕМА НОМЕРА<br />
Внутренние границы<br />
в пространстве<br />
потоков<br />
Замедление потоков и создание границ дает ощущение безопасности:<br />
примерно тем же целям служила в Средние века топология внутреннего<br />
европейского города | СТАНИСЛАВ ЛЬВОВСКИЙ<br />
АВТОР БЛАГОДАРИТ ИЛЬЮ КУКУЛИНА ЗА ПОМОЩЬ В РАБОТЕ НАД<br />
СТАТЬЕЙ<br />
Свободным человеком я вышел на территорию<br />
завода и, вдохнув морозный воздух<br />
полной грудью, направился к офису медиагруппы.<br />
Взошел на его крыльцо, после чего<br />
был окликнут — правильно, охранником:<br />
— А куда вам?<br />
— Туда-то, — отвечаю, — по такому-то делу.<br />
— Паспорт! — строго говорит охранник.<br />
— Так я же, — говорю, — только что это...<br />
первое окошко… второе окошко... Целых два<br />
метра уже отстоял собственноручно.<br />
— Паспорт! — настаивает охранник.<br />
— Да я уже...<br />
— То их охрана, а то — наша, — сообщил на<br />
это охранник не без некоторой назидательности<br />
в голосе.<br />
В медиагруппе сканера нет, просто в<br />
амбарную книгу записывают данные паспорта.<br />
И кому-то звонят наверх. Кому — не знаю.<br />
Может быть, там тоже записали номер моего<br />
паспорта в еще одну амбарную книгу. Или не<br />
в амбарную. И вообще не в книгу. В Союзе<br />
Мьянма (так уже довольно давно именуется<br />
бывшая Бирма) за три недели июля 2002 года<br />
номер моего паспорта записали в разные<br />
амбарные книги никак не менее тридцати<br />
раз, — а скорее что и больше.<br />
Этот анекдотический случай из реальной<br />
жизни приведен здесь не столько<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 67
СтаниСлав львовСкий<br />
для развлечения читателя, сколько для<br />
иллюстрации того, о чем автор собирается<br />
говорить дальше. Речь пойдет о континуальности<br />
и дискретности московского<br />
городского пространства, о его границах —<br />
в основном внутренних — и о точках перехода,<br />
своего рода контрольно-пропускных<br />
пунктах, КПП. Сразу следует оговориться,<br />
что этот разговор — не о концепции «компактного<br />
города», характеризующегося<br />
смешанным использованием территорий<br />
и высокой связностью, которую обеспечивает<br />
развитая сеть общественного транс-<br />
порта. Идея эта, впервые обстоятельно<br />
сформулированная в самом начале 1970-х<br />
Джорджем Данцигом и Томасом Саати 1<br />
и только-только добравшаяся до Москвы<br />
(об этом в последние несколько лет много<br />
говорят в профильных собраниях), представляется<br />
мне довольно важной, особенно<br />
в социальном аспекте. Однако она имеет<br />
скорее прагматическую, операциональную<br />
ценность. Я же хотел бы взглянуть на<br />
Москву как на совокупность уже имеющихся<br />
пространств, границ между ними и потоков,<br />
которые существуют одновременно с<br />
этими пространствами и границами, так<br />
или иначе с ними взаимодействуя. Кроме<br />
того, я полагаю, что вид на эту машинерию<br />
с условной высоты птичьего полета<br />
сообщит нам меньше, чем более подвижный<br />
— то приближающийся, то удаляющийся<br />
— взгляд. Так что придется представить<br />
себе, что мы не заняты аэрофотосъемкой<br />
с постоянной высоты, а, напротив, все<br />
время меняем масштаб, то есть смотрим<br />
действительно глазами птицы. Городского<br />
голубя, например.<br />
68 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
* * *<br />
Внутренние границы присущи, разумеется,<br />
любому городу. Они могут быть обозначены<br />
более или менее явным образом,<br />
совпадать или не совпадать с более или<br />
менее произвольным административным<br />
делением (top down) или с границами, обозначенными<br />
на индивидуальных когнитивных<br />
картах людей, которые этот город населяют<br />
(bottom up) 2 .<br />
В Москве с ее все еще сравнительно невысоким<br />
— если исключить из рассмотрения<br />
«новую субурбию», — хотя и повышающимся<br />
“От перемещения административного центра в «Новую<br />
Москву» было решено отказаться. Теперь речь идет<br />
о повышении роли географического центра города”.<br />
уровнем социальной сегрегации и чрезвычайно<br />
низким по сравнению со многими<br />
мировыми столицами уровнем сегрегации<br />
этнической, границы собственно территориальные,<br />
аналог границ регионов внутри государства,<br />
выражены довольно слабо и все еще<br />
являются подвижными, находятся в постоянном<br />
процессе разрыва-зарастания. Другие<br />
границы — разделяющие малые сообщества и<br />
малые пространства — вход в метро, пешеходный<br />
переход, вход в магазин или подъезд —<br />
выражены весьма четко, но остаются при<br />
этом часто незамеченными и неконцептуализированными<br />
3 .<br />
В 2013 году, вероятно, нет особого смысла<br />
отводить много места под аргументы в пользу<br />
приоритетного рассмотрения не статичных<br />
пространств (space of places), но пронизывающих<br />
эти пространства потоков (space of flows).<br />
Как пишет Мануэль Кастельс, которому принадлежат<br />
эти термины, «нет такой теории<br />
пространства, которая не являлась бы интегральной<br />
частью более общей социальной<br />
теории» 4 . Далее он говорит о том, что хотя<br />
пространство не является статичным вме-
стилищем общественных процессов, оно не<br />
является и их манифестацией, но формирует<br />
эти процессы в той же степени, что и формируется<br />
ими.<br />
Подходы, сфокусированные на space of<br />
flows и динамике потоков, в современной<br />
теоретической урбанистике разработаны<br />
сравнительно подробно — насколько это<br />
возможно для такой молодой дисциплины.<br />
Отдельные части этой теории находят вполне<br />
прагматическое применение. Однако в<br />
целом, особенно в последнее время, теоретики<br />
сосредоточены скорее на размывании и<br />
вообще на феномене внешних границ города,<br />
на проблематизации границ (и понятия)<br />
города как такового. Внутренние границы<br />
исследованы меньше, поскольку для городского<br />
планирования их практическое значение<br />
не так велико — разумеется, если речь<br />
не идет об этнических/социальных гетто<br />
или о городах, где ясно выражена граница<br />
между старой и новой частями, как, скажем, в<br />
Шанхае. Последнему посвящена, например,<br />
работа Деляны Иосифовой 5 , демонстрирующая<br />
некоторые возможные в этой связи подходы<br />
— правда, для очень специфического<br />
случая одновременной миграции в одну из<br />
частей города населения из сельской местности<br />
и из других районов того же Шанхая.<br />
Одним из примеров еще более прагматически<br />
ориентированного исследования может<br />
служить работа Баса Спирингса 6 , подробно<br />
рассматривающая (из широкой перспективы<br />
нынешнего состояния понятия границ<br />
внутри ЕС) план переустройства нидерландского<br />
города Энсхеде, целью которого было<br />
увеличение прозрачности внутригородских<br />
границ и «рассыпание» существующего<br />
городского центра — в экономическом и<br />
социальном смысле.<br />
Применительно к Москве, как уже было<br />
сказано выше, обсуждение социальных или<br />
этнических гетто, а также проектов переустройства<br />
города в направлении большей<br />
Внутренние границы в пространстве потоков<br />
изотропности представляется пока не слишком<br />
актуальным. От намечавшегося было<br />
перемещения административного центра в<br />
«Новую Москву», — сначала полного, а затем<br />
частичного — было окончательно решено<br />
отказаться в середине октября 2012 года 7 .<br />
Вместо этого теперь речь идет о еще большем<br />
повышении роли географического<br />
центра города — а именно о постройке «правительственного<br />
квартала» возле Кремля,<br />
который будто бы уменьшит пробки.<br />
Мне, однако, представляется, что микрограницы<br />
Москвы, пролегающие даже не<br />
на уровне районов и микрорайонов, а еще<br />
ниже — там, где один двор переходит в другой,<br />
а территория, прилегающая к зданию, —<br />
в само здание, определяют повседневную<br />
жизнь города ничуть не в меньшей, а возможно,<br />
и в большей степени, чем границы, отделяющие<br />
Гарлем от собственно Манхэттена<br />
или новые кварталы Шанхая от старых.<br />
(В соответствии с постулатом Кастельса, эти<br />
границы одновременно являются манифестацией<br />
повседневной жизни.)<br />
Пребывание таких границ в относительно<br />
«слепой» зоне само по себе представляет<br />
отдельный интерес, однако здесь мы хотим<br />
только зафиксировать их реальность — и<br />
реальность именно как границ: то есть как<br />
инструментов контроля, управления и в<br />
известном смысле проектирования.<br />
Этот текст — не про урбанистику, специалистом<br />
в которой автор ни в какой степени<br />
не является. Это скромная попытка прочесть<br />
хотя бы часть того, что написано мелким<br />
шрифтом на полях московского городского<br />
пространства.<br />
Манифестация власти и контроль над<br />
потоками<br />
Современная теория часто описывает современный<br />
мир как глобальный, лишенный<br />
границ, проницаемый сетями и потоками,<br />
вообще детерриториализованный, в котором<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 69
СтаниСлав львовСкий<br />
пространство «схлопывается» за счет передвижения<br />
информации и капитала по каналам,<br />
обеспечивающим передачу практически<br />
со скоростью света 8 . Сообщества также<br />
детерриториализованы: социальные медиа<br />
позволяют быстро объединяться в различных<br />
целях (от политических до обсуждения<br />
картинок с котиками) людям, географически<br />
разделенным десятками тысяч километров<br />
и говорящим на разных языках 9 .<br />
Этот мир, впервые, как принято считать,<br />
описанный Жилем Делёзом и Феликсом<br />
Гваттари в «Анти-Эдипе», а впоследствии —<br />
например, Кастельсом, Яном Артом Шолте,<br />
Энтони Гидденсом и Ульрихом Беком, разумеется,<br />
существует. Однако существует и<br />
понимание того (особенно усилившееся в<br />
последнее десятилетие, на фоне снижения<br />
эйфории от третьей волны демократизации<br />
и «разрушения Берлинской стены» 10 ), что<br />
утопическое представление о глобализированном,<br />
прозрачном пространстве нуждается<br />
в проблематизации, — хотя бы потому, что<br />
глобализация сама по себе неравномерно<br />
структурирована в пространстве (о последнем<br />
обстоятельстве как таковом исследователи,<br />
впрочем, пишут с середины 1980-х 11 ).<br />
Дейвид Ньюман справедливо отмечает, что<br />
«не может существовать никакой формы<br />
политической власти или социального контроля,<br />
которая была бы целиком оторвана<br />
от некоторой разновидности территориального<br />
обособления» 12 , и предлагает, вслед<br />
за Делёзом и Гваттари, вместо детерриториализации<br />
говорить о «ретерриториализации»,<br />
то есть о постоянном процессе<br />
учреждения, изменения и переучреждения<br />
границ. Он, впрочем, оговаривается, что так<br />
70 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
может быть описана вся человеческая история,<br />
— однако современные сети изменили<br />
и функции традиционных территорий, и<br />
уровень проницаемости границ, не отменив<br />
ни первых, ни вторых.<br />
Современное представление о границах<br />
рассматривает их как особые территории,<br />
которые имеют множественную природу, —<br />
служат для разделения в той же степени, как<br />
и для коммуникации, не являются линиями<br />
как таковыми, но скорее особыми областями<br />
с собственными социальными и антропологическими<br />
практиками.<br />
“Граница между Центром и периферией в виде Садового<br />
кольца складывалась очень долго и приняла вид, близкий<br />
к нынешнему, только в шестидесятых годах”.<br />
Отметим только еще одно крайне важное<br />
для этой статьи замечание Ньюмана,<br />
о том, что хотя публичный дискурс имеет<br />
тенденцию фокусироваться на таких вещах,<br />
как «демаркация национальных границ или<br />
отношения соседствующих государств, большинство<br />
людей в первую очередь ощущают<br />
воздействие на локальном или микроуровне»<br />
13 . Ньюман говорит здесь об этнополитических<br />
конфликтах, но представляется, что<br />
это так же верно и для повседневной жизни.<br />
Разумеется, подвижные границы микротерриторий<br />
города существенно более проницаемы<br />
— по крайней мере, в Москве, — чем<br />
границы более высокого уровня. Однако это<br />
не мешает использовать их так, как границы<br />
и используются обычно в пространстве<br />
потоков: «ворота города, взимаемые им<br />
поборы и налоги, и налоги — это барьеры,<br />
фильтры против текучих масс, против силы<br />
проникающих, мигрирующих групп» 14 . Речь<br />
не обязательно должна идти о таможнях и<br />
КПП как таковых. Функция, описываемая<br />
Полем Вирильо, более универсальна и присуща<br />
границам на всех уровнях снизу доверху.
При движении по шкале вниз — от границ<br />
государств к границам двора, контроль<br />
видоизменяется, меняются субъекты и объекты<br />
контроля — однако цель, заключающаяся<br />
в ограничении, остается инвариантом.<br />
Граница — одновременно знак и инструмент<br />
контроля. Важно заметить, что вектор такого<br />
контроля в том, что касается внутригородских<br />
границ, вовсе не обязательно направлен<br />
«сверху вниз». Границы точно так же служат<br />
целям горизонтального контроля (как границы<br />
государств). Кроме того, они позволяют<br />
обществу или отдельным гражданам — до<br />
известной и не слишком большой степени —<br />
контролировать действия властей. «Власти»<br />
я буду дальше обозначать словом «администрация»,<br />
имеющим меньше посторонних<br />
коннотаций.<br />
Разрыв и соединение<br />
Отвлечемся, как и было обещано, от теории<br />
и посмотрим на Москву. Сначала со сравнительно<br />
большой высоты. Разумеется, прежде<br />
всего мы замечаем концентрическую структуру<br />
15 города, распространяющегося как капля<br />
краски по салфетке: неравномерно, но, разумеется,<br />
от Центра к Окраине — сохранилась<br />
она с тех пор, когда на месте первых двух<br />
внутренних колец находились фортификационные<br />
сооружения.<br />
В наследство от советского периода<br />
Москве досталось сравнительно однородное,<br />
по сравнению со многими мировыми<br />
мегаполисами, пространство. Но пространство<br />
— не социальная структура. В отношении<br />
эволюции последней существует некоторое<br />
количество исторических исследований, —<br />
например, достаточно подробная для наших<br />
целей работа Ольги Трущенко «Престиж<br />
Центра: Городская социальная сегрегация в<br />
Москве». Из нее, в частности, следует, что<br />
социальная сегрегация, имевшая место до<br />
Октябрьской революции, не исчезла и после<br />
нее. Например, даже в 1923 году «после<br />
Внутренние границы в пространстве потоков<br />
радикального жилищного передела, а именно<br />
после экспроприации в 1918—1920 годах<br />
крупных домов, после так называемого уплотнения<br />
квартир буржуазии и переселения туда<br />
рабочих с семьями из коечно-каморочных<br />
квартир и подвалов, концентрация рабочих<br />
в пределах Садового кольца тем не менее<br />
оставалась минимальной, а присутствие в<br />
том же ограниченном пространстве руководящих<br />
работников только что народившегося<br />
советского партийно-государственного<br />
аппарата было уже максимальным» 16 . Так<br />
далеко в историю мы, однако, углубляться не<br />
станем, но вспомним, что круговое движение<br />
по Садовому кольцу было замкнуто в начале<br />
шестидесятых годов. В начале же семидесятых,<br />
как пишет Трущенко, проявились «признаки<br />
того, что по своему престижу Центр<br />
опережает остальные места привилегированного<br />
расселения» 17 . Садовое кольцо как граница<br />
Центра было зафиксировано Генпланом<br />
1971 года, где, кажется, впервые встречается<br />
словосочетание «городской центр, сложившийся<br />
в пределах Садового кольца» 18 .<br />
Граница между Центром и периферией в<br />
виде Садового кольца, таким образом, складывалась<br />
очень долго и приняла вид, близкий<br />
к нынешнему, только в шестидесятых годах<br />
прошлого века. Трущенко очень убедительно<br />
и детально демонстрирует, что именно<br />
в пределах Кольца (и особенно на западе)<br />
была сконцентрирована и административная<br />
элита, и работники сервисных отраслей —<br />
журналисты и члены творческих союзов.<br />
В этом смысле Генплан 1971 года выглядит<br />
по-советски уклончивым, но все же юридическим<br />
закреплением особого статуса этой<br />
территории. Применительно к нашему сюжету<br />
важно, что Садовое кольцо, в отличие от<br />
Бульварного, образует границу не просто<br />
зримую, но и ощутимую: оно действительно<br />
затрудняет переход из Центра на периферию<br />
и обратно. Разумеется, имеет место не отсечение,<br />
но именно затруднение — пешеходный<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 71
СтаниСлав львовСкий<br />
переход часто расположен так, что для того,<br />
чтобы попасть в нужное место на другой стороне,<br />
приходится делать существенный крюк.<br />
Переходы (наземные и подземные) — отдельная<br />
тема, к которой мы еще вернемся, — однако<br />
здесь достаточно заметить, что в смысле<br />
пространственном они представляют собой<br />
сужения, снижающие скорость человеческих<br />
потоков и повышающие, за счет уплотнения,<br />
их вязкость. Речь здесь идет по большей<br />
части о пешеходе: Садовое и Бульварное<br />
кольца автомобилист в большинстве случаев<br />
пересекает без больших затруднений.<br />
Не будем останавливаться на этом подробно,<br />
однако Третье транспортное кольцо<br />
(ТТК) затрудняет перемещения пешеходов<br />
по оси Центр—Периферия еще сильнее — за<br />
счет того, что наземных переходов на нем<br />
вовсе нет, а подземные замедляют передвижение<br />
по крайней мере настолько же,<br />
насколько и надземные переходы — из-за<br />
необходимости спускаться и подниматься<br />
по лестницам. Над ТТК есть и надземные<br />
переходы в виде крытых мостов (например,<br />
у метро «Автозаводская») — но на них, разумеется,<br />
также ведут лестницы. Под землю,<br />
в тоннели убрано пять километров трассы<br />
из тридцати шести. МКАД в еще большей<br />
степени является затрудняющей границей,<br />
поскольку имеет исключительно редкие,<br />
очень длинные надземные переходы, — эта<br />
дорога в том ее виде, который она приобрела<br />
в начале 1990-х, вообще является крайне трудно<br />
преодолимым препятствием для пешехода<br />
19 — а часто и для автомобилиста, из-за<br />
постоянных затруднений движения на развязках.<br />
О пробках, впрочем, тоже чуть позже,<br />
а здесь отметим, что круговое движение по<br />
72 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
трассе было замкнуто в 1962 году — практически<br />
одновременно с Садовым кольцом.<br />
Таким образом, концентрическая структура<br />
города, как представляется, имеет<br />
дополнительный вектор, направление<br />
неоднородности. По мере движения от<br />
Центра (Бульварное—Садовое—ТТК) трудность<br />
пересечения границ в виде кольцевых<br />
трасс возрастает — по крайней мере, для<br />
пешехода. МКАД представляет собой в этом<br />
смысле последний бастион, уже довольно<br />
сильно напоминая собой границу государства,<br />
хотя бы в том смысле, что на выездах<br />
“Центр рассечен естественной границей реки, которую<br />
городское пространство не стремится интегрировать, но,<br />
напротив, превращает в подлинную полосу отчуждения”.<br />
из города расположены пункты ГИБДД,<br />
напоминающие КПП, которыми они отчасти<br />
и являются. Пересечение же МКАД на автомобиле<br />
часто занимает больше времени, чем<br />
пересечение межгосударственной границы<br />
Сингапура и Малайзии.<br />
Формально общая логика здесь — как и в<br />
случае многих радиальных трасс — заключается<br />
в том, чтобы максимально облегчить<br />
движение автотранспорта, насколько возможно<br />
уменьшив количество наземных переходов.<br />
Подземные, однако, обходятся дорого,<br />
и их не хватает. В результате, — разумеется,<br />
непредусмотренном — и кольцевые, и радиальные<br />
трассы служат барьерами, затрудняющими<br />
движение потоков и повышающими<br />
издержки перемещения по городу.<br />
Выше я упоминал о том, что граница<br />
всегда имеет двоякую природу, разделяя<br />
пространственные сектора и одновременно<br />
соединяя их. Однако московский случай<br />
интересен тем, что «территория границы»<br />
почти не выполняет соединяющих функций.<br />
Внутри граничных областей — за исключением<br />
Бульварного кольца, да и то в очень
ограниченной степени — не образуется пространства<br />
городской жизни (например, здесь<br />
не появляются уличные музыканты) — если<br />
не считать магазинов и других бизнесов,<br />
вроде ресторанов и кафе, рассчитанных на<br />
высокую проходимость. Это связано и с загазованностью<br />
кольцевых трасс, и с тем, что<br />
политика постоянного расширения трасс не<br />
оставляет места для сколько-нибудь заметного<br />
количества уличных кафе или скольконибудь<br />
разреженного потока пешеходов,<br />
не говоря уже о велосипедных дорожках.<br />
Границы границ в Москве узки и во многих<br />
местах создают затруднения для потоков,<br />
двигающихся вдоль трасс и, казалось бы, не<br />
зависящих от концентрической структуры.<br />
Тротуары не являются местом жизни, но<br />
только еще одним сужением, заставляющим<br />
людей тесниться — и тем самым снова снижающим<br />
скорость передвижения по городу,<br />
увеличивающим вязкость среды 20 .<br />
Особенно показательна в этом смысле действительно<br />
естественная граница — <strong>Москва</strong>река.<br />
Почти в любом известном мне городе<br />
набережная реки представляет собой не<br />
транспортный канал, а общественное пространство,<br />
место жизни и «фланирования».<br />
Собственно, никакая другая граница не приспособлена<br />
лучше для того, чтобы оказаться<br />
пространством коммуникации 21 . Стократ это<br />
справедливо для Москвы, в которой теснота<br />
несколько неожиданным, но закономерным<br />
образом чувствуется сильнее, чем в Гонконге<br />
или на Манхэттене. Московские набережные<br />
за вычетом двух-трех небольших фрагментов<br />
вроде Парка Горького или Нескучного сада<br />
выполняют, напротив, исключительно функцию<br />
транспортного канала. По краям водной<br />
границы возведены дополнительные кордоны<br />
автомобильных трасс. В результате линия ее<br />
оказывается широкой и не только в реальности<br />
труднопреодолимой, но и визуально ультимативной,<br />
— более ясно можно выразиться, разве<br />
что натянув вдоль парапетов колючую прово-<br />
Внутренние границы в пространстве потоков<br />
локу до высоты двух с половиной метров. В случае<br />
Яузы визуальное послание чуть менее агрессивно<br />
— но только за счет меньшей ширины<br />
реки. Недавно, впрочем, по ее краям во многих<br />
местах возникла двойная ограда, имеющая очевидное<br />
прагматическое назначение: безопасность<br />
водителей, не снижающих скорость на<br />
сравнительно крутых поворотах набережной.<br />
Здесь необходимо вернуться к однородности<br />
пространства, упомянутой в начале<br />
главы. Как она организована? Это, во-первых,<br />
однородность в пределах дискретных областей<br />
— Центра, области между Садовым и<br />
ТТК, между ТТК и МКАД. Эти три (очень<br />
условные) территории внутренне сравнительно<br />
изотропны, но переход из одной в другую<br />
является пересечением границы. Многие<br />
радиальные трассы (особенно показателен<br />
случай бессветофорного Можайского шоссе)<br />
также чрезвычайно эффективно разделяют<br />
части города, разрезая его на сектора таким<br />
образом, что даже пешеход, не зависящий<br />
от пробок, старается не пересекать границы<br />
этих секторов без необходимости. Центр же<br />
рассечен естественной границей реки, которую<br />
городское пространство, как описано в<br />
предыдущем абзаце, не стремится интегрировать,<br />
смягчив ее разделительные свойства,<br />
но, напротив, превращает в подлинную полосу<br />
отчуждения. Кроме того, передвижение<br />
по самой территории водной границы невозможно<br />
из-за избыточной (мягко говоря) зарегулированности<br />
движения частного водного<br />
транспорта, — не говоря о поразительно высоких<br />
ценах на билеты рейсовых катеров: никакая<br />
другая поездка на общественном транспорте<br />
в Москве не обходится в 500 рублей 22 .<br />
Переходы<br />
<strong>Москва</strong> не то чтобы совсем уникальна, но<br />
существенно выделяется из ряда мегаполисов<br />
навязчивым стремлением избавиться<br />
от пешеходных переходов и светофоров.<br />
Объясняется это широким распространени-<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 73
СтаниСлав львовСкий<br />
ем точки зрения, будто эта мера позволяет<br />
уменьшить автомобильные пробки, с одной<br />
стороны, и делает город безопаснее для<br />
пешеходов — с другой. Как замечает у себя в<br />
блоге 23 сопредседатель межрегиональной<br />
общественной организации «Город и транспорт»<br />
Антон Буслов, оба эти предположения<br />
не подтверждаются: транспортная проблема<br />
в большей степени связана с физической пропускной<br />
способностью улиц, а количество<br />
ДТП не уменьшается ни для водителей, ни<br />
для пешеходов, пусть и по разным причинам.<br />
Само по себе утверждение, согласно которому<br />
подземный переход делает жизнь в городе<br />
проще, неверна — даже если забыть о том,<br />
что в сегодняшней Москве, говоря бюрокра-<br />
тическим языком, обеспеченность этими подземными<br />
переходами составляет 24 , по одним<br />
данным, не больше 40 проц. (от норм, соответствие<br />
которых реальным потребностям<br />
никто не проверял), а по другим — не более<br />
30 процентов 25 . Я не намерен здесь слишком<br />
далеко вторгаться на профессиональную территорию<br />
урбанистов и транспортников, но<br />
хотел бы взглянуть на эту проблему с точки<br />
зрения того, о чем мы говорим — то есть<br />
границ и проницаемости. Вопрос о количестве<br />
переходов здесь, конечно, ключевой.<br />
Скорость передвижения по городу снижает<br />
в первую очередь необходимость идти до<br />
ближайшего перехода 300—400, а иногда и<br />
500 метров. Построить такое количество подземных<br />
переходов, при котором эта проблема<br />
исчезнет, невозможно хотя бы по сугубо экономическим<br />
причинам: слишком дорого.<br />
Более того, с точки зрения скорости,<br />
переход не слишком облегчает пересечение<br />
трасс. Учитывая спуск и подъем по лестнице,<br />
74 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
времени уходит разве что чуть меньше, чем<br />
на наземный переход со светофором. Есть<br />
и еще один эффект, хорошо известный по<br />
нескольким печальным примерам из европейской<br />
практики — подземные пространства<br />
мегаполисов имеют тенденцию становиться<br />
опасными по ночам. Торговые точки и кафе<br />
несколько сглаживают эту тенденцию, но в<br />
основном они работают до момента прекращения<br />
основного пассажиропотока метро, и<br />
кроме того, переходы лишь частично связаны<br />
с подземными пространствами собственно<br />
метрополитена. Большинство жителей<br />
Москвы предпочтет вечером перейти дорогу<br />
поверху, даже если в данном месте нет наземного<br />
перехода. Это проблема не московская,<br />
“Количество закрытых полностью или частично<br />
фрагментов города — сначала в Центре, а затем<br />
и на периферии — будет только увеличиваться”.<br />
а вполне глобальная, связанная, в частности,<br />
с тем, что тускло освещенные подземные<br />
пространства лишены трех наиболее часто<br />
называемых специалистами 26 черт, которые<br />
вообще делают городское пространство безопасным<br />
— как на деле, так и в человеческом<br />
восприятии: наличие других людей; обзор;<br />
возможность быстро такое пространство<br />
покинуть. Эти трудности известны, и с ними,<br />
в принципе, можно работать — однако в<br />
Москве этого, кажется, никто не делает.<br />
Наконец, последнее замечание касается<br />
собственно светофоров. Система регулирования<br />
движения (отданная в Москве на<br />
откуп транспортной полиции) почти не<br />
предусматривает возможности, которая<br />
есть у жителей многих больших городов, а<br />
именно возможности переключить светофор<br />
самостоятельно, нажав на нем кнопку. Такие<br />
светофоры в городе есть, но их крайне мало,<br />
и расположены они часто там, где вообще<br />
можно было бы обойтись одним пешеходным
переходом. Таким образом, даже на не слишком<br />
оживленной улице пешеход оказывается<br />
перед необходимостью прерывания собственного<br />
внутреннего темпа и подчинения темпу<br />
внешнему, заданному.<br />
Приватизация публичного<br />
пространства<br />
Публичное или общественное пространство<br />
27 по состоянию на 2011 год составляло<br />
50 проц. площади Москвы (без учета «Новой<br />
Москвы»). В советский период, по крайней<br />
мере формально, этот показатель составлял<br />
75 процентов 28 . Процесс приватизации общественного<br />
пространства характерен для всех<br />
постсоциалистических городов Восточной<br />
Европы 29 , и рассматривать его подробно<br />
мы здесь не будем. У Москвы в этом смысле<br />
есть некоторые особенности. Так, например,<br />
несмотря на декларированный в Земельном<br />
кодексе принцип неделимости недвижимости,<br />
закон «О внесении изменений в законодательные<br />
акты Российской Федерации в<br />
части уточнения условий и порядка приобретения<br />
прав на земельные участки, находящиеся<br />
в государственной или муниципальной собственности»,<br />
позволяющий приватизировать<br />
дворы, вступил в силу только в октябре 2007<br />
года, — однако в целом для выбранной темы<br />
они не слишком важны. Отмечаемая Кирилом<br />
Станиловым популярность в Восточной<br />
Европе городских «охраняемых резиденций»<br />
30 (gated communities) в Москве, кажется,<br />
недостаточно высока для того, чтобы это создавало<br />
серьезный тренд на «балканизацию»<br />
(термин Станилова) городской ткани — хотя в<br />
пределах Садового кольца территории вокруг<br />
таких комплексов иногда уже создают дополнительные<br />
затруднения и для автомобилистов,<br />
и для пешеходов.<br />
Однако в целом «приватизация» дворов в<br />
городе слабо связана с законной процедурой<br />
собственно перехода земельных участков в<br />
собственность жильцов или организаций,<br />
Внутренние границы в пространстве потоков<br />
владеющих зданиями. Несмотря на то что<br />
к весне 2011 года, по данным департамента<br />
земельных ресурсов Москвы, в долевую<br />
собственность было оформлено всего 39<br />
участков под многоквартирными домами 31 ,<br />
каждый житель города знает, что, по крайней<br />
мере, в пределах Садового кольца находится<br />
множество дворов, запирающихся на<br />
электронный (а иногда и обычный) замок —<br />
если не на все время, то, по крайней мере,<br />
по вечерам. Еще больше — и тут уже речь<br />
идет не только о Центре — дворов, въезды в<br />
которые перегорожены бетонными блоками,<br />
то есть недоступных уже не для всех, но для<br />
владельцев машин. Иногда такие бетонные<br />
блоки появляются даже не во дворах, а на<br />
въездах в отдельные сегменты микрорайона.<br />
Время от времени городские власти заговаривали<br />
о безбарьерной, в широком смысле<br />
этого слова, среде. Однако начатая недавно<br />
реализация пилотного проекта платных<br />
парковок, видимо, похоронила эту идею: к<br />
весне 2013 года почти 800 дворов (из 2 200)<br />
в Центральном административном округе<br />
Москвы будут закрыты для въезда посторонних<br />
машин шлагбаумами 32 . Пока неясно, за<br />
чей счет это будет осуществлено — «закупка и<br />
установка оборудования обойдется в 250—300<br />
тыс. руб. с дома, а ежемесячные затраты на<br />
содержание шлагбаумов 110—120 тыс. рублей.<br />
В эту сумму входит зарплата четырех охранников,<br />
плата за телефон, электричество, а<br />
также профилактика и возможный ремонт<br />
системы» 33 . Четыре охранника на два въезда<br />
во двор в Центре — показатель и сам по себе<br />
достаточно красноречивый, но об охране<br />
чуть ниже.<br />
Очевидно, таким образом, что количество<br />
закрытых полностью или частично фрагментов<br />
города — сначала в Центре, а затем и на<br />
периферии — будет только увеличиваться вне<br />
всякой связи с падением доли публичного<br />
пространства, как этот процесс понимается в<br />
западной урбанистике. Тот факт, что простран-<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 75
СтаниСлав львовСкий<br />
ство перестает быть общественным, публичным,<br />
не означает, что оно автоматически становится<br />
частным. Вместо этого оно получает<br />
промежуточный, юридически и экономически<br />
размытый статус 34 , который теперь будет<br />
де-факто закреплен действиями городских<br />
властей, одобряющих установку шлагбаумов.<br />
Однако с уверенностью можно говорить о том,<br />
что эта практика повышает вязкость среды и<br />
снижает скорость передвижения по городу,<br />
создавая в нем новые границы и наполняя<br />
его новыми агентами контроля этих границ —<br />
важно при этом, что это не контроль top-down,<br />
по крайней мере не в чистом виде.<br />
Мы не будем отдельно останавливаться<br />
в этой статье на практике установки домофонов,<br />
которые иногда дублируются еще и<br />
второй дверью с кодовым замком. Однако<br />
нельзя пройти мимо того факта, что в последнее<br />
время по инициативе полиции на дверях<br />
подъездов стали устанавливать камеры<br />
наблюдения — разумеется, безо всяких консультаций<br />
с жильцами. Как и в предыдущем<br />
случае, администрация здесь не создавала<br />
защищенных границ сама, но только воспользовалась<br />
теми, что уже были проведены<br />
жителями, установив на них дополнительные<br />
устройства контроля. Вновь возникающие<br />
камеры слежения, как и шлагбаумы на въездах<br />
во дворы Центра, представляют собой<br />
всего лишь более технологичные элементы<br />
обустройства внутренних городских границ,<br />
созданных по инициативе «снизу».<br />
Двери и вахтеры<br />
Московские двери, точнее эволюция этого<br />
социального «почти-института» за постсоветские<br />
годы, требуют отдельного разговора,<br />
который, как представляется, лучше оставить<br />
социологам, ограничившись здесь несколькими<br />
категориями дверей, в частности, дверями<br />
общественного транспорта и теми, что<br />
разделяют «улицу» и входы в нежилые здания<br />
различного назначения.<br />
76 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
Замечание, сделанное выше о светофорах,<br />
которые невозможно переключить по собственному<br />
желанию, верно и в отношении<br />
дверей вагонов московского метро, также не<br />
предусматривающих возможности их открытия<br />
или закрытия по желанию пассажира.<br />
У пассажиров, скажем, парижского метро<br />
такая возможность есть, у тех, кто спускается<br />
в нью-йоркскую подземку, – нет. Я очень далек<br />
от мысли, что эта конструкционная особенность<br />
вызвана какими-то специальными соображениями<br />
рестриктивного характера, но<br />
она отлично вписывается в общий контекст,<br />
так сказать, конструкционных особенностей<br />
городской среды, — как и тяжелые двери<br />
метро, представляющие реальную опасность<br />
для того, кто не успеет от них увернуться.<br />
Эти двери, как и многое другое, что обсуждается<br />
в этой статье, являются, конечно,<br />
наследием советского периода (но не специфически<br />
советским), когда город предназначался<br />
в целом для взрослых, физически<br />
здоровых людей. В начале 2012 года департамент<br />
транспорта Москвы пообещал 35<br />
заменить их (в объеме 30 проц.) на более легкие,<br />
как раз со ссылкой на детей и пожилых<br />
людей. Однако замедление общего потока,<br />
которое они вызывают, влияет далеко не<br />
только на людей с ограниченными физическими<br />
возможностями.<br />
Главная же особенность московских дверей<br />
хорошо известна всем жителям города.<br />
Вне зависимости от того, куда ведут двери<br />
(если их в ряду больше одной) — в торговый<br />
центр, кинотеатр, музей, в любое другое<br />
публичное, ограниченно публичное или<br />
частное пространство, — в него почти никогда<br />
невозможен прямой вход. Строители и<br />
архитекторы закладывают для входов в здания<br />
двойные двери с тамбуром, что вполне<br />
можно объяснить климатическими соображениями,<br />
но владельцы или эксплуатационные<br />
службы делают переход границы между улицей<br />
и помещением еще более затрудненным:
в подавляющем большинстве случаев для<br />
этого нужно пересечь тамбур по диагонали.<br />
Побывав в Норвегии или даже в Норильске,<br />
можно убедиться, что это не обусловлено<br />
климатом 36 : перед нами спе цифическая разновидность<br />
практики не архитектурной, а<br />
социальной 37 , находящейся в одном ряду<br />
с обычаем никогда, ни при каких обстоятельствах<br />
не держать открытыми эвакуационные<br />
(пожарные) выходы в зданиях.<br />
Соответствующие инспекционные службы по<br />
тем или иным причинам неизменно оставляют<br />
это без внимания.<br />
То, что происходит с входными точками<br />
московских зданий, напоминает технологию<br />
обустройства государственной границы,<br />
которая, как известно, также имеет ширину<br />
(иногда немалую) — от поста одного государства<br />
до поста другого — и свою структуру.<br />
Самое интересное, что описанная топология<br />
входа повторяется в московских зданиях<br />
(впрочем, и во многих других российских<br />
городах) практически любого назначения,<br />
вне зависимости от их функций, состава<br />
собственников (и формы собственности),<br />
времени постройки — и вообще ни от чего.<br />
Очевидно, что перед нами — не просто<br />
устойчивая, но успешно воспроизводящаяся<br />
и в значительной степени тотальная пространственная<br />
модель. Представляется, что<br />
она находится в том же функциональном и<br />
смысловом поле, что и институция советских<br />
и постсоветских вахтеров.<br />
Я не располагаю здесь достаточным<br />
местом для подробного экскурса в историю,<br />
но помню эту институцию в эпоху ее, как<br />
кажется, максимального расцвета, а именно<br />
в конце 1970-х — начале 1980-х (пусть меня<br />
Внутренние границы в пространстве потоков<br />
поправят свидетели более ранних времен).<br />
Функции вахтера далеко не ограничивались<br />
«охраной», — скорее можно говорить о том,<br />
что в советский период вахтер был последним<br />
звеном в иерархии облеченных правом<br />
насилия от имени государства — и в этом<br />
качестве, во-первых, из-за малой важности,<br />
был наименее контролируемым из этих<br />
звеньев, а во-вторых, как это часто бывает<br />
в таких случаях, мотивы этой фигуры были<br />
далеки от рациональных, но имели скорее<br />
компенсаторный характер — относительно<br />
места в социальной иерархии. Вместе с<br />
“В фольклорных текстах способность проникновения<br />
через охраняемую вахтером границу толкуется как<br />
специфическая особенность национального характера”.<br />
тем, будучи фигурой, охраняющей границу,<br />
вахтер, в частности, и тогда был, и сегодня<br />
является «невидимым» и почти немым персонажем<br />
огромного количества фольклорных<br />
текстов 38 советского и постсоветского периода.<br />
Подобный сюжет в самых общих чертах<br />
сводится к тому, что выступающий в качестве<br />
трикстера (хитрого и умного плута) советский<br />
гражданин обманывает облеченного<br />
властью, но туповатого вахтера, охраняющего<br />
границу между территорией тотального<br />
(завод, НИИ, склад) и не столь тотального<br />
государственного контроля 39 .<br />
Отношение к фигуре гражданина-трикстера<br />
в таких историях всегда сочувственное:<br />
он «восстанавливает справедливость»; разрушает<br />
очередную безнадежную попытку защитить<br />
права собственности для государства в<br />
отсутствие таковых для граждан и т. д. Часто<br />
способность беспрепятственного проникновения<br />
через охраняемую вахтером границу<br />
толкуется как специфическая особенность<br />
национального характера 40 . В большинстве<br />
случаев — даже там, где фигура вахтера вырастает<br />
до мифологических масштабов 41 , — она<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 77
СтаниСлав львовСкий<br />
остается сравнительно безобидной, за одним<br />
важным исключением, а именно за исключением<br />
текстов позднесоветского/перестроечного<br />
рока — и конкретно текста Александра<br />
Башлачёва «Абсолютный вахтер» 42 . Здесь рассматриваемая<br />
фигура вырастает в ультимативный<br />
символ контроля, лишенный человеческих<br />
черт, да и вообще — черт: «Абсолютный<br />
Вахтер — лишь стерильная схема, / Боевой<br />
механизм, постовое звено». Как отмечает<br />
Татьяна Логачёва 43 , «Абсолютный Вахтер становится<br />
универсальным воплощением идеи<br />
тоталитаризма, идеи абсолютной власти.<br />
Башлачёв подчеркивает, что имя для данного<br />
образа-символа не является определяющим<br />
фактором: “Абсолютный Вахтер — не Адольф,<br />
не Иосиф”». Башлачёву вторят несколько<br />
близких к нему авторов, однако наиболее<br />
яркий пример здесь — видимо, песня Яны<br />
(Янки) Дягилевой «Я оставляю еще полкоролевства»<br />
(1987, посвящение Юлии<br />
Шерстобитовой; магнитоальбом «Не положено»,<br />
1988), в тексте которой «вахта» находится,<br />
по-видимому, на границе, разделяющей<br />
мир живых и мир мертвых: «Я оставляю еще<br />
полкоролевства / Без боя, без воя, без грома,<br />
без стрёма / Ключи от лаборатории на вахте<br />
/ Я убираюсь, рассвет в затылок мне дышит<br />
/ Рассвет пожимает плечами мне в пояс /<br />
Рассвет машет рукой» 45 .<br />
Так или иначе, фигура вахтера пережила<br />
свое время не в последнюю очередь благодаря<br />
тому, что частные компании в первой<br />
половине — середине девяностых часто предпочитали<br />
снимать помещения под офисы<br />
в бывших зданиях НИИ или производств.<br />
Эти учреждения были еще со старых времен<br />
обеспечены охраной именно того свойства,<br />
78 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
о которой мы здесь говорим, то есть либо<br />
ВОХР 45 , либо более безобидной вневедомственной/ведомственной<br />
охраной, генезис<br />
которой, однако, восходит к той же ВОХР —<br />
к силовым структурам госбезопасности 46 .<br />
(Что, видимо, и дает возможность — через<br />
узус термина «ВОХРа» — Башлачёву в вышеупомянутом<br />
тексте использовать эту фигуру<br />
в качестве символизирующей абсолютное<br />
насилие.)<br />
Механизм сдачи в аренду площадей госучреждений,<br />
как представляется, обеспечил<br />
(по крайней мере, для Москвы) преемствен-<br />
“На условной карте города мы видим включенные друг<br />
в друга области, представляющие собой что-то вроде<br />
квазиюрисдикций”.<br />
ность соответствующих социальных практик<br />
при переходе от государственной системы<br />
охраны 47 к частным предприятиям соответствующего<br />
профиля. К этому располагало<br />
повышение уровня преступности и непрекращающийся<br />
переход собственности из рук<br />
в руки. Возникновение в этот период ЧОПов<br />
(частных охранных предприятий), пусть и<br />
называвшихся тогда иначе, отражает, как<br />
представляется, процесс децентрализации<br />
(конец 1980-х) и последующей приватизации<br />
(начало 1990-х) насилия. Первое в СССР<br />
кооперативное частное сыскное бюро, в<br />
перечень услуг которого входила охрана личности<br />
клиента, было создано 25 мая 1989 года<br />
в Ленинграде 48 . Любопытно и симптоматично,<br />
что руководителем его стал дважды судимый<br />
гражданин 49 . Вместе с тем впоследствии<br />
ЧОПы быстро стали частью бизнеса оказавшихся<br />
не у дел силовиков 50 .<br />
Другой важный толчок система вооруженной<br />
охраны постсоветского периода<br />
получила после череды терактов, первым из<br />
которых был захват заложников в больнице<br />
Буденновска в июне 1995 года, а 1996 год
заставил СМИ говорить о России (и в первую<br />
очередь о Москве) как о прифронтовой территории.<br />
Он же стал переломным в смысле<br />
умножения сотрудников ЧОПов и вневедомственной<br />
охраны, число которых, по данным<br />
на 2005 год, составляло более 350 тыс. человек<br />
(157 тыс. сотрудников милиции; 113 тыс.<br />
сотрудников ФГУП «Охрана»; 100 тыс. вольнонаемных<br />
работников) 51 . Теракты 1999 года,<br />
кто бы ни был их заказчиком и исполнителем,<br />
только усугубили ситуацию и увеличили количество<br />
КПП разного рода, а также людей,<br />
занятых в этой сфере. По данным на 2010 год,<br />
в охране разных уровней в РФ занято более<br />
1 млн 200 тыс. человек 52 . По мере достижения<br />
определенной ясности в том смысле, что охрана<br />
не способна остановить ни маски-шоу, ни<br />
теракт, — а разве что создает ощущение защищенности<br />
у входящих в здание — охранники<br />
стали менее заметны. Однако их количество,<br />
похоже, не уменьшается.<br />
В добавление к истории, с которой я<br />
начал эту статью, могу сказать, что на территории<br />
государственного вуза, в котором<br />
я регулярно бываю, имеет место примерно<br />
то же самое: серьезный КПП при входе на<br />
территорию (при этом самих проходных —<br />
несколько в разных местах) и еще один — при<br />
дверях корпуса, а на самом деле одного из<br />
корпусов. В отличие от ситуации с известной<br />
медиагруппой, то, что размещается в этом<br />
самом корпусе, административно и в других<br />
отношениях, в общем, является частью<br />
вуза, занимающего кампус. Второй пост<br />
охраны может быть либо усиливающим —<br />
одного кордона недостаточно, враг хитер,<br />
и противодействие ему требует двух, не то<br />
трех линий обороны, — либо маркирующим<br />
какую-то внутреннюю границу. Если так, то<br />
смысл последней от меня ускользает: да, в<br />
этом корпусе размещается еще один вуз, но<br />
он занимает часть одного из этажей, так что<br />
устраивать КПП внизу смысла нет. Подобных<br />
примеров, немного подумав, каждый житель<br />
Внутренние границы в пространстве потоков<br />
Москвы может привести не один и не два —<br />
так, если не отвлечься от кампусов, при<br />
въезде на территорию МГУ теперь находятся<br />
будки КПП, а при входе в корпуса или общежития<br />
— дополнительные кордоны охраны.<br />
Территория перед основным входом (выходящим<br />
на Воробьевы горы) Главного здания<br />
огорожена, кроме того, бетонными блоками,<br />
установленными после того, как это пространство<br />
облюбовали для своих мероприятий<br />
стритрейсеры.<br />
Описанное положение вещей, регулярно<br />
воспроизводящееся в Москве при организации<br />
различных внутренних границ, как<br />
представляется автору, является (кроме прочего<br />
— об этом чуть ниже) пространственным<br />
образом упомянутого выше процесса постепенной<br />
приватизации насилия. Последнее<br />
расползается — теперь уже не только сверху<br />
вниз — по социальной/пространственной<br />
ткани, отчего в ней возникают новые сектора<br />
со своими границами и внутренними<br />
иерархиями. Между собой акторы насилия<br />
и образуемые ими иерархии находятся в<br />
сложных, не всегда очевидных отношениях<br />
пересечения/включения/исключения/<br />
вражды. На условной карте города мы в этой<br />
связи видим иногда пересекающиеся, иногда<br />
разделенные, а иногда — и это, пожалуй,<br />
интереснее всего — включенные друг в друга<br />
области, представляющие собой что-то вроде<br />
квазиюрисдикций 53 (разумеется, мы говорим<br />
здесь о юрисдикциях в смысле не подсудности,<br />
но скорее подведомственности).<br />
«Законы», действительные для той или иной<br />
«территориальной квазиюрисдикции», могут<br />
существовать в виде писаного кодекса (на<br />
территории кампуса запрещено то-то и то-то),<br />
могут — в виде неписаного (на территории<br />
кампуса не принято то-то и то-то), но они всегда<br />
существуют — и что важнее, практически<br />
всегда сужают область свободы по сравнению<br />
с территорией, в которую включены. В этом,<br />
строго говоря, их отличие от региональных<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 79
СтаниСлав львовСкий<br />
законов, которые могут — для России обычно<br />
теоретически, но тем не менее — как расширять,<br />
так и сужать область свободы по сравнению<br />
с федеральными. Эти внутригородские<br />
квазиюрисдикции часто не имеют четких<br />
границ в институциональном пространстве,<br />
а порой и в географическом. Они являются<br />
одновременно субъектами и объектами<br />
постоянной ретерриториализации, никогда<br />
не останавливающегося переопределения<br />
внутренних границ социального и городского<br />
пространства. В том числе (но не только)<br />
— это границы применимости власти, осуществления<br />
экономического, политического<br />
в широком смысле или информационного<br />
контроля 54 . Очень важно, однако, что такой<br />
контроль далеко не всегда осуществляется<br />
акторами государственной административной<br />
системы. Он отчасти приватизирован<br />
в прямом смысле — отдельными частными<br />
лицами или их ассоциациями на основе прав<br />
частной собственности на недвижимость;<br />
отчасти присвоен институционализированными<br />
или же фантомными, неинституционализированными<br />
добровольными общественными<br />
ассоциациями; еще чаще присвоение<br />
такого контроля осуществляется фрагментами<br />
силовых/административных структур<br />
государства помимо предписанных им функций,<br />
— и так далее. Сюда относится, например,<br />
широко анонсированное в медиа появление<br />
в Москве казачьих патрулей (кажется,<br />
впрочем, так и оставшихся сугубо медийным<br />
явлением) с неясными полномочиями.<br />
Здесь важно заметить, что бетонный блок,<br />
установленный гражданами в обход формальной<br />
процедуры (если таковая вообще существует)<br />
на въезде во двор, одинаково препятствует<br />
как въезду «чужаков», находящихся на одном<br />
иерархическом уровне с инициаторами такой<br />
демаркации, так, например, и полиции 55 . Это<br />
значит, что граница здесь оказывается инструментом<br />
контроля не только горизонтального,<br />
но и направленного «снизу вверх».<br />
80 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
Вязкость, прозрачность, доступ<br />
Попробуем снова взлететь над городом.<br />
Преодолев, если удастся, сильный нисходящий<br />
поток, сложим на ветру крылья и присядем<br />
на верхней веранде — ну, например,<br />
Триумф-Паласа, самого высокого жилого<br />
здания в Европе, представляющего собой<br />
реплику сталинской высотки. В сумерках мы<br />
видим город как почти сливающуюся темную<br />
массу жилых и нежилых зданий советского<br />
времени, в которую то здесь, то там вставлены<br />
новые, ярко освещенные башни и<br />
архитектурные комплексы. Темнеющий ландшафт<br />
пронизан освещенными же трассами и<br />
двигающимися по ним потоками машин. Это<br />
трудное, медленное движение, увязающее<br />
в тесной, спутанной сетке переулков, улиц,<br />
проспектов и почти отсутствующих здесь<br />
площадей. Человеческие потоки отсюда<br />
неразличимы, но мы знаем, что они также<br />
двигаются медленно, рывками, урывками,<br />
увязая в снежной каше, пытаясь миновать<br />
огромные лужи, с трудом обтекая препятствия:<br />
заборы строительных площадок;<br />
толпы на остановках; припаркованные на<br />
тротуарах машины. Если бы мы могли заглянуть<br />
под землю, то увидели бы похожую картину.<br />
Застревающие в тоннелях поезда метро;<br />
толпы, едва просачивающиеся сквозь турникеты<br />
и тяжелые двери; клаустрофобические<br />
людские пробки в тесных межстанционных<br />
переходах. Московское метро просторнее<br />
многих европейских, однако и ежедневный<br />
пассажиропоток у нас превышает европейский<br />
в разы.<br />
Абзац, который вы только что прочли,<br />
лишь на первый взгляд проходит по ведомству<br />
чистой литературы. Я не стану целиком<br />
иллюстрировать его цифрами, но упомяну<br />
хотя бы о том, что согласно данным исследований<br />
по программе «Городские проекты»,<br />
запущенной блогером Ильей Варламовым и<br />
депутатом муниципального собрания района<br />
«Щукино» Максимом Кацем, «350 парковоч-
ных мест, фактические существующие на тротуарах<br />
Тверской улицы в Москве, занимают<br />
примерно три четверти ее общественного<br />
пространства» 56 .<br />
Основные свойства московской городской<br />
среды, как мне представляется, — вязкость,<br />
непрозрачность и сегментированность.<br />
Передвигаясь по городу, мы постоянно<br />
вынуждены пересекать огромное множество<br />
границ разного рода, встречаясь в промежутках<br />
— и это не менее важно — с другими препятствиями,<br />
вроде узких тротуаров, глубоких<br />
подземных переходов и долгих светофоров.<br />
Скорость нашего движения по городу замедляет,<br />
кажется, всё, включая климат, недружелюбие<br />
которого, разумеется, усугублено<br />
отсутствием эффективной дренажной системы<br />
и не блестящим функционированием коммунальных<br />
служб.<br />
Границы проводятся, как мы видели, не<br />
только властями, но и жителями Москвы —<br />
по крайней мере, c не меньшим, а иногда и<br />
большим энтузиазмом. И те и другие — действием<br />
и бездействием — на равных участвуют<br />
в повышении вязкости городской<br />
среды, в возведении барьеров и понижении<br />
прозрачности и в целом затрудняют движение<br />
потоков и снижают их скорость. Может<br />
возникнуть впечатление, что в пределе мы<br />
имеем дело с желанием их остановить, заморозить<br />
до состояния тепловой смерти — но<br />
нет. Смысл этого процесса не в том, чтобы<br />
остановить город.<br />
Чтобы уже не возвращаться к этой теме,<br />
сразу следует сказать, что замедление потоков<br />
и создание барьеров для передвижения,<br />
конечно, представляет собой инструмент<br />
контроля. Такой контроль является — по<br />
Внутренние границы в пространстве потоков<br />
крайней мере, в том, что касается уличной<br />
политики, — в значительной степени иллюзорным:<br />
в этом отношении куда более эффективными<br />
действиями (со стороны администрации)<br />
было уничтожение Манежной<br />
площади и «заморозка» неведомыми раскопками<br />
площади Маяковского, находящейся<br />
на Тверской, которая, как точно отмечает<br />
Алексей Левинсон 57 , является главным<br />
московском радиусом, устремленным «прямо<br />
к Кремлю». Замедление потоков и создание<br />
границ дает ощущение безопасности: при-<br />
“Московское метро просторнее многих европейских,<br />
однако и ежедневный пассажиропоток у нас превышает<br />
европейский в разы”.<br />
мерно тем же целям служила в Средние века<br />
топология внутреннего, то есть находящегося<br />
за стенами, европейского города — или<br />
аналогичной ему арабской медины. В те<br />
времена, однако, такая практика была обусловлена<br />
военной необходимостью и имела<br />
вполне рациональную природу. В Москве<br />
же, с ее чрезвычайно широкими для европейского<br />
города радиусами (и кольцами), о<br />
рациональных причинах подобных разграничений<br />
говорить не приходится; безопасность<br />
медленного движения в современном<br />
городе обманчива, а стремление затормозить<br />
потоки культурно и социально обусловлено<br />
скрытыми факторами, требующими дополнительного<br />
прояснения.<br />
Мое предположение состоит в том, что<br />
способ организации среды и особая городская<br />
топология, явленные нам в Москве<br />
со всей возможной очевидностью, представляют<br />
собой манифестации — а вернее,<br />
учитывая замечание Кастельса о двусторонней<br />
природе коммуникации общество —<br />
пространство, — пространственную часть<br />
специфической формы организации российского<br />
общества 2000-х, которую Кирилл<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 81
СтаниСлав львовСкий<br />
Рогов называет «режимом мягких правовых<br />
ограничений» 58 : «Режим мягких правовых<br />
ограничений — это такой режим, где правила<br />
(писаное право) существуют не столько<br />
для того, чтобы они соблюдались, сколько<br />
для того, чтобы они нарушались; во всяком<br />
случае, такие нарушения носят систематический<br />
характер. Неверно было бы сказать,<br />
что в такой системе правила не работают;<br />
они именно работают, но работают специфическим<br />
образом. Тот факт, что правила<br />
нарушаются в этой системе по определенным<br />
правилам, позволяет рассматривать ее как<br />
специфическую форму порядка (устойчивого<br />
состояния), который может даже в сознании<br />
общества в качестве общественного блага<br />
быть противопоставленным нерегулируемому,<br />
хаотическому нарушению правил.<br />
Писаные правила создаются в этой системе<br />
для того, чтобы их можно было и имело<br />
смысл нарушать. То есть они создаются так,<br />
что соблюдение правил затруднительно<br />
и является существенной издержкой, в то<br />
время как возможность не соблюдать правило<br />
дает значительные конкурентные преимущества.<br />
Иными словами, правила в этой<br />
системе создаются так, чтобы стимулировать<br />
их нарушение».<br />
Таким образом, по Рогову, создается<br />
система устойчивая, гибкая и отчасти конкурентная.<br />
Однако поскольку она постоянно<br />
меняется — изменчивость «правил нарушения<br />
правил» является ее несущим элементом,<br />
то, по всей видимости, перед нами система<br />
не стабильная в привычном значении этого<br />
слова, а скорее нечто похожее на «квазистабильную<br />
открытую систему» 59 , известную из<br />
термодинамики.<br />
«Опространствить» модель «режима мягких<br />
правовых ограничений» (далее РМПО)<br />
напрямую, разумеется, тоже невозможно.<br />
Подобно тому как топологический образ не<br />
является линейной проекцией политического/экономического,<br />
так и последний не явля-<br />
82 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
ется линейной проекцией топологии. Они<br />
находятся в отношениях дополнительности,<br />
вместе образуя особый тип организации в<br />
пространстве социального. Отметим только<br />
следующие (основные) совпадения.<br />
• Как и правила в модели РМПО, внутренние<br />
городские границы «создаются для<br />
того, чтобы их можно было и имело смысл<br />
нарушать», и нарушение их имеет систематический<br />
характер.<br />
• Как и в модели РМПО, правила (границы)<br />
нарушаются «по определенным правилам,<br />
что позволяет рассматривать ее как<br />
специфическую форму порядка» 60 .<br />
• Как в модели РМПО «правила нарушения<br />
правил изменчивы», так и внутригородские<br />
границы постоянно меняются —<br />
именно об этом мы упоминали вначале,<br />
цитируя Ньюмана, говорящего о ««ретерриториализации»,<br />
то есть о постоянном<br />
процессе учреждения, изменения и переучреждения<br />
границ. Хорошим примером<br />
перманентной ретерриториализации являются<br />
постоянная смена дорожных знаков<br />
или изменения дорожной разметки.<br />
• Наконец, правовые ограничения в модели<br />
РМПО «существуют, но являются принципиально<br />
преодолимыми» — точно так<br />
же, как внутригородские границы Москвы.<br />
Еще раз хотелось бы подчеркнуть, что<br />
внутригородские границы по большей части<br />
(за вычетом специально устанавливаемых) не<br />
являются частью РМПО — кроме тех случаев,<br />
когда они учреждаются, например, полицией<br />
в качестве непосредственного инструмента<br />
извлечения ренты. Как правило же, мы, видимо,<br />
имеем дело с воспроизведением паттерна,<br />
образованного констелляцией нескольких<br />
факторов.<br />
Первый — собственно РМПО, являющийся,<br />
как представляется, специфической<br />
вариацией режима «ограниченного<br />
доступа», описанного Дугласом Нортом,<br />
Джоном Уоллисом и Барри Вайнгастом в
книге «Насилие и социальные порядки» 61 .<br />
Последнее, в частности, означает, что взимание<br />
ренты здесь не менее важно, чем пусть<br />
несовершенный, но механизм регулирования<br />
насилия, являющийся, разумеется, и<br />
каналом его распространения, — но все-таки<br />
«каналом», в котором насилие позволено —<br />
но ограничено.<br />
Второй — культура низкого социального<br />
доверия, в которой, как пишет Лев Гудков,<br />
«реальные, постоянно подтверждаемые доверительные<br />
отношения возникают и фиксируются<br />
лишь в очень узких пределах: только<br />
внутри малых коллективов и сообществ,<br />
прежде всего — в семье или в кругу близких<br />
родственников, среди коллег по работе, в дружеских<br />
компаниях» 62 . Такая культура, с принятым<br />
в ней настороженным отношением к<br />
чужакам и вообще к Другому, характеризуется<br />
подозрительностью и к структурам открытого<br />
доступа — в том числе пространственным, —<br />
и повышенным спросом на безопасность в<br />
самом архаическом, так сказать, «фортификационном»<br />
смысле этого слова. Заметим, что,<br />
по всей видимости, само по себе это положение<br />
дел является не только наследством<br />
советского периода, в значительной степени<br />
уничтожившего способность к самоорганизации,<br />
но и продуктом преобладающей в постсоветской<br />
России «культуры насилия» 63 .<br />
Наконец, третий фактор — более ситуативный<br />
по сравнению с предыдущими — быстрая<br />
трансформация Москвы из города, пусть и<br />
столичного, в квазигосударство. <strong>Москва</strong> уже<br />
обладает многими чертами, функциями и<br />
полномочиями государства — полноценного,<br />
однако существующего только де-факто, но<br />
не де-юре, в связи с чем, как пишет 64 Даце<br />
Гурецка, «разрастающийся бюрократический<br />
аппарат вынужден предпринимать все<br />
больше усилий, пытаясь управлять этой все<br />
более раздвоенной, почти “шизофренической”<br />
реальностью». Важно добавить, что<br />
раздвоенность и «шизофренический» статус<br />
Внутренние границы в пространстве потоков<br />
нынешней Москвы как города-государства<br />
ощущает не только администрация, но и<br />
все ее жители, также пытающиеся получить<br />
ощущение контроля 65 (в данном случае над пространством<br />
и доступом в его сегменты), которое<br />
в «культуре низкого доверия» является<br />
ключевым для получения куда более важного<br />
ощущения, — а именно, всё того же ощущения<br />
безопасности.<br />
***<br />
За пределами этой статьи осталось множество<br />
важных тем. В частности, я почти<br />
не коснулся представления о «безбарьерной<br />
среде», понимаемой как городское пространство,<br />
прозрачное для передвижения людей<br />
с ограниченными способностями. Нельзя<br />
не отметить, что формально с этой точки<br />
зрения положение в городе улучшилось: установлены<br />
светофоры со звуковыми сигналами,<br />
новые подземные переходы оборудуются<br />
пандусами (как и подъезды новостроек) и т. д.<br />
Вместе с тем, поскольку среда обладает крайне<br />
высокой вязкостью для передвижения<br />
даже взрослых здоровых людей, предпринятые<br />
явно с благими намерениями меры<br />
последнего времени облегчают положение<br />
людей с ограниченными физическими возможностями<br />
в куда меньшей степени, чем<br />
хотелось бы. Почти не обсуждаю я здесь и<br />
ограничений на передвижение по речным<br />
артериям, которое зарегулировано в Москве<br />
гораздо сильнее, чем в любом крупном городе,<br />
не важно, европейском или нет, — а также,<br />
например, тот факт, что воздушное пространство<br />
города полностью закрыто для полетов<br />
малой авиации. Мы начали здесь разбирать<br />
пространственные каналы движения, но не<br />
стали сравнивать их структуру со структурой<br />
нематериальных каналов 66 , по которым движутся<br />
в городе люди, информация, капитал<br />
и многое другое. За пределами статьи, написанной<br />
«с точки зрения пешехода», осталось<br />
подробное рассмотрение такой разновидности<br />
«мерцающих барьеров», как автомо-<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 83
СтаниСлав львовСкий<br />
бильные пробки, о которых много пишет, в<br />
частности, руководитель НИИ транспорта и<br />
дорожного хозяйства Михаила Блинкин 67 .<br />
Мне показалось важным не адресоваться<br />
ко всем аспектам проблематики внутригородских<br />
границ, но скорее продемонстрировать<br />
продуктивность и важность определенного<br />
способа думать о городе, о его внутренней<br />
структуре, наконец, о свойствах городского<br />
пространства и заполняющей его среды.<br />
Я полагаю, что крайне важно рассматривать<br />
город как пространство потоков. Важно<br />
понять его как совокупность движений, а не<br />
ПРИМЕЧАНИЯ 1 См.: Dantzig G. B., Saaty T. L.<br />
Compact City: Plan <strong>for</strong> a Liveable Urban Environment.<br />
San Francisco: W. H. Freeman, 1973.<br />
2 На необходимость изучать границы как<br />
двойственный феномен «top down vs bottom up» указывает,<br />
в частности, Дэвид Ньюман. См.: Newman D.<br />
The Lines That Continue To Separate Us: Borders<br />
in Our «Borderless» World // Progress in Human<br />
Geography. Vol. 30. No 2. 2006. P. 143—161.<br />
3 Разумеется, всегда есть исключения. Так,<br />
феномен повсеместной установки в 1990-х годах<br />
железных дверей проанализирован сравнительно<br />
подробно: см. например: Шпаковская Л. Л. «Мой<br />
дом — моя крепость»: Обустройство жилья нового<br />
среднего класса // Новый быт в современной<br />
России: Гендерные исследования повседневности<br />
/ Под ред. Е. Здравомысловой, А. Роткирх, А.<br />
Темкиной. СПб.: Изд-во ЕУСПб, 2009. C. 222—262.<br />
4 Castells M. The Urban Question. MIT Press,<br />
1977. Цит. по: Stadler F. Manuel Castells (Key<br />
Contemporary Thinkers). Polity, 2006. P. 141.<br />
5 Iossifova D. Identity and Space on the<br />
Borderland Between Old and New in Shanghai:<br />
A Case Study. Working Papers. World Institute <strong>for</strong><br />
Development Economic Research (UNU-WIDER),<br />
2010.<br />
6 Spierings B. Economic Flows, Spatial Folds and<br />
Intra-Urban Borders: Reflections on City Centre<br />
Redevelopment Plans From a European Border<br />
Studies Perspective // Tijdschrift voor Economische<br />
en Sociale Geografie. 2012. Vol. 103. Iss. 1. P. 110—117.<br />
84 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
диспозиций — пусть даже поначалу мы обратились<br />
именно к диспозициям, — однако важным<br />
именно с точки зрения мобильности.<br />
Этой оптикой необходимо воспользоваться<br />
не потому, что она «соответствует духу<br />
эпохи», не потому, что мы живем (действительно<br />
живем) в «текучей современности»<br />
Зигмунта Баумана. Но потому, что такой<br />
взгляд на город может, как мне представляется,<br />
сообщить нам новое знание о социальном<br />
устройстве нынешней России и об антропологии<br />
человека, обитающего в неуютной постсоветской<br />
реальности.<br />
7 Дергачев В. Проект по переезду чиновников за<br />
МКАД закрыт // Известия. 2012. 19 окт. (http://<br />
izvestia.ru/news/537970).<br />
8 См. например: Sassen S. Globalization and Its<br />
Discontents: Essays on the New Mobility of People and<br />
Money. New Press, 1999.<br />
9 Последняя возможность обеспечивается прогрессом<br />
средств автоматического перевода.<br />
10 Это падение, собственно, и стало основной<br />
метафорой обещания «мира без границ».<br />
11 Достаточно вспомнить, например: Hardt M.,<br />
Negri A. Empire. Harvard Univ. Press, 2000.<br />
12 Newman D. World Society, Globalization and a<br />
Borderless World: The Contemporary Significance<br />
of Borders and Territory (World Society Focus<br />
Paper Series), 2005. P. 3 (http://www.uzh.ch/wsf/<br />
WSFocus_Newman.pdf).<br />
13 Ibid. P. 6.<br />
14 Virilio P. Цит. по: Deleuze G., Guattari F.<br />
Nomadology. N.Y.: Semiotext(e), 1986. P. 50.<br />
15 На то, что коллективная память сохранила<br />
изначальную функцию Бульварного и Садового<br />
колец, бывших фортификационными сооружениями,<br />
указывает, в частности, Алексей Левинсон. См.:<br />
Левинсон А. Пространства протеста: Московские<br />
митинги и сообщество горожан. М.: Strelka Press,<br />
2012 (электронное издание).<br />
16 Трущенко О. Е. Престиж Центра: Городская<br />
социальная сегрегация в Москве. М.: Socio-Logos,<br />
1995. С. 42—43.<br />
17 Там же. С. 59.
18 Постановление ЦК КПСС и Совета<br />
Министров СССР «О генеральном плане развития<br />
г. Москвы» // Решения партии и правительства<br />
по хозяйственным вопросам. Т. 8 (1970—1972).<br />
М.: Изд-во политической литературы, 1972. С. 471.<br />
19 Справедливости ради стоит сказать, что<br />
пешеходу там, в общем, и делать нечего. Въезд<br />
практически в любой большой город, окруженный<br />
чем-то вроде belt road или не имеющий такой границы,<br />
— всегда непростая задача.<br />
20 О различии дорог и улиц, а также об их<br />
принципиально различных наборах функций подробно<br />
пишет Михаил Блинкин. См.: Блинкин М.<br />
Грустные заметки о московских хордах. 2012.<br />
5 окт. (http://www.polit.ru/article/2012/10/05/<br />
transport/); Он же. Возможно, мы вступаем в<br />
стадию распада Москвы. 2011. 14 окт. (polit.ru/<br />
article/2011/10/14/msk_blinkin).<br />
21 В том числе это связано как раз с естественной<br />
трудностью ее пересечения, которая, в свою<br />
очередь, является оборотной стороной открытости<br />
пространства набережных, их незагроможденности<br />
— впрочем, по этой части бывают, конечно,<br />
и исключения.<br />
22 Для кругового маршрута «Киевский вокзал» —<br />
«Киевский вокзал», данные на 2012 год с официального<br />
сайта Московской судоходной компании<br />
(http://www.cck-ship.ru).<br />
23 Буслов А. Одно слово, к вопросу о пешеходных<br />
переходах. 2012. 13 окт. (http://mymaster.<br />
livejournal.com/316616.html).<br />
24 Беляев В. Планирование градостроительного<br />
освоения подземного пространства города Москвы.<br />
Выступление на 48-м конгрессе Международного<br />
общества специалистов по городскому и региональному<br />
планированию (ISOCARP) (http://www.<br />
isocarp.net/Data/case_studies/2243.pdf).<br />
25 См., в частности: http://souz-peshehod.ru/osouze/problem<br />
26 Подробно см., например: Durmišević S.<br />
Perception Aspects in Underground Spaces Using<br />
Intelligent Knowledge Modeling. Delft University<br />
Press (DUP) (The Netherlands), 2002. P. 26.<br />
27 Публичное (общественное) пространство,<br />
public space, — все части городского пространства<br />
(например, дороги, тротуары, площади, парки,<br />
здания), к которым имеют свободный доступ<br />
все, вне зависимости от этнической, классовой,<br />
религиозной принадлежности, а также уровня<br />
дохода. Так Манежная площадь (точнее, то, что<br />
Внутренние границы в пространстве потоков<br />
от нее осталось) — публичное пространство.<br />
Расположенный под ней ТЦ «Охотный Ряд»<br />
частью урбанистов будет отнесен к частным пространствам,<br />
а частью — к полупубличным (semi-public<br />
spaces). Парк Горького — публичное пространство,<br />
а парк «Музеон» таковым до последнего времени<br />
не являлся, поскольку, чтобы туда попасть, нужно<br />
было приобрести билет. Формальные критерии<br />
публичности пространства не всегда совпадают<br />
с реальными. Так, например, формально<br />
Александровский cад и Красная площадь являются<br />
публичными пространствами. На самом же деле<br />
доступ в них регулируется сотрудниками ФСО на<br />
основании закрытых ведомственных инструкций,<br />
ограничивающих или запрещающих к тому же<br />
некоторые разновидности законной деятельности<br />
в этих пространствах. Так, видеосъемка при помощи<br />
профессиональной техники в публичных пространствах<br />
законна, однако для ее осуществления<br />
на Красной площади необходимо получать дополнительные<br />
разрешения.<br />
28 Shoshin S. Boundaries of Public Space in Moscow<br />
// Public Space: Research Report. 2010—2011<br />
Educational Programme. Strelka, 2011. P. 57.<br />
29 Подробнее об этом см., например:<br />
Stanilov K. Democracy, Markets, and Public Space<br />
in the Transitional Societies of Central and Eastern<br />
Europe // The Post-Socialist City: Urban Form and<br />
Space Trans<strong>for</strong>mations in Central and Eastern Europe<br />
after Socialism / K. Stanilov (ed.). (GeoJournal<br />
Library. Vol. 92). Springer, 2007. P. 269—283.<br />
30 Ibid. P. 273.<br />
31 Игнатова О. Не в своей песочнице //<br />
Российская газета — Неделя. № 5438 (62) (http://<br />
www.rg.ru/2011/03/24/zemlja.html).<br />
32 Семенова А. Почти половину дворов в центре<br />
Москвы закроют шлагбаумами // Известия. 2012.<br />
8 нояб. (http://izvestia.ru/news/539139).<br />
33 Там же.<br />
34 Впрочем, в экономическом смысле даже<br />
приватизированные по законной процедуре территории<br />
при жилых комплексах не являются вполне<br />
частными: так, для сдачи такой территории или ее<br />
части в аренду необходимо дополнительное разрешение<br />
городских властей.<br />
35 http://ria.ru/moscow/20120207/559387078.<br />
html<br />
36 Еще одним подтверждением того, что климат<br />
ни при чем, служит тот факт, что летом двери не<br />
открывают.<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 85
СтаниСлав львовСкий<br />
37 Ср. у Ильфа и Петрова: «Спортивный стадион<br />
не имеет крыши, но ворот есть несколько.<br />
Все они закрыты. Открыта только калиточка.<br />
Выйти можно, только проломив ворота. После<br />
каждого большого состязания их ломают. Но в<br />
заботах об исполнении святой традиции их каждый<br />
раз аккуратно восстанавливают и плотно<br />
запирают. Если уже нет никакой возможности<br />
привесить дверь (это бывает тогда, когда ее не<br />
к чему привесить), пускаются в ход скрытые<br />
двери всех видов: 1. Барьеры. 2. Рогатки. 3.<br />
Перевернутые скамейки. 4. Заградительные надписи.<br />
5. Веревки» (Ильф И., Петров Е. Двенадцать<br />
стульев; Золотой теленок; Повести; Рассказы;<br />
Фельетоны. М.: ОЛМА-ПРЕСС; Звездный мир,<br />
2003. С. 156—157).<br />
38 См., например: http://www.anekdot.ru/<br />
id/167987/<br />
39 Наиболее распространенную — причем<br />
далеко за границами социалистического лагеря —<br />
историю из этого ряда использует Славой Жижек в<br />
зачине своего текста для иллюстрации маклюэновского<br />
“medium is the message” (Жижек С. О насилии.<br />
Пер. с англ. А. Смирнова, Е. Ляминой. М.: Европа,<br />
2010. С. 5, 65). Тематика, которой посвящен текст,<br />
здесь, разумеется, тоже важна.<br />
40 См., например, здесь: http://www.anekdot.<br />
ru/id/151540/<br />
41 В частности, в культовом романе позднесоветской<br />
интеллигенции «Понедельник начинается<br />
в субботу» Аркадия и Бориса Стругацких<br />
М.М. Камноедов (утрированный образ ничего<br />
не понимающего в науке администратора НИИ)<br />
использует в качестве вооруженной охраны<br />
(ВОХР) ифритов. В том же качестве в романе<br />
выступает Голем. Кроме того, напомним, двери<br />
НИИЧАВО открывает и закрывает демон<br />
Максвелла. Еще один охранник-вахтер, охраняющий<br />
уже не все здание, а отдельные лаборатории,<br />
— вурдалак. См.: http://lib.ru/STRUGACKIE/<br />
ponedelx.txt<br />
42 См.: http://lib.rus.ec/b/224584/read<br />
43 Логачёва Т.Е. Рок-поэзия А. Башлачёва и<br />
Ю. Шевчука — новая глава петербургского текста<br />
русской литературы // Русская рок-поэзия:<br />
Текст и контекст: Сборник научных трудов.<br />
Вып. 1 / Под ред. Ю.В. Доманского, Т.Г. Ивлевой,<br />
Е.А. Козицкой, Е.И. Суворовой. Тверь: Тверской<br />
государственный университет, 1998.<br />
44 Цит. по: http://krissja.traktir.ru/janka/texts.html<br />
86 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
45 Любопытно и показательно, что изначально<br />
ВОХР — Войска Внутренней Охраны Республики<br />
(РСФСР), организованные Постановлением<br />
Совета Рабочей и Крестьянской Обороны РСФСР<br />
от 28 мая 1919 года, долго являлись не просто<br />
караульными, а караульно-конвойными частями,<br />
входившими в состав войск ВЧК-ОГПУ-НКВД, что,<br />
несомненно, оказало долговременное воздействие<br />
на самоощущение их сотрудников/служащих.<br />
46 Сдача площадей госучреждений в аренду их<br />
руководством была массовой по своему характеру.<br />
Так, например, даже в 2003 году, только по официальным<br />
(и нерегулярно поступавшим) данным,<br />
доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества<br />
РАН составляли 5–7 проц. общего объема финансирования<br />
РАН изо всех источников. См.: Дежина И.Г.<br />
Механизмы государственного финансирования<br />
науки в России (Научные труды. № 99). М.: ИЭПП,<br />
2006. С. 38—39. Скорее всего, данные эти сильно<br />
занижены, а в 1990-е годы доля таких доходов заведомо<br />
была выше, чем в начале 2000-х.<br />
47 Она включала в себя подразделения вневедомственной<br />
охраны (ОВО), являвшиеся частью<br />
МВД СССР, ведомственную охрану (создававшуюся<br />
имеющими на это право федеральными органами<br />
исполнительной власти и организациями) и сугубо<br />
штатских сторожей.<br />
48 Дойников Ю.В. Частный сыск и закон //<br />
Советская милиция. 1990. № 1. С. 52—55.<br />
49 Бедняков Д. Частный сыск: «за» и «против»?<br />
// Советская милиция. 1990. № 6. С. 12—13.<br />
50 Связью ЧОПов 1990-х с криминалом занимался,<br />
в частности, питерский социолог преступности<br />
Вадим Волков. См., например: Волков В.<br />
Силовое предпринимательство: XXI век. СПб.:<br />
Издательство Европейского университета в Санкт-<br />
Петербурге, 2012. С. 73—89.<br />
51 Итоги реформирования вневедомственной<br />
охраны: Интервью начальника Департамента государственной<br />
защиты имущества МВД России генерал-майора<br />
милиции Вадима Савичева газете «Щит<br />
и меч» (http://www.psj.ru/blog/BloggerPSJ/679.<br />
php).<br />
52 Дмитриева А.В. Реформирование управления<br />
вневедомственной охраны в контексте развития<br />
рынка охранных услуг (Серия «Аналитические<br />
записки по проблемам правоприменения»). СПб.:<br />
ИПП ЕУСПб, 2010. С. 3.<br />
53 Их прообразами на карте «большого» СССР,<br />
наверное, можно считать и ЗАТО (Закрытые тер-
риториальные образования) вроде Арзамаса-16, и<br />
тюрьмы с лагерями, и даже Москву как таковую —<br />
«образцовый коммунистический город». Впрочем,<br />
границы той эпохи были более определенными и<br />
менее подвижными, поскольку выполняли другие<br />
функции.<br />
54 Такое положение дел отчасти напоминает<br />
известную практику «gerrymandering», заключающуюся<br />
в манипулировании границами избирательных<br />
округов с целью обеспечения той или иной политической<br />
силе преимущества на выборах.<br />
55 Отдельный интерес представляет вопрос<br />
о том, почему таким действиям не препятствует,<br />
например, тот факт, что заодно доступ перекрывается<br />
«скорой помощи» и пожарным, но,<br />
по-видимому, это происходит потому, что выгоды<br />
(контроль передвижений чужаков) являются мгновенными,<br />
а издержки — либо отложенными (применительно<br />
к пожарам, случающимся относительно<br />
редко), либо ложатся на те социальные группы,<br />
которые не могут отстоять свои права (в первую<br />
очередь на пенсионеров).<br />
56 http://riarealty.ru/news_infrastructu<br />
re/20121116/398891819.html<br />
57 Пушкинская же, о которой Левинсон, собственно,<br />
и пишет, недостаточно вместительна. См.:<br />
Левинсон А. Указ. соч.<br />
58 Рогов К. Режим мягких правовых ограничений:<br />
природа и последствия: Наброски по политэкономии<br />
полукапитализма (http://www.inliberty.<br />
ru/blog/krogov/2471).<br />
59 О таких системах см. подробнее: Николис Г.,<br />
Пригожин И. Самоорганизация в неравновесных<br />
системах. М.: МИР, 1979. Тут есть сильный соблазн<br />
примерить свойства возникающих внутри таких<br />
систем «диссипативных структур» на то, о чем<br />
пишет Рогов, но это потребует отдельного большого<br />
разговора, для которого к тому же потребуется<br />
отдельное же методологическое обоснование.<br />
60 Так, очень часто прямо над кодовым замком<br />
при входе в подъезд написана открывающая<br />
Внутренние границы в пространстве потоков<br />
его комбинация цифр. Еще чаще в отсутствие<br />
достаточного количества переходов (что, как мы<br />
видели, есть форма границы) люди переходят<br />
дорогу в неположенном месте, однако (в Москве)<br />
почти никогда не подвергаются за это санкциям со<br />
стороны ГАИ. Известна цена, которую (не во всех<br />
случаях, но зачастую) можно уплатить на месте<br />
за пересечение дорожной разметки; охранник,<br />
требующий документы при входе в здание, часто<br />
записывает данные паспорта «со слов», и т. д.<br />
61 Норт Д., Уоллис Д., Вайнгаст Б. Насилие и<br />
социальные порядки: Концептуальные рамки для<br />
интерпретации письменной истории человечества.<br />
М.: Изд. Института Гайдара, 2011.<br />
62 Гудков Л. Доверие в России: Смысл, функции,<br />
структура // Новое литературное обозрение.<br />
№ 117. 2012.<br />
63 Вопрос о ее генезисе представляет отдельный<br />
интерес, но, к сожалению, поиски ответа на<br />
него выходят далеко за рамки данной работы.<br />
64 Gurecka D. The State of Moscow // «Megacity»<br />
Research Report. Strelka, 2012. P. 11—31. (http://<br />
issuu.com/strelkainstitute/docs/megacity_<br />
finalreport).<br />
65 Ясно, что для всех акторов — будь то администрация,<br />
корпорации, граждане или их добровольные<br />
ассоциации, речь не идет о получении<br />
подлинного контроля, но только его ощущения:<br />
любая железная дверь будет выломана при необходимости<br />
ОМОНом; любые заграждения на площади<br />
Маяковского могут быть снесены достаточно<br />
большой толпой и т. д.<br />
66 Об их особой важности см.: Урри Дж.<br />
Социология за пределами обществ: Виды мобильности<br />
для XXI столетия. М.: Изд. дом Высшей<br />
школы экономики, 2012. С. 56.<br />
67 См., например: Блинкин М. Этиология и патогенез<br />
московских пробок: Лекция. 2008. 24 янв.<br />
(http://polit.ru/article/2008/01/24/probki/);<br />
Он же. О пользе гражданских конвенций. 2008.<br />
27 февр. (polit.ru/article/2008/02/27/probki).<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 87
Государственное вмешательство:<br />
институциональная ловушка<br />
Финансовые интересы элитных групп блокируют возможность<br />
преобразования экономики<br />
Борис Грозовский<br />
Весной 2007 года мало кто предполагал,<br />
что кризис на рынке американских<br />
ипотечных бумаг обернется<br />
глобальным кризисом суверенного<br />
долга, который затянется на десятилетие.<br />
А еще пятью годами раньше правительство<br />
Михаила Касьянова усиленно готовилось к<br />
долговой «проблеме-2003», не зная, что проблемы<br />
не существует, поскольку через 8—10<br />
лет цена нефти твердо закрепится в районе<br />
100 дол. за баррель. В августе—октябре 1998<br />
года никто не ожидал, что дефолт, девальвация,<br />
экономика неплатежей и бартера приведут<br />
Россию к десятилетию устойчивого<br />
роста ВВП. А в конце 2010 года эксперты<br />
не прогнозировали взрывной рост политической<br />
активности в стране и того, что уже<br />
через полтора-два года довольно широким<br />
городским слоям сам стиль российского<br />
политического руководства станет казаться<br />
безнадежно архаичным. Прогнозирование<br />
экономических сценариев почти на 20 лет<br />
вперед — дело крайне неблагодарное, и примеры<br />
можно множить до бесконечности.<br />
Задним числом траектория, по которой<br />
пошло развитие, представляется наиболее<br />
очевидной и вероятной: «все к этому и шло».<br />
Изменения накапливаются постепенно,<br />
поэтому в прошлом можно обнаружить множество<br />
симптомов, указателей и подсказок.<br />
Но «в моменте» они не очевидны. Советская<br />
система, казавшаяся почти вечной, раз-<br />
88 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
валивается за считаные годы. И наоборот,<br />
социально-экономический и политический<br />
инфантилизм, который, как казалось во<br />
время перестроечной эйфории, может быть<br />
быстро изжит, остается самой базовой характеристикой<br />
социального сознания. Именно<br />
инфантилизм лежит в основе спроса населения<br />
на социально-экономический патернализм<br />
и приводит к отсутствию даже в элитах<br />
внятной системы ценностей. В этих условиях<br />
правительство может бросать населению<br />
и элитным группам бюджетные «подачки»,<br />
одновременно занимаясь своими делами за<br />
их спиной.<br />
Ни в экономике, ни в сфере финансовых<br />
рынков нет «магического кристалла», через<br />
который можно разглядеть дальнейший ход<br />
вещей. «Постфактум всегда можно найти тех,<br />
кто говорил, что цены чересчур высоки, до<br />
того, как все произошло, — говорит о пузыре<br />
на кредитных рынках профессор Чикагского<br />
университета Юджин Фама 1 . — Когда они<br />
оказываются правы, мы готовы их канонизировать.<br />
Когда ошибаются — не обращаем на<br />
них внимания. Обычно угадавших и ошибающихся<br />
примерно поровну».<br />
Определяющие факторы<br />
Долгосрочный прогноз российской экономики<br />
определяется двумя факторами.<br />
Первый — что будет с ценой нефти и других<br />
экспортируемых страной сырьевых товаров.
Второй — удастся ли России развязать путы,<br />
мешающие развитию несырьевой экономики<br />
и тем самым выйти из институциональной<br />
ловушки, запирающей нас в колее неконкурентного<br />
роста, ориентированного на извлечение<br />
и распределение ренты роста.<br />
Оба этих фактора весьма неопределенны.<br />
В основе нынешнего высокого уровня цен на<br />
нефть — значительный рост спроса в развивающихся<br />
странах и массированное ослабление<br />
денежной политики в развитых странах,<br />
переживающих кризис. Дешевые деньги обязательно<br />
находят себе дорогу на сырьевые<br />
рынки, и цены растут.<br />
Тем не менее есть все основания ожидать,<br />
что нефть и газ подешевеют. Основные причины<br />
этого:<br />
• Рост добычи нефти и газа из нетрадиционных<br />
источников: газ из сланцев, попутный<br />
газ, нефтяные пески, добыча на шельфе и<br />
т. д. Как меняет рынок прирост добычи,<br />
видно на примере США. Достаточно было<br />
Штатам за 2009—2011 годы нарастить<br />
добычу нефти с 6,8 млн баррелей в день до<br />
7,5 млн баррелей (до этого добыча в США<br />
падала почти 40 лет, с 1971-го по 2007-й),<br />
как западнотехасская нефтяная смесь WTI,<br />
еще в середине 2000-х годов стоившая примерно<br />
на 10 проц. дороже смеси Brent, стала<br />
стоить как минимум на 15 проц. дешевле ее.<br />
Газ в США тоже стал значительно дешевле,<br />
чем в Европе. Благодаря новым источникам<br />
добычи США уже в этом десятилетии могут<br />
стать 2 крупнейшей нефтедобывающей<br />
страной мира. Аналитики Citigroup прогнозируют,<br />
что за ближайшие 10 лет добыча<br />
нефти на североамериканском континенте<br />
вырастет на 70—80 проц., нефть и газ там<br />
станут дешевыми, как в Катаре, что даст<br />
мощный толчок росту промышленности.<br />
Перспективы нового роста добычи нефти<br />
в США в очередной раз опровергают 3 теорию<br />
«нефтяного пика», которая утверждает,<br />
что глобальная нефтедобыча находится<br />
Государственное вмешательство: институциональная ловушка<br />
на пике, прирост разведанных запасов останавливается<br />
и нефти хватит на N лет. Эта<br />
концепция уже несколько раз оказывалась<br />
несостоятельной: развитие технологий<br />
позволяет найти топливо там, где раньше<br />
его не видели.<br />
• Повышение энергоэффективности.<br />
Развитым странам для производства единицы<br />
ВВП нужно все меньше энергии. По<br />
энергоемкости ВВП мы отстаем от США<br />
вдвое, а от Европы и ОЭСР — примерно<br />
втрое 4 . Множество стран стимулируют 5<br />
снижение потребления топлива в самом<br />
энергозатратном сегменте экономики —<br />
транспорте. Они дифференцируют налог<br />
на покупку автомобиля в зависимости от<br />
его уровня выбросов; дифференцируют<br />
ежегодный транспортный налог в зависимости<br />
от класса энергопотребления автомобиля;<br />
субсидируют приобретение автомобилей<br />
с низкими выбросами и потреблением<br />
топлива; вводят «экологический акциз»,<br />
или налог на выбросы CO 2 , еще сильнее<br />
повышающий цену бензина. Все подобные<br />
меры должны привести к повышению энергоэффективности<br />
и приостановке роста<br />
энергопотребления. За 2001—2011 годы<br />
потребление первичной энергии в пересчете<br />
на нефтяной эквивалент в Европе снизилось<br />
на 3,7 проц., а в ОЭСР выросло всего<br />
на 2,2 процента 6 . Фактически весь рост<br />
мирового энергопотребления приходится<br />
на развивающиеся страны, в основном на<br />
Китай (55 проц. прироста мирового энергопотребления<br />
за последние 11 лет).<br />
• Рост альтернативной энергетики. За<br />
последние 11 лет мировая добыча энергии<br />
из возобновляемых источников (ветер,<br />
солнце, биомасса и т.д.) выросла в 3,6<br />
раза, что пока обеспечивает всего 1,6<br />
проц. мирового потребления энергии<br />
(расчеты по данным BP), но темп роста<br />
ускоряется. В расчете на постепенное удешевление<br />
«экологической» энергии, полу-<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 89
Борис Грозовский<br />
ченной из альтернативных источников,<br />
развитые страны поддерживают ее производителей<br />
значительными субсидиями.<br />
Дороговизна нефти и газа побуждает<br />
потребителей экономить и искать другие<br />
источники энергии, а производителей —<br />
наращивать добычу и диверсифицировать<br />
ее по видам энергии. Суммарно эти факторы<br />
ведут к тому, что в среднесрочной перспективе<br />
(2020—2030-е годы) нефть и газ будут дешеветь.<br />
Правда, против этого работают три<br />
фактора. Во-первых, потребление топлива<br />
еще долго будет расти в развивающихся стра-<br />
нах. Во-вторых, добыча энергии из новых<br />
источников (шельф, глубоководные пески и<br />
т. д.) весьма дорога. В-третьих, перспективы<br />
сланцевого газа не до конца ясны из-за экологических<br />
рисков (заражение воды), сопутствующих<br />
его добыче 7 . Все это означает, что<br />
сверхсильного удешевления нефти и газа<br />
ожидать не стоит.<br />
Ситуация с газом для России хуже, чем<br />
с нефтью. Перспективы «отбить» крупные<br />
долгосрочные инвестиции «Газпрома» в<br />
трубопроводный транспорт становятся все<br />
более туманными по мере ослабления зависимости<br />
потребителей газа от его производителей.<br />
Это происходит благодаря добыче<br />
газа из сланцев (она может производиться<br />
близко к местам потребления) и сжиженному<br />
природному газу (СПГ). Дорогостоящие<br />
инвестиции в трубопроводный транспорт,<br />
на долгие годы привязывающие потребителя<br />
газа к производителю, становятся ненужными:<br />
через несколько лет добывающие<br />
компании, скажем, из Норвегии, Катара и<br />
России будут конкурировать за одни и те же<br />
рынки. Итак, первый из двух факторов, опре-<br />
90 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
деляющих развитие российской экономики,<br />
неблагоприятен. Было бы безрассудно ожидать<br />
чего-то подобного скачку цены нефти в<br />
5 раз за десятилетие (с 17—22 дол. за баррель<br />
в начале 2000-х годов до нынешних 100—110<br />
дол.). По вполне здравому прогнозу Citi, уже к<br />
2020 году нефть и газ подешевеют примерно<br />
на 15 проц., опустившись в диапазон 65—90<br />
долларов.<br />
К такому сценарию Россия сейчас готова<br />
менее, чем когда-либо. За 2005—2012 годы<br />
цена нефти, при которой российский бюджет<br />
сводится без дефицита, выросла с 20<br />
“Финансовые потрясения в Европе и США мгновенно<br />
лишают наши крупнейшие корпорации финансовой<br />
устойчивости из-за высокой закредитованности”.<br />
до 117 долларов. Это максимальный среди<br />
крупнейших экспортеров нефти уровень<br />
(не считая Нигерии). Странам Ближнего<br />
Востока достаточно 60—80 дол., и значит,<br />
на картельную поддержку странами ОПЕК<br />
уровня нефтяных цен в 100—110 дол. рассчитывать<br />
не приходится. Россия гораздо<br />
более других стран уязвима в отношении<br />
кризисов. И не только нефтяных: финансовые<br />
потрясения в Европе и США мгновенно<br />
лишают наши крупнейшие корпорации<br />
финансовой устойчивости из-за высокой<br />
закредитованности.<br />
Российская политика 2000-х годов фактически<br />
была основана на «покупке» властью<br />
различных социальных и элитных групп.<br />
Политические лидеры привыкли, что недовольство<br />
любых социально-экономических<br />
групп можно «купировать», предоставляя им<br />
материальные блага. По этой логике были<br />
проведены валоризация (резкое повышение)<br />
пенсий в 2010 году, предоставление жилья<br />
военным, существенное увеличение оплаты<br />
труда бюджетников, госслужащих, силовиков,<br />
судей. Начиная с середины 2000-х годов у
власти хватало денег на все: социальную политику,<br />
помощь промышленности, увеличение<br />
ассигнований на безопасность и правоохранительную<br />
деятельность. Окончание цикла высоких<br />
нефтяных цен лишит российских политиков<br />
такой возможности. Власти придется<br />
изыскивать другие способы удовлетворения<br />
потребностей социально-профессиональных<br />
групп — либо предоставить им большие свободы,<br />
либо умерить собственные рентные аппетиты<br />
и за счет этого повысить объем средств,<br />
доступных для перераспределения.<br />
Размышлению об институциональных<br />
ловушках — втором факторе, определяющем<br />
перспективы российского экономического<br />
роста, — посвящена остальная часть статьи.<br />
Воссоединение с мировой экономикой<br />
Подорожавшие нефть, газ и металлы плюс<br />
эффект переходного и посткризисного роста<br />
(по мере приспособления населения и предприятий<br />
к рынку) обеспечили в 2000-е годы<br />
впечатляющие темпы роста (см. таблицу 1 на<br />
с. 91). ВВП, инвестиции и доходы населения<br />
выросли в долларовом выражении в 4—5 раз<br />
(для сравнения взят предкризисный 1997 год,<br />
до девальвации рубля).<br />
Приведенные в таблице цифры отражают<br />
не только количественный рост. Изменилось<br />
качество жизни, навыки и привычки людей,<br />
потребительские рынки.<br />
Таблица 1<br />
Государственное вмешательство: институциональная ловушка<br />
ВВП, ИНВЕСТИЦИИ И ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ В 1997 И 2011 ГОДЫ<br />
Возьмем для примера автомобильный<br />
рынок. В 1994—2002 годах в страну в среднем<br />
импортировалось 115 тыс. легковых автомобилей<br />
в год. Тратилось на это в среднем 0,915<br />
млрд долларов. В 2005—2011 годах импорт<br />
вырос на порядок — до 1,101 млн штук в<br />
среднем ежегодно. А в денежном выражении<br />
рынок вырос в 16 раз, до 14,6 млрд долларов<br />
в год. (В эту статистику не входят иномарки<br />
российской сборки, объемы которой значительно<br />
возросли.) Доля «отечественных<br />
иномарок» превысила 60 проц. в структуре<br />
производства легковых автомобилей. А парк<br />
легковых автомобилей в расчете на 1 000 чел.<br />
достиг 250 (оценка Ernst & Young 8 ). Это почти<br />
равно аналогичным показателям Южной<br />
Кореи. Еще в 2000 году в стране было всего<br />
130 автомобилей на 1 000 чел., а в 1990-м —<br />
58,5. Страна, где автомобиль есть у каждого<br />
четвертого (практически один на семью),<br />
имеет мало общего со страной, где свое авто<br />
было у одного человека из семнадцати.<br />
Четырехкратный рост автомобилизации<br />
населения за 20 лет — это не просто цифра.<br />
Это качественный скачок в мобильности и<br />
новый облик городов: нагрузка, с которой не<br />
справляется дорожная инфраструктура, спроектированная<br />
из расчета 5,5 автомобиля на<br />
1 000 чел. (показатель 1970 года).<br />
Точно так же изменились и остальные<br />
рынки. Житель Москвы или Петербурга,<br />
1997 г. 2011 г. рост, раз<br />
ВВП, млрд дол. 393 1 844,1 4,7<br />
инвестиции в основной капитал, млрд дол. 68,6 364,1 5,3<br />
экспорт, млрд дол. 86,9 522 6<br />
импорт, млрд дол. 72 323,8 4,5<br />
прямые иностранные инвестиции, млрд дол. 2,6 52,9 20,3<br />
среднедушевые доходы населения, дол. в месяц 157,8 699,3 4,4<br />
Источник: Росстат; Центробанк.<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 91
Борис Грозовский<br />
Таблица 2<br />
АРХАИЧНЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ЧЕРТЫ В РАЗНЫХ СЕКТОРАХ ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ<br />
92 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
Современность Архаика<br />
Открытость экономики — свобода экспортно-импортных<br />
сделок.<br />
Открытость экономики — свобода трансграничных операций<br />
с капиталом. Макроэкономическая, бюджетная и<br />
денежная политика строятся на тех же принципах, что и в<br />
большинстве стран мира.<br />
Формальное отсутствие конкурентных барьеров на вход в<br />
большинство отраслей экономики.<br />
Потребительские рынки в крупных городах фактически<br />
достигли конвергенции с иностранными. Несмотря на тарифные<br />
и нетарифные барьеры в потребительском секторе — от<br />
автомобилей до йогуртов — рынки фактически едины.<br />
Жители крупных городов, особенно 20—45 лет, много<br />
путешествуют, потребляют современные услуги (читают<br />
электронные книги, проводят много времени онлайн и<br />
т.д). Давно перестала быть «экзотикой» хорошая интернетсвязь,<br />
несколько компьютеров в одной семье, объединенные<br />
в домашнюю сеть, и т.д.<br />
Во многих крупных и средних компаниях менеджмент,<br />
финотчетность, управление проектами, стимулы для менеджмента<br />
и компенсационные пакеты для рядовых сотрудников<br />
выстроены по западному образцу. Культура ведения<br />
бизнеса, контрактные отношения постепенно приближаются<br />
к международным стандартам.<br />
Оппозиционное движение ищет новые форматы политического<br />
участия — например, электронное голосование,<br />
выяснение по интернету позиции граждан по спорным<br />
вопросам и т. д.<br />
В противовес 1990-м годам, когда большинство людей были<br />
заняты «выживанием», с середины 2000-х у многих появились<br />
возможность и желание участвовать в добровольчестве,<br />
волонтерских проектах, различных гражданских<br />
начинаниях. Это экологические проекты, помощь детям,<br />
старикам и больным, улучшение городской среды и т. д. До<br />
середины 2000-х работа во всех этих сферах фактически<br />
была прерогативой государства, теперь же она начинает<br />
становиться и общественной заботой.<br />
Экономика<br />
Потребление, стиль жизни<br />
Менеджмент: бизнес и госслужба<br />
Политика<br />
Социальные отношения и ценности<br />
Значительная часть экономики монополизирована.<br />
Значительная часть экономики находится в руках бизнесменов,<br />
дружественных политическим лидерам государства.<br />
Доступ в отрасли, связанные с извлечением ренты, существенно<br />
ограничен. Распределение госзаказа в большинстве<br />
отраслей производится «среди своих».<br />
Менеджмент в госорганах и бюджетных организациях<br />
откровенно архаичен. Он ориентирован не на достижение<br />
результата, а на выполнение указаний вышестоящего<br />
начальства. Электронный оборот до сих пор не заменил<br />
бумажный. Получение любого документа требует больших<br />
временных затрат.<br />
Правящая элита манипулирует результатами выборов.<br />
Правящая партия («Единая Россия») апеллирует к наиболее<br />
примитивным интересам и эмоциям электората: иждивенчество,<br />
готовность подчиниться сильному лидеру, образ<br />
внешнего врага и т.д.<br />
В СССР целенаправленно формировалось «коллективистское»<br />
сознание. Когда эти ценности обанкротились, многие<br />
ударились в противоположную крайность. Сейчас для<br />
большинства россиян характерны большая в сравнении с<br />
европейцами приверженность ценностям индивидуализма,<br />
личного успеха и т. д., и в то же время — равнодушие к<br />
социальным, экологическим и другим общим проблемам.<br />
Превалирование ценностей достижения, благосостояния<br />
и личного успеха могло бы обеспечить предпринимательский<br />
бум, если бы не слабая готовность к риску и крайне<br />
неблагоприятный для развития предпринимательства<br />
климат. Сильная индивидуалистическая ориентация и пренебрежение<br />
к общему благу являются архаикой на фоне<br />
системы ценностей, характерной для современных европейских<br />
обществ.
Таблица 2 (продолжение)<br />
проживший в Германии в 2004—2011 годах<br />
и вернувшийся на родину, не узнает продовольственную<br />
розницу: на прилавках множество<br />
знакомых по Европе товаров, которые<br />
в 1990-х годах до столичных торговых сетей<br />
не добирались. Да и сами сети были совсем<br />
не те. Рынки стали едиными, несмотря на<br />
пошлины, защитные меры и деятельность<br />
главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко<br />
(во время обострения политических разногласий<br />
с Грузией он закрывает доступ на<br />
российский рынок грузинским винам и минеральной<br />
воде, во время споров с Украиной<br />
находит вредные вещества в украинской<br />
молочной продукции, а в ответ на принятие<br />
«списка Магнитского» запрещает ввоз говядины<br />
из США). Жители российских городов<br />
едят и одеваются почти так же, как жители<br />
европейских стран, ездят на тех же авто,<br />
потребляют те же услуги. Все эти изменения<br />
были бы невозможны без 4—5-кратного<br />
(в долларах) роста подушевых доходов.<br />
Похожие изменения затронули и сферу<br />
бизнеса — корпоративное управление. В 1990-е<br />
Государственное вмешательство: институциональная ловушка<br />
АРХАИЧНЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ЧЕРТЫ В РАЗНЫХ СЕКТОРАХ ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ<br />
Современность Архаика<br />
Госуправление, бюджетный сектор<br />
Госчиновники воспринимают свою работу как возможность<br />
извлечения ренты из контролируемого ими сектора экономики,<br />
а не как сервис в интересах общества. Они неподотчетны<br />
обществу, успех и продвижение по службе зависят<br />
сугубо от отношений с вышестоящим начальством.<br />
Суды и правоохранительная система не выполняют своих<br />
базовых функций. Они обслуживают правящую элиту. Связь<br />
между преступлением и наказанием разорвана: наказание<br />
зависит не от тяжести преступления, а от социального положения<br />
преступника.<br />
Сохраняется архаичная всеобщая воинская повинность,<br />
«островки» профессиональной армии не покрывают<br />
потребностей генералов в живой силе. Между тем отправлять<br />
детей в армию сейчас так же страшно, как и 15—20 лет<br />
назад.<br />
годы работа в иностранной компании качественно<br />
отличалась от работы в российской<br />
фирме. В первой — система, четкое разделение<br />
функций и полномочий, проектное мышление.<br />
Нанимавшихся на работу в иностранные<br />
компании россиян удивляла эта четкость<br />
и системность, к которой не каждый мог приспособиться.<br />
В молодых российских фирмах<br />
работника ждало совсем другое: творческий<br />
подъем, управленческая и финансовая неразбериха,<br />
«все занимаются всем». А на старых<br />
предприятиях — апатия и ничегонеделание.<br />
Сейчас ситуация постепенно унифицировалась.<br />
Менеджеры российских и «западных»<br />
фирм говорят на одном языке, пользуются<br />
одними и теми же управленческими техниками,<br />
формируют одинаковую корпоративную<br />
отчетность, раскрывают одну и ту же информацию,<br />
используют похожие технологии<br />
производства и контроля качества, одни и те<br />
же методы повышения эффективности и стоимости<br />
бизнеса и т. д.<br />
Деловая среда, культура ведения бизнеса<br />
постепенно приближаются к международ-<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 93
Борис Грозовский<br />
ным стандартам 9 . В плане концентрации<br />
корпоративного капитала российская модель<br />
тоже сближается с системами большинства<br />
стран 10 . Акционеры все реже непосредственно<br />
участвуют в управлении предприятиями.<br />
Это создает стимулы для использования<br />
стандартных корпоративных процедур при<br />
контроле за деятельностью наемного менеджмента.<br />
Порядка 15—20 проц. предприятий<br />
характеризуются весьма высоким качеством<br />
управленческого персонала, используют весь<br />
спектр современных управленческих, маркетинговых<br />
и финансовых технологий. Далеко<br />
в прошлое ушли «дикие» корпоративные<br />
войны конца 1990-х, как и бандитские сходки<br />
середины 1990-х, на которых могла решаться<br />
судьба крупного завода.<br />
Говоря словами Владимира Потанина 11 ,<br />
до кризиса 2008 года главной экономической<br />
идеей в России был «проект возвращения в<br />
высшую лигу» экономики после выпадения из<br />
нее в 1990-х годах. Вернуться удалось, свидетельств<br />
чему масса — от снижения бедности и<br />
современного стиля потребления в городах<br />
до «облагораживания» корпоративной культуры.<br />
В 2000-х годах Россия сделала то, о чем<br />
мечтала в 1980-х: вернулась в глобальную экономику,<br />
заново интегрировалась с внешним<br />
миром после 70—80 лет своего отсутствия.<br />
Это, как отмечал Дэниел Трейсман 12 , проявляется<br />
и в увеличении числа российских<br />
студентов, обучающихся за рубежом, а также<br />
россиян, выезжающих в страны «дальнего<br />
зарубежья», и в росте количества международных<br />
телефонных звонков, и в покупке<br />
недорогой недвижимости за границей.<br />
Россия стала превращаться в «нормальную<br />
страну» 13 .<br />
Современный стиль корпоративного<br />
управления, потребления, образ жизни подчиняет<br />
себе все большее число жителей крупных<br />
городов, образующих «модернизированную<br />
Россию», которая постепенно входит во<br />
все более явное противоречие с архаичным<br />
94 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
стилем управления страной. Сегодняшние<br />
горожане не приемлют кастовой социальной<br />
структуры, когда права человека и даже наказание,<br />
которое он понесет за уголовное преступление,<br />
определяются социально-профессиональными<br />
и родственными связями. Они<br />
больше не готовы существовать в удушливой<br />
атмосфере вранья, патернализма, ограничения<br />
гражданских свобод, общественного бесправия.<br />
Стиль жизни, принятый современным<br />
обществом, требует новых отношений с<br />
государством.<br />
Но наряду с «нормальными» чертами в<br />
современной России присутствует масса архаичных.<br />
В таблице 2 на с. 92—93 дается свод<br />
архаичных и современных черт в разных секторах<br />
экономики и общественной жизни.<br />
Государственные вериги<br />
В высшей лиге мировой экономики — и только<br />
с этой оговоркой можно согласиться с<br />
потанинской метафорой — играют отнюдь<br />
не только чемпионы. Там есть и середнячки,<br />
и заведомые аутсайдеры, которым грозит<br />
вылет в лигу рангом ниже. Вернувшись в высшую<br />
лигу, мы пока твердо в ней не закрепились<br />
и балансируем где-то во второй половине<br />
турнирной таблицы. Сильнее всего тянет<br />
вниз сектор госуправления. Если горожане уже<br />
живут в XXI веке, то некоторые элементы<br />
государства — например, полиция — недалеко<br />
ушли от средневековых обычаев. Достаточно<br />
упомянуть о систематических пытках в полиции<br />
и тысячах людей, сидящих в тюрьме по<br />
навету конкурента.<br />
Средневековые нравы плохо совместимы<br />
с современными технологическими решениями<br />
в госсекторе. Например, американская<br />
практика всемерной защиты и денежного<br />
поощрения доносчиков, сообщивших<br />
о фактах коррупции в госорганах или<br />
неправомерном расходовании бюджетных<br />
средств, плохо сопрягается с ситуацией,<br />
когда государство находится вне закона,
следственные органы фабрикуют дела, не<br />
утруждая себя доказательствами, а суды<br />
принимают решения, продиктованные им<br />
в органах исполнительной власти. В итоге<br />
один из важных и нужных для борьбы с коррупцией<br />
инструментов, который позволяет<br />
госчиновникам сообщать о фактах коррупции<br />
в своих ведомствах, у нас применяться<br />
не может.<br />
Не только сектор госуправления —<br />
муниципальный и бюджетный сектора,<br />
госпредприятия, госмонополии и их много-<br />
численные осколки стоят особняком и в<br />
реинтеграции России в глобальную экономику<br />
не участвуют. Они живут в своем<br />
времени и даже разговаривают на своем<br />
языке. За последние 20 лет язык нормативных<br />
актов непоправимо ухудшился: законы<br />
и постановления написаны сложным бюрократическим<br />
новоязом, прочитать который<br />
нормальный человек не в состоянии. До<br />
госуправления и бюджетного сектора (образование,<br />
здравоохранение, социальные услуги)<br />
процесс конвергенции управленческой<br />
и деловой культуры России и мира еще не<br />
добрался. Не считать же достаточным условием<br />
вхождения в современную управленческую<br />
культуру использование чиновниками<br />
планшетов и социальных сетей! Хотя бывшие<br />
кремлевские идеологи примерно так и<br />
думают. «Модернизация важнее партий или<br />
выборов, поскольку без высоких технологий<br />
нельзя повысить производительность<br />
труда», — говорил недавно вице-премьер<br />
Владислав Сурков. А замсекретаря генсовета<br />
«Единой России» Алексей Чеснаков уверен,<br />
что «демократия сегодня — это наличие<br />
iPad и коммуникатора» 14 .<br />
Государственное вмешательство: институциональная ловушка<br />
Госсектор очень велик. К июлю 2012 года<br />
на гражданской (федеральной и региональной)<br />
и муниципальной службе работали<br />
почти 1,1 млн человек. Вместе с обслуживающим<br />
персоналом число занятых в государственных<br />
и муниципальных органах<br />
власти достигает, по данным Росстата, 1,65<br />
млн человек. За 2000-е годы число занятых<br />
в федеральных и региональных госорганах<br />
выросло в 1,7 раза, а число чиновников на<br />
тысячу россиян с 1994 года увеличилось с 15<br />
до 25. Всего же в бюджетных учреждениях,<br />
“В 2000-х годах Россия сделала то, о чем мечтала<br />
в 1980-х: заново интегрировалась с внешним миром<br />
после 70—80 лет своего отсутствия”.<br />
по данным Росстата, заняты 14,7 млн человек.<br />
Это 22 проц. от числа занятых в экономике.<br />
Неоднократные, но вялые попытки<br />
Владимира Путина и Дмитрия Медведева<br />
сократить госаппарат к успеху не привели 15 .<br />
К бюджетному сектору можно добавить<br />
формально переставшие быть госпредприятиями<br />
монополии и их многочисленные<br />
осколки, рентная мотивация которых не<br />
изменилась. К примеру, в ходе реструктуризации<br />
Министерства путей сообщения (МПС),<br />
а потом «Российских железных дорог»<br />
(РЖД) работающий на железнодорожных<br />
станциях персонал был переведен в региональные<br />
пассажирские компании (ОАО). А<br />
контролеры билетов формально являются<br />
сотрудниками небольших ООО. Но организация<br />
труда, мотивация и трудовая культура<br />
этих людей не изменились со времени, когда<br />
они работали в системе МПС. То же самое<br />
касается фирм, основной деятельностью<br />
которых является обслуживание интересов<br />
государственного и бюджетного секторов.<br />
В итоге доля явно или косвенно обслуживающих<br />
государство работников составляет не<br />
меньше 35—40 проц. от числа всех занятых в<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 95
Борис Грозовский<br />
экономике. Эта условная оценка показывает<br />
«ядерную» долю электората (в ее состав входят<br />
и пенсионеры), которой выгодно существующее<br />
положение дел в стране, и размеры<br />
немодернизированного госсектора.<br />
Госсектор по-прежнему не воспринимает<br />
себя в качестве сервисного. Полтора<br />
десятка лет реформ в сфере госуправления<br />
не привели к значимому улучшению ситуации<br />
для граждан и бизнеса; эти реформы<br />
остались для них практически незаметными.<br />
Госаппарат и весь бюджетный сектор<br />
по-прежнему работают не «на клиента», а<br />
на самих себя. В рамках бюрократической<br />
вертикали они заняты доказыванием собственной<br />
полезности — составлением бессмысленных<br />
отчетов, ответами на запросы,<br />
организацией мероприятий и выполнением<br />
поручений. А во взаимодействии с внешним<br />
миром — бизнесом и гражданами — госсектор<br />
остается в парадигме рентного поведения.<br />
Он занят строительством административных<br />
барьеров — навязыванием обществу<br />
ненужных госуслуг — и извлечением из них<br />
прибыли там, где это только возможно. Свою<br />
работу госслужащий воспринимает как возможность<br />
применения насилия по отношению к регулируемому<br />
сектору с целью извлечения прибыли.<br />
Крайне низкое качество госуправления 16<br />
ухудшает деловую среду, инвестиционный и<br />
предпринимательский климат, препятствует<br />
реформам в социальной сфере.<br />
Эффективность работы чиновников<br />
отлично демонстрирует следующий пример<br />
17 . В глубокой российской провинции<br />
детей в школу возил автобус (путь составлял<br />
6 км). Когда школьников стало больше и они<br />
перестали помещаться в автобус, местная<br />
96 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
администрация решила, что школьники старше<br />
десяти лет будут ходить в школу пешком.<br />
В любую погоду, по грязи, по трассе с грузовыми<br />
фурами. На то, чтобы запустить второй<br />
рейс автобуса, у муниципалитета нет средств.<br />
Хотя это пятиминутный маршрут. Изложив<br />
всю эту ситуацию, телеканал спрашивает у<br />
местного чиновника, что же будет дальше.<br />
Тот отвечает бюрократически: «Создадим<br />
соответствующую комиссию, поставим на<br />
контроль, попытаемся установить степень<br />
занятости транспорта и [внимание!] правомерность<br />
невозможности отвоза». Очевидно,<br />
“Свою работу госслужащий воспринимает как<br />
возможность применения насилия по отношению<br />
к регулируемому сектору с целью извлечения прибыли”.<br />
что улучшить работу так настроенного чиновника<br />
не смогут ни сложная система показателей,<br />
при помощи которой федеральные<br />
власти оценивают работу региональных, ни<br />
общественные советы, ни ужесточение административного<br />
контроля. Ответом на любое<br />
давление будет «формирование комиссии<br />
по рассмотрению правомерности невозможности<br />
отвоза». Конечно, вопрос, связанный с<br />
возможностью получения доходов или откатов<br />
(продажа или сдача в аренду земельного<br />
участка под строительство магазина), был бы<br />
решен более энергично и результативно.<br />
У исполнительной власти взгляд на ситуацию<br />
совсем иной. О тех же чиновниках вицепремьер<br />
Сурков рассуждает так 18 : «Можно<br />
что угодно говорить: коррупция, взятки.<br />
Но это оскорбляет целый класс очень умных,<br />
высокого качества людей Надо прекратить<br />
этот постоянный террор со стороны<br />
праздных болтунов, присвоивших себе право<br />
говорить от имени общества У меня<br />
должны быть прозрачные стены в кабинете?<br />
Я должен на каждую бумажку спрашивать<br />
мнение общественности? Никто так не смо-
жет работать никогда Надо повышать<br />
зарплату госаппарату, мы будем это делать<br />
обязательно». Государство не идентифицирует<br />
проблему отрыва исполнительной власти<br />
от реальности и не собирается ее решать.<br />
Обратная сторона ориентации госсектора<br />
на извлечение ренты, а не предоставление<br />
услуг — неравенство населения страны в базовых<br />
правах. С вероятностью почти 100 проц.<br />
госчиновник, совершивший то же преступление,<br />
что и обычный гражданин (например,<br />
дорожно-транспортное происшествие, повлекшее<br />
жертвы), получит значительно более<br />
мягкое наказание. Сохраняется и возмущающий<br />
горожан обычай передвижения крупных<br />
чиновников по городу на автомобилях с мигалками<br />
и бесцеремонное поведение их охраны.<br />
Спрос на справедливость, равные права и<br />
возможности одна из основных движущих сил<br />
оформившегося в 2011—12 годах протестного<br />
движения, охватывающего крупные города.<br />
Важное политическое следствие этой<br />
ситуации — очень сильный запрос на справедливость<br />
и честность в общественной жизни<br />
и политике, на выравнивание базовых прав<br />
народа и элитных групп. С высокой вероятностью<br />
следующий политический цикл<br />
в России («после Путина») будет отвечать<br />
именно этой потребности. Это ухудшает<br />
политические перспективы правых политических<br />
сил, которые исторически воспринимаются<br />
как выразители интересов правящего<br />
класса. На свободных выборах левые могут<br />
получить серьезное представительство в парламенте.<br />
Но, скорее всего, это будут современные<br />
левые, владеющие медийными техниками<br />
вовлечения широких масс в управление<br />
государством и отдельными городами. Запрос<br />
на открытость госуправления и вовлечение<br />
общественности власть в какой-то мере<br />
почувствовала («открытое правительство»<br />
Михаила Абызова), но в рамках нынешней<br />
политической системы он может быть реализован<br />
лишь в крайне ограниченной форме.<br />
Государственное вмешательство: институциональная ловушка<br />
Государство в экономике: центр затрат<br />
У любой коммерческой организации есть<br />
подразделения, непосредственно приносящие<br />
прибыль, и подразделения, обеспечивающие<br />
их деятельность. Взятые отдельно от<br />
фирмы в целом, они убыточны, но функционирование<br />
компании без них невозможно.<br />
Государственные компании, занимающие<br />
значительный сегмент российской экономики,<br />
похожи на такие «центры затрат», даже<br />
если формально они прибыльны, как РЖД,<br />
«Газпром» или «Транснефть».<br />
В случае госкомпаний не работает обычная<br />
мотивация акционеров и менеджеров,<br />
связанная с повышением стоимости бизнеса<br />
и ростом дивидендных выплат акционерам.<br />
Госчиновники, работающие в советах директоров<br />
таких компаний, и государство в целом<br />
не проявляют особой заинтересованности в<br />
росте доходов от компании. Примеры тому —<br />
«народная приватизация» ВТБ и «Роснефти»<br />
(2007 год), деньги от которой были направлены<br />
не в доход федерального бюджета, а на развитие<br />
самих компаний. По сути, это подарок —<br />
и даже не акционерам этих компаний (в их<br />
числе остается государство), а менеджменту.<br />
Менеджеры госкомпаний не заинтересованы<br />
напрямую в росте акционерной стоимости<br />
и выплате управляемой ими компанией<br />
дивидендов. Полученный благодаря их работе<br />
дополнительный доход будет централизован<br />
в бюджете и лишь очень опосредованно<br />
скажется на оценке результатов деятельности<br />
конкретного чиновника, директора школы<br />
или больницы. Получать дополнительные<br />
доходы для себя лично они могут, наоборот,<br />
занижая официальную выручку своих учреждений,<br />
давая «скидку» контрагентам и кладя<br />
в карман часть разницы между, например,<br />
рыночной и льготной ценой аренды помещения,<br />
которым распоряжается бюджетное<br />
учреждение.<br />
Основной доход чиновникам и сотрудникам<br />
госкомпаний приносят расходы их струк-<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 97
Борис Грозовский<br />
лую шутку с «Газпромом»<br />
Зсыграла затратная мотивация.<br />
Много лет корпорация<br />
делала ставку на долгосрочные<br />
контракты, привязывающие<br />
потребителя к поставщику газа.<br />
В итоге главная российская компания<br />
пропустила и сланцевый<br />
бум, и развитие рынка сжиженного<br />
природного газа. Из-за<br />
массированных инвестиций<br />
спотовая цена газа в Европе,<br />
по оценке газового аналитика<br />
Михаила Корчемкина, на 28,5<br />
проц. ниже уровня, который<br />
необходим «Газпрому» для<br />
окупаемости его колоссальных<br />
инвестиций, а спотовая цена<br />
газа США уже ниже этого уровня<br />
в 4 раза 19 .<br />
Неудивительно, что потребители<br />
пытаются отказаться<br />
от закупок у «Газпрома» и<br />
уговорить его снизить цену.<br />
Уже в будущем году Норвегия<br />
может обогнать «Газпром» на<br />
его основном европейском<br />
рынке — в Германии. Это<br />
результат негибкой ценовой<br />
политики, которая, в свою<br />
очередь, мотивирована избыточными<br />
инвестициями в трубопроводный<br />
транспорт, в том<br />
числе политическими («наказать»<br />
Украину). «Газпром» слишком<br />
поздно понял, что, несмотря<br />
на его позицию основного<br />
газового поставщика Европы,<br />
цены на рынке газа вскоре не<br />
будут долгосрочными и не будут<br />
привязаны к цене нефти.<br />
тур. Завышение госорганами и бюджетными<br />
учреждениями закупочных цен на товары<br />
и услуги, их поставка через дружественные<br />
фирмы, неофициальное распределение прибыли<br />
от сделки между исполнителем и заказчиком<br />
— не исключение, а правило российских<br />
госзакупок. Антимонопольная служба<br />
98 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
«Газпром»: история неудачи<br />
Проигрышную ставку на<br />
долгосрочные контракты,<br />
базирующиеся на традиционных<br />
поставках газа по трубам,<br />
менеджеры госкорпорации<br />
делали не случайно, а основываясь<br />
на личном интересе. Ведь<br />
строительство трубопроводов<br />
— это только для «Газпрома» и<br />
для государства расходы (из-за<br />
большой инвестиционной программы<br />
«Газпрома» газ в России<br />
облагается налогами значительно<br />
ниже нефти). Для менеджеров<br />
же «Газпрома», его подрядчиков<br />
(как для чиновников,<br />
ведающих госзаказом), расходы<br />
компании — способ заработать.<br />
Они торопятся «освоить» инвестиции.<br />
Это привело к ошибочным<br />
управленческим решениям<br />
по строительству новых трубопроводов.<br />
В результате экспортные<br />
мощности «Газпрома»<br />
превосходят его реальные<br />
потребности на 100 млрд куб. м<br />
в год. Учитывая недавно обнародованные<br />
планы по развитию<br />
транзита через Белоруссию<br />
и строительству новых ниток<br />
газопровода Nord Stream, даже<br />
если «Газпром» вообще ничего<br />
не будет прокачивать через<br />
Украину, ему нечем будет заполнить<br />
имеющиеся и строящиеся<br />
трубопроводные мощности.<br />
Ошибочное решение строить<br />
South Stream выведет необходимые<br />
«Газпрому» цены на<br />
уровень, когда компания уже<br />
не сможет конкурировать с дру-<br />
гими поставщиками. При этом<br />
даже в Словении стоимость 1 км<br />
газопровода у «Газпрома» на 77<br />
проц. выше, чем аналогичная<br />
ветка в соседней Германии.<br />
Критическим рубежом для<br />
газовой монополии может<br />
стать конец 2010-х годов. К<br />
этому времени США и Канада<br />
могут начать экспортировать<br />
сжиженный газ, в том числе в<br />
Европу. А из Азии «Газпром»<br />
может быть вытеснен дешевым<br />
нетрадиционным австралийским<br />
газом, который пойдет<br />
на экспорт в те же годы.<br />
Неопределенность ситуации<br />
с будущей ценой газа уже<br />
заставила «Газпром» отложить<br />
разработку Штокмановского<br />
месторождения. Внутри<br />
страны «Газпром» сталкивается<br />
с ожесточенной конкуренцией<br />
со стороны двух<br />
компаний — «Роснефти» и<br />
«Новатэка». Первую возглавляет<br />
многолетний заместитель<br />
Путина Игорь Сечин, второй<br />
владеет друг Путина Геннадий<br />
Тимченко. Ради «Новатэка»<br />
уже разрушена многолетняя<br />
монополия «Газпрома» на<br />
экспорт газа из России. Кроме<br />
того, «Новатэк» получил более<br />
благоприятные налоговые<br />
условия для освоения новых<br />
месторождений в сравнении<br />
с «Газпромом». «Роснефти»<br />
могут отойти несколько участков<br />
на шельфе, которые хотел<br />
бы получить «Газпром».<br />
добилась публикации большинства контрактов<br />
госорганов на сайте госзакупок. Этот шаг<br />
сделал практику госзакупок прозрачной, но<br />
не привел к прекращению злоупотреблений.<br />
Причин несколько. Во-первых, отсутствуют<br />
репутационные ограничения (чиновник,<br />
потративший несколько миллионов долла-
ров на бессмысленную госзакупку, не будет<br />
со скандалом уволен, ему не будет отказано<br />
от госслужбы, часто он даже не получит<br />
административного взыскания). Во-вторых,<br />
применение закона имеет политический<br />
характер: дела расследуются, если это нужно<br />
в политических целях. Если же расследование<br />
«политически вредно», как в случае со<br />
взятками при закупке автомобилей Mercedes<br />
для чиновников МВД, Минобороны, в<br />
Гараж особого назначения (подразделение<br />
Федеральной службы охраны) и т. д., то даже<br />
признание взяткодателя (Daimler AG), назвавшего<br />
суммы и получателей взяток, не может<br />
помочь следствию. Оно просто тормозит<br />
дело. В такой правовой среде ни борьба с<br />
коррупцией, ни наведение порядка в области<br />
госзакупок невозможны. Менеджеры<br />
госкомпаний зарабатывают точно так же,<br />
как госчиновники: на расходах. Их мотивация<br />
существенно отличается от мотивации<br />
руководства частных фирм, но очень похожа<br />
на мотивацию сотрудников госорганов и<br />
бюджетных структур.<br />
Госкомпании — сектор, фактически изолированный<br />
от рынка. Их менеджеры могут<br />
управлять компанией, не сталкиваясь с<br />
риском банкротства. В случае ухудшения<br />
ситуации в экономике госкомпании и госбанки<br />
первыми получают кредиты за счет<br />
бюджетных средств, всевозможные госгарантии<br />
и льготы. Рыночные стимулы доходят<br />
до руководства госкомпаний с опозданием,<br />
и госсектор получает ложные сигналы, приводящие<br />
к избыточным капиталовложениям.<br />
Будучи огражден от конкуренции, госсектор<br />
начинает воспроизводить себя и расширяться.<br />
Это существенно повышает политическую<br />
базу поддержки правящего режима,<br />
но лишает экономику перспектив роста.<br />
Госчиновники, работники бюджетных учреждений<br />
и госкомпаний своим благополучием<br />
обязаны политическим лидерам страны. Они<br />
понимают, что почти любое альтернативное<br />
Государственное вмешательство: институциональная ловушка<br />
правительство подвергнет эти сектора жесткой<br />
реформе — сократит привилегии, уволит<br />
избыточный персонал, заставит его более<br />
напряженно работать. Поэтому Путин ускоренно<br />
увеличивает зарплаты в бюджетном<br />
секторе — это повышает лояльность режиму.<br />
Друзья Путина — друзья госкомпаний<br />
Промежуточную, «буферную» зону между<br />
государственным и коммерческим сектором<br />
образуют компании, не принадлежащие<br />
государству, но зарабатывающие в основном<br />
на заказах государства и госкомпаний. Это<br />
фирмы, выполняющие для монополий и<br />
госкорпораций вспомогательную работу:<br />
они поставляют им трубы, строят дороги и<br />
трубопроводы, продают за границу нефть<br />
и т. д. Часть из этих компаний создана «с<br />
нуля», другая — принадлежала, например,<br />
«Газпрому», но впоследствии была продана<br />
бизнесменам, дружески связанным с политическим<br />
руководством страны. По этой же<br />
схеме ряд газпромовских активов выводился<br />
из госкомпании еще при Реме Вяхиреве<br />
в 1990-х. Затем, при Путине, их вернули в<br />
компанию. В 2000-х новое руководство продолжило<br />
вывод вспомогательных активов<br />
быстрее прежнего, только покупателями<br />
стали друзья Путина.<br />
Государство и госкорпорации («Газпром»,<br />
РЖД, «Олимпстрой», «Транснефть» и т. д.)<br />
очень щепетильны в выборе поставщиков<br />
и подрядчиков. Из 5 трлн руб. госзаказов,<br />
контрактов монополий и госкорпораций<br />
за 2008—2011 годы, проанализированных<br />
Forbes 20 , более половины (2,7 трлн) достались<br />
всего десяти предпринимателям (Аркадий<br />
и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко,<br />
Олег Дерипаска, Зиявудин Магомедов, Зияд<br />
Манасир и др.). Это гигантская сумма — в<br />
26 раз больше годовой выручки тридцати<br />
лидеров Рунета и всего в 2,5 раза меньше оборота<br />
двухсот крупнейших частных компаний<br />
России.<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 99
Борис Грозовский<br />
Эти подрядчики активно участвуют во<br />
всех больших государственных стройках<br />
последних лет: в строительстве нефте- и<br />
газопроводов, в подготовке Олимпийских<br />
игр в Сочи и саммита АТЭС во Владивостоке<br />
и т. д. Все проекты основаны на личных<br />
договоренностях представителей бизнеса<br />
и государства. Инфраструктурное строительство<br />
в России очень дорого: так, 1 км<br />
одной полосы трассы <strong>Москва</strong> — Петербург<br />
(ее строит компания, один из акционеров<br />
которой — Аркадий Ротенберг) будет стоить<br />
4,8 млн долларов. Сопоставимые трассы в<br />
Китае, Индии и Швеции обходятся в сумму<br />
в 5—8 раз меньше (0,73—1 млн долларов).<br />
Строительство дороги, как и другие такие<br />
проекты, финансируются в основном государством<br />
и госбанками.<br />
Для частного бизнеса риски таких проектов<br />
запредельны: при смене власти финансирование<br />
таких проектов, скорее всего,<br />
будет мгновенно прекращено. Слишком<br />
«специальный» характер имеет финансирование<br />
каждого из них. Взять, например,<br />
проект по разработке Элегестского месторождения<br />
угля в Туве, который должна была<br />
разрабатывать компания Сергея Пугачёва<br />
«Енисейская промышленная компания»<br />
(ЕПК). Строительство дороги к нему на 40<br />
проц. должно было оплатить государство.<br />
Дорога была спроектирована исходя из интересов<br />
Пугачёва — на вывоз угля с соседних<br />
месторождений ее мощности могло не хватить.<br />
По сути, такой вариант государственночастного<br />
партнерства (ГЧП) — просто способ<br />
получения бюджетных денег и собственности<br />
влиятельным на тот момент (середина 2000-х<br />
годов) бизнесменом. После банкротства при-<br />
100 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
надлежавшего Пугачёву «Межпромбанка»<br />
проект был приостановлен.<br />
Это неудачное ГЧП, а вот пример удачного.<br />
Начатое в СССР строительство Богучанской<br />
ГЭС было на бюджетные деньги завершено на<br />
60 проц., а потом законсервировано. Выручил<br />
«РУСАЛ», достроивший станцию на паритетных<br />
условиях с госкомпанией «РусГидро».<br />
Вложив в итоге порядка 20 проц. необходимых<br />
средств, металлурги получили 49 проц.<br />
акций ГЭС и возможность снабжать дешевой<br />
электроэнергией свой завод. Остальные получат<br />
энергию по «остаточному принципу».<br />
“Госкомпании, монополии, обслуживающие их фирмы<br />
и бюджетный сектор образуют конгломерат организаций,<br />
чьим работникам невыгодна смена политического режима”.<br />
Частные компании, обслуживающие интересы<br />
госкомпаний и монополий, выстроены,<br />
в отличие от последних, как нормальный<br />
бизнес, нацеленный на максимизацию прибыли.<br />
В этом их коренное отличие от госкомпаний,<br />
работники которых зарабатывают, как<br />
и чиновники, на затратах, а не на доходах.<br />
Но все эти компании не могут существовать<br />
вне сети преференций — внеконкурсного получения<br />
крупных контрактов, подрядов «по<br />
дружбе», отсутствия придирок со стороны<br />
чиновников. В другой экономико-политической<br />
ситуации они быстро «рассыплются».<br />
Через образуемые данными компаниями<br />
«производственные цепочки», как показали<br />
Клиффорд Гэдди и Барри Икес 21 , производится<br />
перераспределение ренты от сырьевых<br />
компаний в пользу поставщиков товаров и<br />
услуг для них. Вместо того чтобы забирать<br />
ренту в виде налогов или оставлять его ТЭКу,<br />
государство заставляет его «делиться» сверхприбылью<br />
с металлургами, железнодорожниками<br />
и даже футболистами. Но это возможно<br />
только в условиях многократного роста<br />
ренты, произошедшего в 2000-х годах. Как
только объем ренты снизится, перераспределять<br />
по всем производственным цепочкам<br />
будет просто нечего. Госкомпании, монополии,<br />
обслуживающие их фирмы и бюджетный<br />
сектор образуют сложный и разветвленный<br />
конгломерат организаций, работникам которых<br />
категорически невыгодна смена политического<br />
режима. Их владельцы и сотрудники<br />
понимают, что любая перемена в политике<br />
обернется ухудшением положения для них<br />
лично. Политическое руководство страны<br />
сознательно поддерживает все эти неэффективные<br />
предприятия, понимая, что связанные<br />
с ними сотрудники, а также их семьи обеспечивают<br />
режиму политическую поддержку.<br />
Нежизнеспособная модель<br />
Итак, в российской экономике сложился<br />
мощный кластер бизнесменов и компаний,<br />
заинтересованных в сохранении статус-кво.<br />
Это фирмы, которые государство защищает<br />
от конкуренции (иностранной и внутренней),<br />
и компании, зарабатывающие на госпроектах.<br />
Дальнейшее развитие в рамках существующей<br />
модели неизбежно ведет к снижению эффективности:<br />
устранение конкуренции исключает<br />
возможность быстрого роста. Не контролирующие<br />
своих издержек монополии бесконечно<br />
повышают цены. По цепочке, через<br />
цену перевозок и энергии это передается во<br />
все сегменты экономики, и промышленность<br />
теряет конкурентоспособность.<br />
Экономика попадает в замкнутый круг:<br />
дорогая нефть через бюджетные траты ведет<br />
к общему повышению цен, сильнее всего дорожают<br />
базовые товары — энергия и транспорт.<br />
В отсутствие контроля со стороны общества<br />
и слабого контроля государства монополии,<br />
нагруженные к тому же «социальной ответственностью»<br />
(например, поддержка спорта),<br />
повышают цены и делают невыгодным<br />
любое инфраструктурное строительство.<br />
Ключевые для ресурсной экономики «центры<br />
прибыли» — от «Газпрома» и «Роснефти» до<br />
Государственное вмешательство: институциональная ловушка<br />
РЖД и металлургических компаний — обременены<br />
социальной ответственностью: они<br />
участвуют в восстановлении императорского<br />
Константиновского дворца в Стрельне (на<br />
это скидывались крупнейшие частные компании<br />
страны), содержат футбольные клубы,<br />
строят спортивные объекты к Олимпиаде в<br />
Сочи и т. д. По сути, все инвестиции, которые<br />
государство считает важными, но на которые<br />
жалеет бюджетных денег, осуществляются за<br />
счет государственных и частных компаний,<br />
что делает их менее жизнеспособными в условиях<br />
падения сырьевых цен. Необходимые<br />
для инвестиций в инфраструктуру «длинные<br />
деньги» есть в бюджетных фондах благодаря<br />
экономной политике середины 2000-х годов<br />
и в накопительной пенсионной системе. Но<br />
инвестировать эти средства в авто- и железные<br />
дороги и другие инфраструктурные проекты<br />
при нынешнем уровне издержек и откатов<br />
экономически бессмысленно.<br />
Социальная практика: патернализм<br />
Задачи макроэкономической стабилизации,<br />
которые ставили 22 экономисты в начале<br />
путинского срока, были к концу десятилетия<br />
в основном решены. В экономике возникла<br />
основанная на высоких сырьевых ценах стабильность.<br />
. Стала более «цивилизованной»<br />
экономическая политика: инфляция уже не<br />
выходит за 10 проц., у политического руководства<br />
есть понимание опасности высокого<br />
дефицита бюджета, не может быть речи, как<br />
в 1990-е годы, о прямом кредитовании экономики<br />
Центробанком и т. д.<br />
А вот для социальной политики все 2000-е<br />
годы прошли впустую. Многие задачи,<br />
обсуждавшиеся еще 20 лет назад, не решены.<br />
Например, переход к адресной системе социальных<br />
выплат, проверка нуждаемости получателей<br />
пособий и т. д. Успешно реформировавшиеся<br />
в 1990-е годы восточноевропейские<br />
страны 23 уже на первых этапах преобразований<br />
отказывались от социальных гарантий<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 101
Борис Грозовский<br />
эпохи советского социализма, перезаключили<br />
социальный контракт и выстроили системы<br />
образования, медицины, соцподдержки<br />
на новых основаниях.<br />
В России все эти системы старались не<br />
трогать, опасаясь социальных волнений,<br />
боясь активного сопротивления со стороны<br />
групп интересов. В результате социальная<br />
помощь остается очень слабо таргетированной<br />
24 (далеко не все бедные получают<br />
поддержку, среди получателей поддержки<br />
многие не бедны). Но при этом в стране практически<br />
отсутствует, например, инклюзивная<br />
социальная политика, направленная на создание<br />
равных возможностей для инвалидов —<br />
особенно в организации городской среды.<br />
Вместо того чтобы финансировать социальную<br />
услугу, которую оно хочет оплатить, государство<br />
продолжает содержать неэффективные<br />
сети бюджетных учреждений, монопольно<br />
оказывающих эти услуги. Так, краснодарская<br />
региональная программа «Старшее поколение»<br />
на 2009—2013 годы предполагала потратить<br />
почти 90 проц. из выделенных 1,4 млрд<br />
руб. на развитие сети бюджетных учреждений<br />
и нужды их работников 25 . Почти половина<br />
(44 проц.) этих средств напрямую расходуется<br />
на материальное стимулирование работников<br />
системы соцзащиты, еще столько же — на<br />
покупку краевому департаменту соцзащиты<br />
новых зданий, их строительство, ремонт, оснащение<br />
оборудованием, оснащение работников<br />
соцобслуживания автотранспортом и т. д.<br />
Если бы государство не боялось покупать<br />
работы и услуги, которые должны<br />
быть выполнены в отношении стариков, на<br />
рынке — у некоммерческих организаций и<br />
бизнеса, — то затраты на поддержание сети<br />
102 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
соцзащиты можно было бы сократить в разы.<br />
А высвободившиеся средства направить на<br />
собственно соцзащиту. О необходимости<br />
перейти к подобному подходу говорится<br />
уже много лет. Но все упирается в чиновников<br />
системы соцзащиты, которым покупка<br />
данной услуги «на рынке» представляется<br />
намного менее привлекательной возможностью,<br />
чем прямое финансирование бюджетной<br />
системы. И даже там, где гражданские<br />
организации занимаются социальной<br />
поддержкой самостоятельно (волонтеры),<br />
государство воспринимает их не как помощ-<br />
“Старшее поколение сохранило тоску по утраченным<br />
советским ценностям, молодежь сдвинулась по шкале<br />
ценностей в сторону открытости изменениям и эгоизма”.<br />
ников, а как враждебных наблюдателей, которые<br />
могут «вынести сор из избы». Отсюда,<br />
например, попытка принять закон, ограничивающий<br />
деятельность волонтеров и предполагающий<br />
заключение ими письменных<br />
договоров с организаторами акций, которые<br />
обязательно должны быть юридическими<br />
лицами. Разумеется, никакой ответственности<br />
за препятствование деятельности волонтеров<br />
этот законопроект не вводил.<br />
Модернизация этой системы изнутри<br />
невозможна: все ее интересы противоречат<br />
модернизации. Поручать реформирование<br />
социальной защиты людям, которые сейчас<br />
управляют оказанием данных госуслуг, имеет<br />
не больше смысла, чем просить волка сторожить<br />
отару овец. Каждый государственный<br />
институт проводит свою микрополитику, блокирующую<br />
реформы. Она направлена на то,<br />
чтобы законсервировать ситуацию и усилить<br />
влияние данного госинститута — при слабости<br />
административного контроля и восприятии<br />
государством любого общественного<br />
контроля как неприемлемого вмешательства<br />
в свои дела.
Эта система поддерживается патерналистскими<br />
настроениями электората (особенно в<br />
небольших городах и селах), которые последовательно<br />
культивируются властью: консервативно<br />
настроенное большинство готово мириться<br />
с иллюзией госгарантий и сильным вмешательством<br />
государства во все социально-экономические<br />
процессы и не верит в возможность более<br />
эффективной саморегуляции при помощи<br />
гражданской самоорганизации и рыночных<br />
механизмов. Патерналистские решения в экономической<br />
политике, выгодные получателям<br />
льгот и распределителям госсредств, находят<br />
большую поддержку, чем более «взрослые»<br />
варианты решения тех же проблем, ориентированные<br />
на самостоятельность и ответственность<br />
экономических агентов.<br />
Как показывают социологические исследования<br />
ценностей 26 , у пожилых россиян приверженность<br />
ценностям «Сохранения» (консерватизм)<br />
и «Безопасности» гораздо выше,<br />
чем у их европейских сверстников. Наоборот,<br />
российская молодежь превосходит своих<br />
европейских сверстников в приверженности<br />
ценностям «Самоутверждения» и уступает в<br />
«Заботе о людях и природе». Это следствие<br />
социально-экономической трансформации<br />
1990—2000-х годов, которая привела к росту<br />
атомизации и эгоизма — торжеству идеологии<br />
«умри ты сегодня, а я завтра». При этом старшее<br />
поколение в большей мере сохранило<br />
тоску по утраченным советским коллективистским<br />
ценностям, а молодежь, наоборот,<br />
сдвинулась по шкале ценностей в сторону<br />
открытости изменениям и эгоизма. Лишь<br />
очень постепенно на место этой идеологии,<br />
предполагающей личное самоутверждение и<br />
асоциальный эгоизм в противовес заботе о<br />
других, приходит возрождающаяся солидарность,<br />
готовность инвестировать личное<br />
время и деньги в общественные инициативы.<br />
Такая ценностная конструкция на всей<br />
выборке (вне распределения по возрастам)<br />
дает значительно меньшую в сравнении<br />
Государственное вмешательство: институциональная ловушка<br />
с европейцами приверженность россиян<br />
самостоятельности и риску/новизне 27 , но<br />
значительно большую ценность самоутверждения<br />
в противовес заботе о других. При<br />
этом приверженность ценностям богатства,<br />
власти, личного успеха значительно отстает<br />
от смелости, готовности принимать самостоятельные<br />
решения. Ориентация на самоутверждение<br />
не оставляет места для заботы о<br />
других, толерантности и т. д.<br />
В целом такая ценностная структура и ее<br />
возрастная развертка показывают, что, скорее<br />
всего, социально-политические преобразования<br />
на горизонте ближайших десяти лет<br />
произойдут и окажутся весьма энергичными.<br />
Ведь старшее поколение, приверженное<br />
традиции, постепенно уходит. Но вопрос в<br />
том, какими окажутся эти преобразования.<br />
«Возвращение России к периоду открытых<br />
политических противостояний будет<br />
проходить под лозунгами, связанными<br />
с понятием “справедливость”», — пишет<br />
Кирилл Рогов 28 , поэтому он может оказаться<br />
значительно более «левым», чем демократический<br />
период начала 1990-х. Если россияне<br />
до начала бурной политической жизни успеют<br />
продвинуться в альтруистических ценностях,<br />
станет возможным формирование<br />
европейского типа социал-демократии. Если<br />
же нет (что значительно более вероятно),<br />
развитие политической системы скорее пойдет<br />
по латиноамериканским образцам.<br />
Возможные сценарии<br />
Развертка сценариев строится ниже исходя<br />
из ряда развилок: 1) остаются цены на<br />
сырьевые товары высокими или падают; 2)<br />
насколько быстро нарастает недовольство<br />
горожан правящим режимом; 3) находит ли<br />
он внутри себя ресурсы для постепенной<br />
модернизации и решения наиболее острых<br />
общественных проблем, готова ли гэбэшная<br />
элита отойти от власти, уступив место гражданским<br />
силам, и допустить демократию.<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 103
Борис Грозовский<br />
Отрицательный ответ на второй вопрос и<br />
положительный — на третий делают возможным<br />
«инерционно-модернизационный» сценарий<br />
(см. ниже). Быстрый рост недовольства<br />
сделает неизбежным «революционный»<br />
сценарий независимо от готовности режима<br />
меняться и цены нефти. Снижение ее цены<br />
подтолкнет недовольство, то есть ускорит<br />
реализацию «революционного» сценария.<br />
Однако дорогая нефть совсем не обязательно<br />
будет способствовать консервации<br />
правящего режима. С одной стороны, она<br />
обеспечивает власть ресурсами для покупки<br />
различных социальных групп и (при желании)<br />
для модернизации. С другой — постепенный<br />
рост благосостояния способствует изменению<br />
образа жизни горожан, расширению<br />
среднего класса и, как следствие, снижению<br />
уровня поддержки авторитарной власти.<br />
Спектр возможных сценариев развития событий,<br />
исходя из очерченных выше развилок,<br />
можно представить следующим образом (см.<br />
ниже). Первый и второй варианты являются<br />
базовыми, третий и четвертый могут лишь на<br />
время отсрочить их реализацию.<br />
ВЫНУЖДЕННАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ, МЯГКИЙ ПЕРЕХОД<br />
ВЛАСТИ К концу 2010-х — началу 2020-х годов<br />
цена на нефть падает до уровня 70—90 дол.<br />
за баррель, а газ остается дешевым благодаря<br />
росту поставок СПГ и добычи в сланцах.<br />
Государство больше не может поддерживать<br />
гигантскую армию силовиков, бюджетников,<br />
неэффективные госкомпании. Даже<br />
нынешняя приостановка роста цен на сырье<br />
заставляет государство экономить, выбирая<br />
между расходами на развитие человеческого<br />
капитала (образование, медицина) и тратами<br />
на армию и силовиков. Пока политические<br />
лидеры явно предпочитают второй вариант.<br />
Нарастающее недовольство режимом (подстегиваемое<br />
снижением или стагнацией<br />
сырьевых цен и, как следствие, уменьшением<br />
перераспределительного «пирога») застав-<br />
104 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
ляет элиты сменить лидера и парадигму развития.<br />
Вслед за этим начнется сокращение избыточного<br />
госаппарата, передача рынку и третьему<br />
сектору всех функций, которые не обязательно<br />
должны выполняться государством.<br />
Экономика получит новые стимулы для<br />
развития. По сути, это программа «путинизм<br />
без Путина»: сохранение всех преференций<br />
крупному бизнесу, либерализация гражданских<br />
и до некоторой степени политических<br />
свобод, но оборона и безопасность остаются<br />
в неприкосновенности: мандата на то,<br />
чтобы тронуть эти чувствительные сферы,<br />
у «реформаторов» не будет. Это сценарий<br />
«очаговой модернизации», при котором проводятся<br />
только те реформы, которые можно<br />
провести относительно быстро, «малой<br />
кровью», и без наступления на интересы<br />
самых влиятельных элит. Преобразования не<br />
будут всеохватными: управляемый переход<br />
власти от нынешних лидеров к их преемникам,<br />
которые в большей степени приемлемы<br />
для нового поколения горожан, оставляет<br />
закрытыми для преобразований целый ряд<br />
секторов, включая оборону и безопасность.<br />
Примерно такой программы действий либералы<br />
ждали в 2008 году от Медведева, но у<br />
того не было разрешения и на эти скромные<br />
действия.<br />
ВОССТАНИЕ ГОРОЖАН, ЖЕСТКИЙ СЦЕНАРИЙ<br />
Революционная смена власти становится возможной<br />
вне зависимости от цены нефти — в<br />
случае, если модернизационный сценарий<br />
осуществить не удается. Но падение цен на<br />
ресурсные товары может подтолкнуть недовольство<br />
властью. Затягивание с выбором<br />
преемника и передачей власти, разочарование<br />
слабыми попытками модернизировать<br />
режим изнутри за счет добровольных конституционных<br />
самоограничений приведут к<br />
нарастанию протестных настроений. В силу<br />
описанного выше спроса на справедливость
сформированный в результате режим, скорее<br />
всего, будет «левым» по направленности.<br />
В этом сценарии несколько лет уйдет на<br />
переформулирование основ государственной<br />
жизни в соответствии с демократическими<br />
принципами, на борьбу с коррупцией,<br />
вычищение «совка» из разных аспектов<br />
общественной жизни. При этом социальные<br />
основы в плане «контракта» граждан с государством<br />
останутся во многом неизменными:<br />
скорее всего, «левым» придется повышать<br />
расходы на образование и медицину, увеличивать<br />
расходы на инфраструктурное строительство,<br />
а ради этого — повышать налоги.<br />
Вероятно, будет установлена прогрессивная<br />
шкала налога на доходы граждан. Будут повышены<br />
пенсии, что приведет к еще большей<br />
разбалансированности пенсионного бюджета.<br />
Стоит ожидать и попыток национализации<br />
«несправедливо приватизированных<br />
компаний». Только теперь это будет касаться<br />
в первую очередь не победителей залоговых<br />
аукционов, а принадлежащих друзьям<br />
Путина компаний, которые приросли за<br />
счет бизнесов, распроданных «Газпромом»,<br />
«Ростехнологиями» и другими госкомпаниями.<br />
«Левые» постараются создать более<br />
благоприятные условия для малого бизнеса,<br />
снизить кредитные ставки, по возможности<br />
будут поддерживать рост инвестиций в охрану<br />
окружающей среды и т. д.<br />
Рост налоговой нагрузки приведет к замедлению<br />
экономического роста и разбалансировке<br />
бюджета, который начнет рушиться<br />
под тяжестью «социального государства».<br />
Тогда настанет черед преобразований, раскрепощающих<br />
экономику. Впрочем, и период<br />
господства «левых» будет благотворен для<br />
экономики, поскольку он связан с общей<br />
нормализацией основ жизни в государстве.<br />
Снизится давление силовиков, улучшится<br />
правовой климат, постреволюционная популярность<br />
страны у иностранных инвесторов<br />
обеспечит приток инвестиций.<br />
Государственное вмешательство: институциональная ловушка<br />
СТАГНАЦИЯ Высокая цена нефти и прочего<br />
сырья, мудрое и тонкое манипулятивное<br />
госуправление теоретически делают возможной<br />
консервацию (стагнацию) нынешнего<br />
социально-экономического режима до начала<br />
2020-х годов. Но этот сценарий представляется<br />
менее вероятным, чем переход к первому<br />
и второму сценариям уже в конце нынешнего<br />
десятилетия. В любом случае такой переход<br />
— лишь вопрос времени. Даже если дорогая<br />
нефть сделает возможной консервацию<br />
режима еще в течение 5—7 лет, затем она сменится<br />
развитием либо по эволюционному (1),<br />
либо революционному (2) сценарию.<br />
ПОЛИЦЕЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО Единственная возможность,<br />
при которой режим в течение<br />
более долгого срока может быть предохранен<br />
от модернизации, а власть останется в руках<br />
нынешних элит, — это сценарий создания<br />
полицейского государства. В рамках этого<br />
сценария власть идет на существенное подавление<br />
политических, гражданских и даже (в<br />
последнюю очередь) экономических свобод<br />
ради удержания ситуации под контролем.<br />
Многое говорит против такого сценария, в<br />
частности — интеграция экономики страны<br />
в мировую, привычка населения жить в условиях<br />
не слишком репрессивного государства<br />
и т. д. Однако полностью исключать данный<br />
сценарий нельзя. Если он реализуется, то<br />
будет сопровождаться частичным «закрытием»<br />
экономики страны от мировой и дальнейшим<br />
снижением ее конкурентоспособности<br />
(и дальнейшим падением эффективности).<br />
Но с отсрочкой на несколько лет развитие<br />
все равно пойдет по сценариям 1—2.<br />
Заключение<br />
Во всех рассмотренных сферах возможность<br />
преобразований блокируется сильными группами<br />
интересов и госинститутами, отвечающими<br />
за проведение той или иной конкретной<br />
политики. Государство в своем развитии<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 105
Борис Грозовский<br />
заметно отстало от городского среднего<br />
класса, но такое положение вещей удовлетворяет<br />
как существенную часть населения, так<br />
и многочисленные группы влияния, извлекающие<br />
ренту из данного положения вещей.<br />
Модернизация экономики в таких условиях<br />
невозможна без модернизации государства,<br />
которое с каждым годом становится все<br />
более архаичным. Обязательства государства<br />
перед обществом и бизнесом не зафиксированы<br />
(отсутствует контракт), что ведет к утрате<br />
доверия и беззащитности бизнеса и населения<br />
перед лицом государственной машины.<br />
При этом общество не слишком склонно к<br />
самоорганизации. Первые признаки таковой<br />
обнаружились только в последние годы — во<br />
время пожаров лета-2010.<br />
Если нефть не подешевеет, государство,<br />
действующее путем покупки элит и социальных<br />
групп, может продолжить существовать<br />
в таком режиме еще несколько лет. Конечно,<br />
не до 2025 года, но до конца текущего десятилетия<br />
— вполне. Такая конструкция не<br />
позволит вернуться к докризисным 6—7-процентным<br />
темпам роста. Но на 3—4 проц.<br />
ПРИМЕЧАНИЯ 1 Кессиди Дж. Юджин Фама: «На<br />
вас нападает Кругман? Значит, вы движетесь<br />
в правильном направлении» (http://slon.ru/<br />
economics/yudzhin_fama_na_vas_napadaet_<br />
krugman_znachit_vy_dv-251526.xhtml).<br />
2 Morse E. L., Doshi A., Lee E. G. et al. Energy 2020:<br />
North America, the New Middle East? // Citi GPS:<br />
Global Perspectives & Solutions. 2012. March 20;<br />
Khan F. et al. North America, the New Middle East?<br />
The Fastest Growing Energy Supplier in the World //<br />
Citigroup Global Markets. 2012. March 20. Оба доклада<br />
доступны подписчикам.<br />
3 Прогноз развития энергетики мира и России<br />
до 2035 года. М.: ИНЭИ РАН; ФГБУ «РЭА», 2012<br />
(http://www.eriras.ru/data/94/rus).<br />
4 Башмаков И. Энергоэффективность в России:<br />
политика, достижения и парадоксы. Доклад на конференции<br />
«Экономика изменения климата и повы-<br />
106 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
экономического роста в год Россия может<br />
рассчитывать даже без реформ — только за<br />
счет постепенного роста благосостояния,<br />
включения в рыночную экономику все больших<br />
слоев населения. Но это будет затухающий<br />
рост.<br />
Внешний шок (экономический, в силу снижения<br />
цены сырьевых товаров и/или внутренний<br />
политический, в силу разочарования архаизирующимся<br />
государством) должен поначалу<br />
вызвать спад экономики. Но если ее удастся<br />
перестроить на новых основаниях — речь идет<br />
об исключении избыточного вмешательства и<br />
ликвидации многочисленных окологосударственных<br />
кормушек (а не о замене одних элитных<br />
групп у этих кормушек на другие), то<br />
Россия может получить два-три десятилетия<br />
впечатляющего роста. И главное, этот рост<br />
будет продуктивным — связанным, как, например,<br />
в Турции, Индонезии, Бразилии и других<br />
развивающихся странах, с раскрепощением<br />
производительных сил, развитием малого бизнеса<br />
и инфраструктуры в тех сферах, которые<br />
пока еще остаются под явным или косвенным<br />
контролем государства.<br />
шения энергоэффективности», ИМЭМО, <strong>Москва</strong>,<br />
28 октября 2011 года (http://www.cenef.ru/file/<br />
Bashm2011.ppt).<br />
5 Башмаков И., Башмаков В. Сравнение мер<br />
российской политики повышения энергоэффективности<br />
с мерами, принятыми в развитых странах.<br />
М.: ЦЭНЭФ, 2012 (http://www.cenef.ru/file/<br />
comparison.pdf).<br />
6 BP Statistical Review of World Energy. June 2012<br />
(www.bp.com/statisticalreview).<br />
7 Козлов К., Юдаева К., Завьялова М. Природный<br />
газ: краткий обзор мировой отрасли и анализ<br />
сланцевого бума. М.: Центр макроэкономических<br />
исследований Сбербанка, 2012 (http://www.sbrf.<br />
ru/common/img/uploaded/files/pdf/analytics/<br />
pg1.pdf).<br />
8 Автомобильный рынок России и СНГ. Обзор<br />
отрасли. Февраль 2012 года. M.: Ernst & Young,
2012 (http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/<br />
Automotive-industry-overview-2012-RUS/$FILE/<br />
Automotive-industry-overview-2012-RUS.pdf).<br />
9 См., например: Современное корпоративное<br />
управление в России глазами зарубежных<br />
бизнесменов и экспертов: Результаты совместного<br />
исследования НСКУ и Российско-британской торговой<br />
палаты. М., 2010 (http://www.nccg.ru/site.<br />
xp/050052048124049052051051.html).<br />
10 Авдашева С., Голикова В., Гончар К., Долгопятова<br />
Т., Кузнецов Б., Яковлев А. Предприятия и рынки<br />
в 2005—2009 годах: итоги двух раундов обследования<br />
российской обрабатывающей промышленности:<br />
Доклад Государственного университета —<br />
Высшей школы экономики. М.: Издательский<br />
дом ГУ—ВШЭ, 2010 (https://www.hse.ru/<br />
data/2010/04/07/1218109141/report.pdf).<br />
11 Гуриев С., Осетинская Е. Владимир Потанин:<br />
«Какая страна, так и приватизировали». //<br />
Forbes. Июль 2012 (http://www.<strong>for</strong>bes.ru/sobytiya/<br />
lyudi/83751-vladimir-potanin-kakaya-strana-tak-iprivatizirovali).<br />
12 Трейсман Д. Политэкономия российского развития<br />
// Россия-2020: Сценарии развития / Под<br />
ред. М. Липман, Н. Петрова; Моск. Центр Карнеги.<br />
М.: РОССПЭН, 2012.<br />
13 Treisman D. The Return: Russia’s Journey from<br />
Gorbachev to Medvedev. N. Y.; L.: Free Press, 2011.<br />
См. рецензию Игоря Федюкина на эту книгу: Pro et<br />
Contra. 2011. Т. 15. № 5 (сент.—окт.) С. 130—135.<br />
14 In Russland ist Demokratie “Luxus” // Der<br />
Standard. 2012. Nov. 29, (http://derstandard.<br />
at/1353207746185/In-Russland-ist-Demokratie-<br />
Luxus). Цит. по: http://www.inopressa.ru/<br />
article/30nov2012/standard/surkov.html<br />
15 Оппоненты любят ссылаться на данные, показывающие,<br />
что в России меньше чиновников, чем<br />
в других странах. «В России 67 чиновников на 10<br />
тыс. населения, а во Франции — 400», — пишут аналитики<br />
РИА «Новостей» (http://ria.ru/research_<br />
rating/20120412/623975661.html). Попытки сократить<br />
число госчиновников важны, разумеется, не<br />
сами по себе. Как правило, они сопровождаются<br />
отказом от избыточных функций (или их передачей<br />
на аутсорсинг). Неудача с сокращением числа<br />
чиновников показывает, что не получилось сократить<br />
и избыточные функции госаппарата.<br />
Государственное вмешательство: институциональная ловушка<br />
16 The World Bank Worldwide Governance<br />
Indicators (http://info.worldbank.org/governance/<br />
wgi/).<br />
17 Михайловская И. Простые вещи // Forbes<br />
Woman. Осень—зима 2012—2013.<br />
18 Интервью — Владислав Сурков, заместитель<br />
председателя правительства // Ведомости. 2012.<br />
23 окт.<br />
19 Belton C. Shale Surge Poses Threat to Gazprom<br />
// The Financial Times. 2012. Nov. 12 (http://www.<br />
ft.com/intl/cms/s/0/242db050-2cde-11e2-9211-<br />
00144feabdc0.html#axzz2CMOKp2d6).<br />
20 Короли госзаказа. Спецпроект // Forbes.<br />
Март 2012 (http://www.<strong>for</strong>bes.ru/%5Bissue%5D/<br />
issue/2012-03).<br />
21 Гэдди К., Икес Б. У. Российская экономика:<br />
как слезть с «сырьевой иглы» // Россия-2020:<br />
Сценарии развития.<br />
22 Инвестиционный климат и экономическая<br />
стратегия России. Материалы для обсуждения.<br />
М.: ВШЭ, ЦСР, при участии МВФ и ВБ, 2000.<br />
23 Путь в Европу / Под общ. ред. И. Клямкина,<br />
Л. Шевцовой. М.: Либеральная миссия, 2008.<br />
24 Социальная поддержка: Уроки кризисов и<br />
векторы модернизации / Под ред. Т. Малевой,<br />
Л. Овчаровой. М.: Изд-во «Дело», РАНХ, 2010.<br />
25 Грозовский Б. Бизнес на стариках // Деловая<br />
среда. 2012. 27 авг. (http://dasreda.ru/club/<br />
opinion/1289/).<br />
26 Магун В., Руднев М. Базовые ценности двух<br />
поколений россиян и динамика их социальной<br />
детерминации (http://www.hse.ru/data/2012/05/<br />
31/1252375640/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D1%<br />
83%D0%BD-%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD<br />
%D0%B5%D0%B2-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D<br />
0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf).<br />
27 Магун В., Руднев М. Базовые ценности-2008:<br />
Сходства и различия между россиянами и другими<br />
европейцами: Препринт. М.: Издательский дом<br />
ГУ—ВШЭ, 2010 (http://www.hse.ru/data/2012/02<br />
/24/1266139099/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D1<br />
%83%D0%BD,%20%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0<br />
%BD%D0%B5%D0%B2%20%D0%9F%D1%80%D0<br />
%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82.<br />
pdf).<br />
28 Рогов К. Гипотеза третьего цикла //<br />
Россия-2020: Сценарии развития.<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 107
СТАТЬИ<br />
Дереализация прошлого:<br />
функции сталинского мифа<br />
За двадцать лет отношение к Сталину поменяло знак — с резко<br />
негативной оценки до признания «положительной в целом»<br />
его роли в истории страны<br />
Лев Гудков<br />
Риторическое обращение к Иосифу<br />
Сталину как эталону государственного<br />
деятеля и представление самой<br />
сталинской эпохи в качестве примера<br />
форсированного развития страны 1 нередко<br />
звучит из уст политиков разного уровня и<br />
партийной принадлежности — и еще чаще в<br />
учебниках, публицистике, трудах по истории<br />
Великой Отечественной войны. Подобные<br />
высказывания можно рассматривать как<br />
свидетельство невежества и цинизма российского<br />
политического класса, а также авторов<br />
соответствующей печатной продукции,<br />
однако ограничиться подобными оценками<br />
не позволяет резонанс, который обращение<br />
к образу Сталина получает в обществе. Речь<br />
здесь идет не об историческом Сталине.<br />
О нем знают мало, поскольку в России, как и<br />
в других странах, для большинства историческое<br />
знание не представляет особого интереса.<br />
«Сталин» в сегодняшней России — это реквизит<br />
политической мифологии, используемой<br />
(в явном или неявном виде) кремлевской<br />
администрацией для компенсации слабой<br />
легитимности нынешнего режима, а также<br />
коммунистами, которые позиционируют себя<br />
в качестве оппонентов действующей власти.<br />
Как и другие мифы ХХ века, комплекс<br />
представлений о Сталине имеет иную природу,<br />
чем традиционные космогонические или<br />
героические верования, воспроизводимые<br />
в племенных ритуалах, или фольклорные<br />
108 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
легенды, объясняющие происхождения<br />
институтов. Сталинский миф — продукт<br />
бюрократической работы, прежде всего<br />
массовой пропаганды. Его действенность<br />
строится не на правдоподобии, а на частоте<br />
повторения, которое функционально сродни<br />
групповому ритуалу или государственному<br />
церемониалу: с помощью таких практик<br />
многократно повторенные суждения превращаются<br />
в стереотипы или клише массового<br />
сознания. Подобные символы существуют не<br />
потому, что в них так уж нуждаются и верят<br />
массы, а потому, что к ним постоянно апеллируют<br />
влиятельные политические силы, которые<br />
навязывают их обществу, руководствуясь<br />
собственными интересами.<br />
Политические мифы управляют не отдельными<br />
фактами или аргументами, а целыми<br />
риторическими контекстами 2 . Так, имя<br />
«Сталин» объединяет разнородные представления<br />
— о стиле руководства страной, характере<br />
общества, отношениях с другими странами<br />
и т. п.; оно поддерживает связь времен и упорядоченность<br />
массовой идентичности, задает<br />
определения «реальности» и ориентиры национального<br />
развития. Структура мифологемы<br />
«Великий Сталин» включает в себя различные<br />
цепочки представлений, которые восходят к<br />
разным периодам советской истории и присущи<br />
разным группам российских граждан:<br />
• Сталин и аппаратные интриги, борьба<br />
за власть с «ленинской гвардией», стары-
ми большевиками, соратниками Ленина;<br />
Сталин и уничтожение внутрипартийной<br />
оппозиции как условие единства власти,<br />
необходимого для успешной индустриализации<br />
и коллективизации; Сталин и массовый<br />
террор; Сталин и триумф Победы<br />
в Отечественной войне, Сталин и раздел<br />
послевоенной Европы, выход СССР на<br />
международную арену в качестве ядерной<br />
супердержавы.<br />
• Сталин и становление великой державы;<br />
апология массового террора как<br />
экстраординарных мер и неизбежной<br />
платы за стремительное развитие страны;<br />
утверждение, что только такими методами<br />
можно было сохранить страну, нацию от<br />
уничтожения, которым грозила война с<br />
Германией; террор в этих условиях следует<br />
считать единственным эффективным<br />
средством принудительной мобилизации и<br />
модернизации.<br />
• Сталин и техническая модернизация,<br />
которую он соединил с политическим террором<br />
и социальной контрмодернизацией,<br />
что стало причиной последующего в 1970-е<br />
годы застоя и далее — краха коммунизма.<br />
• Сталин — параноидальная личность,<br />
маньяк и садист, чьи личностные черты<br />
определили особенности репрессивной<br />
организации государства и общества,<br />
жертвами которой стали миллионы невинных<br />
людей; разоблачение культа личности<br />
на ХХ съезде КПСС не означает признания<br />
ошибочности политики партии и<br />
советского руководства.<br />
• Сталин — воплощение национальной<br />
славы России, «эффективный менеджер»,<br />
обеспечивший превращение отсталой страны<br />
в одну из двух мировых супердержав, —<br />
все его ошибки и перегибы не могут заслонить<br />
достоинств великого государственного<br />
деятеля, создавшего огромный блок стран<br />
соцлагеря, противостоящего Западу.<br />
И т. д.<br />
Дереализация прошлого: функции сталинского мифа<br />
Список составляющих этого мифа принципиально<br />
открыт, он допускает включение<br />
разнообразных элементов, актуальных в той<br />
или иной социально-политической ситуации<br />
(тематически они могут быть любыми:<br />
нужда в вожде, мудрость власти, отец нации<br />
и защитник русской идеи, органическая<br />
структура социума, враги и вражеское окружение,<br />
романтический энтузиазм строителей<br />
нового общества и проч.).<br />
Важно, что во всех вариациях этой идеологемы<br />
присутствуют два постоянных мотива:<br />
1) суверенитет руководства; полнота власти<br />
(почти мистическая) без ответственности;<br />
пассивность населения без участия, без представительства<br />
(без механизмов репрезентации)<br />
групповых интересов и ценностей;<br />
общество без политики; человек как объект<br />
управления и принуждения — без прав и<br />
сознания собственной, имманентной ценности;<br />
2) постоянство политики конфронтации;<br />
необходимость противостояния врагам самого<br />
разного толка.<br />
Нужда в мифологемах такого рода обычно<br />
проявляется в ситуациях кризиса мобилизационного<br />
государства или падения массовой<br />
поддержки персоналистского режима,<br />
слабой легитимности власти, становящейся<br />
особенно ощутимой в условиях смены носителей<br />
власти и требующей обновления государственной<br />
идентичности 3 .<br />
Секулярный (политический) миф, как и<br />
всякая идеология, не существует отдельно<br />
от тех социальных групп или институтов,<br />
стараниями которых он вырабатывается,<br />
трансформируется и распространяется.<br />
Никакой спонтанной или «естественной»<br />
потребности общества в подобных идеологических<br />
комплексах нет. Падение или<br />
рост значимости сталинского мифа носят<br />
«рукотворный», искусственный характер<br />
и могут быть рационально объяснены действиями<br />
механизмов пропаганды. Любая<br />
идеология (в том числе идеологизиро-<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 109
Лев Гудков<br />
ванная «культура», которая становится<br />
предметом специальной заботы «государства»)<br />
существует лишь в практике ее<br />
социальной организации и бюрократических<br />
ведомств, обеспечивающих ее воспроизводство<br />
в массовых слоях общества.<br />
По отношению к идейным структурам<br />
такого рода работает не «внутренняя<br />
логика» движения идей, а направленность<br />
групповых и институциональных<br />
интересов действующей власти (обеспечения<br />
массовой поддержки, мобилизации,<br />
удержания власти, дискредитации противников,<br />
нейтрализации недовольных)<br />
или интересов ее конкурентов и критиков.<br />
Здесь неприменимы метафоры «свободно<br />
парящей интеллигенции» Мангейма или<br />
«третьего царства» идей Поппера как<br />
модели внутренней организации института,<br />
который вносит в сознание публики<br />
новые смыслы. Напротив, речь идет о<br />
намеренном навязывании определенной<br />
модели отношений власти и общества<br />
и массовой готовности ее принять или<br />
сопротивляться этому. Характер сопротивления<br />
косвенным образом может<br />
свидетельствовать о латентной структуре<br />
общества или его культуре. Поэтому я<br />
хотел бы рассматривать здесь сталинский<br />
миф в качестве «меченого атома», то есть<br />
своеобразного индикатора различных<br />
состояний посттоталитарного общества.<br />
Таблица 1<br />
110 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
Изменение массового отношения<br />
к Сталину в послесоветское время<br />
В 1989 году на просьбу социологов назвать<br />
«самых выдающихся людей, общественных<br />
и культурных деятелей, оказавших наиболее<br />
значительное влияние на мировую историю»,<br />
имя Сталина в России назвали 12 проц. опрошенных<br />
(11-е место в списке, включавшем<br />
больше сотни различных деятелей) 4 . Через<br />
23 года Сталин занял в этом списке ведущую<br />
позицию — впервые за все время подобных<br />
опросов (его назвали 42 проц. опрошенных,<br />
см. таблицу 1 на с. 110).<br />
В конце 1990 года, на излете перестройки,<br />
мало кто в России думал, что Сталин останется<br />
в ее истории в каком-либо ином контексте,<br />
кроме описаний массового террора, коллективизации,<br />
голода, военной катастрофы 1941<br />
года, борьбы с космополитами и т. п. 5 . Тогда<br />
всего 10 проц. опрошенных считали, что в<br />
2000 году имя Сталина будет что-то значить для<br />
«народов СССР» (70 проц. полагали, что его<br />
забудут или он не будет иметь существенного<br />
значения, остальные затруднились ответить).<br />
В начале 1991 года всего 0,2 проц. опрошенных<br />
думали, что через поколение о Сталине<br />
вряд ли будет помнить кто-либо, кроме историков,<br />
изучающих советский период.<br />
Однако в 2008 году на вопрос: «Будут ли через<br />
50 лет люди в России вспоминать о Сталине, и если<br />
да — то с какими (хорошими, плохими или смешанными)<br />
чувствами?» — респонденты давали уже<br />
ДИНАМИКА САМЫХ ЗНАЧИМЫХ ИМЕН В ОБЩЕСТВЕННОМ МНЕНИИ РОССИИ, 1989—2012 ГОДЫ<br />
1989 г. 1991 г. 1994 г. 1999 г. 2008 г. 2012 г.<br />
Изменение<br />
ранга<br />
Ленин 72 59 46 42 34 37 1→2<br />
Маркс 35 8 6 5 3 4 3→33<br />
Петр I 38 51 56 45 37 37 2—2<br />
Пушкин 25 32 31 42 47 29 4—4<br />
…<br />
Сталин 12 28 28 35 36 42 11→1<br />
В % к числу всех опрошенных в каждом замере
Таблица 2<br />
не столь однозначные ответы. Двадцать три<br />
процента россиян полагали, что в будущем<br />
Сталина полностью забудут, но относительное<br />
большинство опрошенных (45 проц.) все же<br />
полагали, что вспоминать о нем все-таки будут,<br />
но «со смешанными чувствами». Полярные и<br />
четко выраженные мнения представлены равным,<br />
хотя и незначительным числом респондентов:<br />
положительные установки проявлены<br />
у 7 проц. респондентов, негативные — у 9 проц.<br />
(16 проц. затруднились с ответом). Собственно<br />
сам этот факт — малое число тех, кто сохраняет<br />
выраженно негативную, моральную, оценку<br />
диктатора, — и составляет важнейшую проблему<br />
социологического анализа российского<br />
общества и возможностей его трансформации.<br />
Процесс восстановления «величия<br />
Сталина» в общественном восприятии медленно<br />
нарастал на протяжении всех 1990-х<br />
годов. Но перелом в отношении к нему<br />
Дереализация прошлого: функции сталинского мифа<br />
КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ РОЛЬ СТАЛИНА В ИСТОРИИ/ЖИЗНИ НАШЕЙ СТРАНЫ?<br />
1994 г.*** 2003 г. 2006 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.<br />
В целом позитивно * 27 53 42 42 49 51 45<br />
В целом негативно ** 47 33 37 37 33 30 35<br />
Затруднились ответить 19 14 21 21 18 19 20<br />
Число опрошенных 3 000 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600<br />
В % к числу опрошенных<br />
* Сумма ответов «безусловно положительную» и «скорее положительную».<br />
** Сумма ответов «скорее отрицательную» и «безусловно отрицательную».<br />
*** В опросе 1994 года была использована иная шкала; помимо уже приведенных вариантов ответа вводилась подсказка<br />
«незначительная роль», которую выбрали 5 проц. опрошенных.<br />
Таблица 3<br />
наступил с приходом к власти Владимира<br />
Путина и установлением в России авторитарного<br />
режима. Этому способствовал<br />
общий негативный фон: разочарование в<br />
реформах, массовая фрустрация и ностальгия<br />
по прошлому. Падение жизненного<br />
уровня, длительное состояние аномии и<br />
социальной дезорганизации стали факторами,<br />
усилившими распространение массового<br />
консерватизма и имитационного традиционализма.<br />
Именно с этого момента Сталин становится<br />
предметом телевизионной пропаганды и<br />
политической рекламы. При этом реабилитация<br />
Сталина носила осторожный и двусмысленный<br />
характер: не отрицая самого факта<br />
массовых репрессий и преступлений сталинского<br />
режима, путинские политтехнологи<br />
старались отодвинуть эти обстоятельства на<br />
задний план, всячески подчеркивая заслуги<br />
С КАКОЙ ОЦЕНКОЙ ПЕРИОДА В ИСТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ ВЫ БЫ СКОРЕЕ СОГЛАСИЛИСЬ: ВРЕМЯ СТАЛИНА? 6<br />
1994 г. 1999 г. 2003 г. 2008 г. 2012 г.<br />
Больше хорошего, чем плохого 16 26 29 25 27<br />
Больше плохого, чем хорошего 60 48 47 44 42<br />
Не принесло ничего особенного 4 4 4 6 5<br />
Затрудняюсь ответить 20 22 21 25 25<br />
Хорошее/ плохое 0,27 0,54 0,62 0,57 0,64<br />
В % к числу опрошенных<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 111
Лев Гудков<br />
Таблица 4<br />
Сталина как полководца и государственного<br />
деятеля, обеспечивавшего модернизацию<br />
страны и превращение ее в одну из двух<br />
мировых супердержав 7 .<br />
Хотя соблазн таких интерпретаций велик,<br />
увеличение числа россиян, позитивно оценивающих<br />
заслуги Сталина, не означает роста<br />
человеческих симпатий к нему или реставрации<br />
тоталитарных установок. Оценки сталинизма<br />
и сталинской эпохи двоятся: «историческая<br />
роль» Сталина стала котироваться в<br />
общественном мнении выше (см. таблицу 2<br />
на с. 111), а восприятие того времени, помеченного<br />
его именем, сохраняет негативные<br />
коннотации, хотя и все с меньшей силой<br />
(см. таблицы 3 на с. 111 и 4 на с. 112).<br />
Эта двойственность вполне закономерна.<br />
Анализ данных свидетельствует о<br />
том, что одни и те же люди говорят, что<br />
«Сталин — тиран, виновный в смерти миллионов<br />
людей» и что «только под его руководством<br />
СССР превратился в могущественную<br />
112 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ К СТАЛИНУ?<br />
Апрель<br />
2001 г.<br />
Апрель<br />
2006 г.<br />
Сентябрь<br />
2008 г.<br />
Февраль<br />
2010 г.<br />
С восхищением 4 5 1 2 1<br />
Октябрь<br />
2012 г.*<br />
С уважением 27 23 22 23 21<br />
С симпатией 7 8 8 7 6<br />
Безразлично, равнодушно,<br />
меня это не интересует<br />
12 19 37 38 33<br />
С неприязнью, раздражением 18 18 11 12 12<br />
Со страхом 16 15 7 7 7<br />
С отвращением, ненавистью 9 5 4 5 4<br />
Затруднились ответить 6 8 10 6 11<br />
Сумма позитивных оценок 31 28 22 25 28<br />
Сумма негативных оценок 43 38 31 24 23<br />
Сумма индифферентных (безразлично,<br />
равнодушно + затрудняюсь ответить +<br />
отказ от ответа)<br />
18 27 47 44 49<br />
Позитивные/негативные оценки 0,7 0,7 0,7 1,0 1,2<br />
В % к числу опрошенных<br />
* В опросе 2012 года были введены опции «не знаю, кто такой Сталин» (1 проц.) и «отказ от ответа» (5 проц.), несколько<br />
изменившие вес «индифферентных ответов», что повлияло на соотношение других вариантов ответов респондентов<br />
и процветающую державу»; что «политика<br />
Сталина привела к разгрому военных кадров<br />
и неготовности страны к войне» и что «только<br />
под руководством Сталина наш народ<br />
вышел победителем в этой войне» (см. таблицу<br />
5 на с. 113). Подобное соединение не просто<br />
разных, а «несовместимых» мнений, многократно<br />
повторяющееся в социологических<br />
исследованиях массового сознания, указывает,<br />
что это не социологический артефакт или<br />
ошибка методики опросов, не «шизофрения<br />
массового сознания», каковой его часто готовы<br />
считать многие наблюдатели, а действие<br />
специфических механизмов «двоемыслия»,<br />
определяющих тоталитарное и — в меньшей<br />
степени — посттоталитарное сознание.<br />
Эффекты такого рода повторяются и фиксируются<br />
независимо от техники опросов<br />
или особенностей статистической обработки.<br />
Их нельзя объяснить и тем обстоятельством,<br />
что респонденты, давая содержательно различные<br />
ответы, мысленно ориентируются на
Таблица 5<br />
разные воображаемые референтные «фигуры»<br />
вопрошающих: в одном случае ответа<br />
ждет как бы представитель государства, на<br />
которого ложится отсвет величия, приоритетности<br />
важных государственных интересов,<br />
носитель коллективных символов и представлений,<br />
в другом — носитель «обыденного<br />
здравого смысла» и морали, ценностей и<br />
интересов общества, частного человека, оценивающего<br />
актуальные и исторические события<br />
со своей точки зрения. Эти семантические<br />
плоскости взаимодействия респондента<br />
и авторитетных инстанций, представленных<br />
интервьюером в ситуации опроса, можно разводить<br />
лишь теоретически, концептуально;<br />
в сознании отдельного человека, и тем более<br />
в массовом сознании, они смешаны, переплетаются,<br />
а главное — дополняют друг друга.<br />
(Собственно, на достижение такого результата<br />
и нацелена пропаганда.)<br />
Амбивалентность массовых установок<br />
функциональна, она указывает на неразрывность<br />
сочетания национального величия с<br />
Дереализация прошлого: функции сталинского мифа<br />
В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ СОГЛАСНЫ С ПРИВЕДЕННЫМИ СУЖДЕНИЯМИ?<br />
Суждения<br />
1. Сталин — мудрый руководитель, который привел СССР к могуществу<br />
и процветанию<br />
2. Сталин — жестокий, бесчеловечный тиран, виновный в уничтожении<br />
миллионов невинных людей<br />
3. Какие бы ошибки и пороки ни приписывались Сталину, самое<br />
важное — что под его руководством наш народ вышел победителем<br />
в Великой Отечественной войне<br />
4. Политика Сталина (разгром военных кадров, сговор с Гитлером)<br />
привела к тому, что страна оказалась не подготовленной к войне<br />
5. Только жесткий правитель мог поддержать порядок в государстве<br />
в условиях острой классовой борьбы, внешней угрозы<br />
6. Наш народ никогда не сможет обойтись без руководителя такого<br />
типа, как Сталин, который придет и наведет порядок<br />
7. Сталина злобно поносят люди, которым чужды интересы русского<br />
народа и нашего государства<br />
Полностью<br />
согласен/<br />
скорее<br />
согласен<br />
Скорее не<br />
согласен/<br />
совершенно<br />
не согласен<br />
Затруднились<br />
ответить<br />
50 37 14<br />
68 15 13<br />
68 16 13<br />
58 22 20<br />
56 26 18<br />
34 50 17<br />
32 42 26<br />
8. Мы еще не знаем всей правды о Сталине и его действиях 68 14 19<br />
Октябрь 2008 года; в % к числу опрошенных по строке<br />
насилием, которые образуют характерную<br />
травматическую структуру национального<br />
сознания, особенности русской идентичности,<br />
ее коллективных мифов и символов.<br />
Одно не может быть выражено без другого 8 .<br />
В русской культуре закрепилась идея, что<br />
значения высокого («по-настоящему» ценного,<br />
подлинного, важного) не могут быть<br />
артикулированы без жертв и крови, иначе<br />
чем через утрату, через вынужденное принятие<br />
необходимости жертв. В противном<br />
случае «высокое» превращается в лицемерие,<br />
ходульные клише, словоблудие начальства<br />
или политическую риторику и проч. Такие<br />
шаблоны культуры отчасти обусловлены<br />
поверхностным, «магическим» христианством<br />
(«пострадать надо»). Но у них есть<br />
и иной источник: историческая практика<br />
утверждения коллективных символов и ценностей<br />
исключительно через государственное<br />
насилие (см. щедринское — «войны за<br />
просвещение»), принуждение, репрессии и<br />
властный контроль, ставшие привычными<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 113
Лев Гудков<br />
Таблица 6<br />
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ОПРАВДАННЫ ЛИ ЖЕРТВЫ, КОТОРЫЕ ПОНЕС СОВЕТСКИЙ НАРОД В СТАЛИНСКУЮ ЭПОХУ, ВЕЛИКИМИ<br />
ЦЕЛЯМИ И РЕЗУЛЬТАТАМИ, ДОСТИГНУТЫМИ В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ?<br />
особенностями массовой социализации и<br />
образования. Поскольку государство в России<br />
никогда (ни в царское, ни в советское, ни в<br />
постсоветское время) не являлось инстанцией<br />
общих интересов, то выполнение социальных<br />
функций — в любой сфере, от воинской<br />
повинности как священной обязанности и<br />
долга гражданина до контроля над моралью и<br />
культурой — немыслимо без соответствующей<br />
доли принуждения. (Фальшивым синонимом<br />
принуждения выступает формула «модернизация<br />
сверху» или «нам нужна одна победа,<br />
мы за ценой не постоим», особенно если эту<br />
цену платят обычные граждане, а не власти<br />
предержащие.)<br />
Соединение насилия и коллективных<br />
символов образует то, что называется «фасцинацией<br />
зла» — обаянием или притягательностью<br />
государственной истории, величия<br />
империи или сакрализацией державной<br />
власти 9 . Значимость подобных структур<br />
коллективного сознания объясняет слабость<br />
потенциала гражданской солидарности<br />
(девальвация частных интересов, их стерилизация<br />
перед лицом «величия» национального<br />
целого, монопольно представляемого<br />
властями), которая парализует возможности<br />
политических изменений в России.<br />
На вопрос (август 2009 года): «Как вы<br />
считаете, на ком прежде всего лежит ответственность<br />
за репрессии и потери нашей<br />
114 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
октябрь 2008 г. август 2010 г. апрель 2011 г. ноябрь 2012 г.*<br />
Определенно да 3 5 4 4<br />
В какой-то мере да 24 29 26 21<br />
Нет, их ничем нельзя оправдать 60 58 61 60<br />
Затрудняюсь ответить 13 9 10 7<br />
N=1600, в % к числу опрошенных<br />
* В этом опросе была введена опция «отказ от ответа», которую выбрали 8 проц. респондентов; эту группу можно с некоторой<br />
осторожностью или натяжкой сопоставить с вариантами ответа — «в какой-то мере да» и с «затрудняюсь ответить»,<br />
то есть рассматривать как мягкое уклонение от категорического выбора «да».<br />
страны в 30-е — начале 50-х годов ХХ века?»<br />
— 19 проц. ответили «на Сталине» и ровно<br />
столько же — «на государственной системе»,<br />
но относительное большинство (41<br />
проц.) не склонно разделять эти понятия<br />
и ответственность, объединяя Сталина и<br />
государство в одно целое (6 проц. считали<br />
виновными «врагов нашей страны» или<br />
называли еще какие-то другие причины, 15<br />
проц. затруднились с ответом). Такая картина<br />
массовых воззрений соответствует персоналистскому<br />
представлению об истории<br />
и социальной организации авторитарного<br />
социума и подтверждает вывод о слабой<br />
дифференциации социальной системы в<br />
новейшей России.<br />
Явный эффект пропаганды Сталина («расползание»<br />
этого пропагандистского пятна на<br />
поверхности массового сознания) сопровождается<br />
эрозией самого сталинского мифа о<br />
всемогущем диктаторе. Большая часть россиян<br />
не принимает такой модели национального<br />
правителя (см. пункты 6 и 7 в таблице 5<br />
на с. 113), но, не имея достаточных ресурсов<br />
для сопротивления государственной точке<br />
зрения, закрывается от болезненности самой<br />
проблемы, от собственной моральной несостоятельности<br />
и невозможности своей, независимой<br />
моральной оценки прошлого и уходит<br />
в комфортную позицию «мы еще не знаем<br />
всей правды о Сталине и его действиях».
Таблица 7<br />
Такую позицию выбирают абсолютное большинство<br />
опрошенных — 68 проц.; к ним следует<br />
добавить еще 19 проц. «затруднившихся<br />
с ответом», итого — 87 процентов. Иначе<br />
говоря, это практически всеобщая реакция на<br />
травму национального сознания 10 .<br />
Очень немногие россияне готовы следовать<br />
старой идеологической версии КПСС,<br />
сложившейся к ХХ съезду, которая представляла<br />
репрессии 1920—1950-х годов как<br />
историческую неизбежность в условиях<br />
враждебного окружения СССР или следствие<br />
острой «классовой борьбы» (см. таблицы 6<br />
на с. 114 и 7 на с. 115). Сегодня большая часть<br />
опрошенных склонна расценивать массовые<br />
репрессии как политическое преступление,<br />
не подлежащее оправданию.<br />
Однако, несмотря на признание бесчеловечного<br />
характера политики Сталина, основная<br />
масса населения России все равно не<br />
решается принять идею суда над Сталиным<br />
как носителем высшей власти, то есть признать<br />
персональную и правовую вину руководителя<br />
государства (а не частного, хотя и<br />
очень влиятельного человека), требующую<br />
юридической и моральной ответственности.<br />
В августе 2009 года социологи Левада-Центра<br />
задали вопрос: «Учитывая масштаб репрессий в<br />
сталинскую эпоху, согласны ли вы, что руководителя<br />
страны Иосифа Сталина следует считать<br />
государственным преступником?» «Согласны»,<br />
ответили 38 проц., были не согласны с этим<br />
44 проц. («в целом не могу так сказать» —<br />
32 проц. + «совершенно не согласен» — 12<br />
проц.); затруднились ответить — 18 процен-<br />
Дереализация прошлого: функции сталинского мифа<br />
С КАКИМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ МНЕНИЙ ПО ПОВОДУ ЭТИХ РЕПРЕССИЙ ВЫ БЫ СКОРЕЕ СОГЛАСИЛИСЬ?<br />
2007 г. 2011 г. 2012 г.<br />
Это была политическая необходимость, они исторически оправданны 9 14 13<br />
Это было политическое преступление, и ему не может быть оправдания 72 70 66<br />
Затрудняюсь ответить 19 16 21<br />
В % к числу опрошенных, N=1600<br />
тов. Иначе говоря, 62 проц. россиян отказались<br />
от признания необходимости дать государственно-правовую<br />
оценку сталинскому<br />
(=советскому) режиму.<br />
Большинство россиян не хочет ни возвращения<br />
культа Сталина, ни даже его<br />
частичной реабилитации; они против восстановления<br />
его памятников, снесенных<br />
при Никите Хрущёве, и тем более — против<br />
установления новых монументов в его<br />
честь, которые предлагали возвести некоторые<br />
депутаты Госдумы к 65-летию Победы<br />
над Германией. Столь же недвусмысленно<br />
большая часть респондентов (54—59 проц.<br />
на протяжении десятилетия 2001—2010<br />
годов) высказывались против возвращения<br />
Волгограду старого названия «Сталинград»,<br />
несмотря на весь героический ореол<br />
Сталинградского сражения 11 . Глубоко<br />
укорененный страх, который вызывает та<br />
эпоха, и затаенная антипатия к ее главному<br />
персонажу проявляется, среди прочего, и<br />
в откровенном нежелании жить и работать<br />
при таком руководителе государства, как<br />
Сталин (74 проц. опрошенных в 2008 году и<br />
67 проц. в 2012-м).<br />
Однако, несмотря на это, реакция населения<br />
на усилия кремлевской пропаганды вернуть<br />
Сталина в публичное пространство оказалась<br />
весьма парадоксальной. Возобладало,<br />
вопреки ожиданиям, равнодушие к самой<br />
проблеме: доля индифферентных выросла с<br />
12 проц. в 2000 году до 44 проц. в 2008-м, причем<br />
среди молодежи, на которую, собственно,<br />
и были направлены усилия путинских<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 115
Лев Гудков<br />
Таблица 8<br />
политтехнологов и пропагандистов, такие<br />
ответы стали доминирующими — 59 процентов.<br />
За 20 лет отношение к Сталину поменяло<br />
знак — с резко негативной оценки до признания<br />
«положительной в целом» его роли<br />
116 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
КАК ВЫ ЛИЧНО В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ К СТАЛИНУ?<br />
Положительно Безразлично Отрицательно<br />
Не знаю, кто<br />
такой Сталин<br />
Затруднились<br />
ответить +<br />
отказ от ответа<br />
В среднем 28 33 23 1 16<br />
Возраст<br />
18—24 21 41 19 3 17<br />
25—39 20 37 26 2 15<br />
40—54 25 33 26 1 15<br />
55+ 41 24 19 0 16<br />
Образование<br />
Высшее 24 34 26 1 14<br />
Среднее специальное 27 33 23 1 15<br />
Среднее общее 28 32 21 2 18<br />
Ниже среднего 34 31 19 0 16<br />
Место жительства<br />
<strong>Москва</strong> 18 27 46 1 18<br />
Большой город 26 28 24 1 20<br />
Средний город 22 36 26 3 14<br />
Малый город 30 39 16 1 14<br />
Село 35 30 18 1 16<br />
Пользование интернетом<br />
Новости + политика 21 35 31 1 13<br />
Все цели 21 36 26 1 16<br />
Не пользуются 29 8 43 4 15<br />
Род занятий<br />
Предприниматель 16 24 27 3 30<br />
Руководитель 30 40 21 - 9<br />
Специалист 24 29 29 2 16<br />
Служащий 20 38 23 1 18<br />
Рабочий 24 38 24 0 14<br />
Учащийся 14 44 22 5 14<br />
Пенсионер 47 24 16 0 14<br />
Домохозяйка 25 41 22 2 10<br />
Безработный 23 26 22 2 28<br />
Приводятся суммы ответов: положительное — «с восхищением»+ «уважением»+ «симпатией»; негативное — «с неприязнью,<br />
раздражением» + «страхом» + «отвращением, ненавистью».<br />
Сентябрь 2012 года, N=1600, в % к числу опрошенных<br />
в истории страны. За десять лет путинского<br />
правления снизилось как число тех, кто позитивно,<br />
по меньшей мере с уважением, относился<br />
к Сталину (с 38 до 31 проц.), так и тех,<br />
кто относился к нему «с отвращением, нена-
Таблица 9<br />
вистью и страхом» (с 43 до 24 проц.). Тот же<br />
характер распределения мнений подтвердил<br />
и самый последний опрос на эту тему, проведенный<br />
в сентябре 2012 года (см. таблицу 8<br />
на с. 116).<br />
Различия в восприятии Сталина между<br />
разными социальными группами невелики, но<br />
они есть: среди молодежи в целом, среди обра-<br />
Дереализация прошлого: функции сталинского мифа<br />
В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ СОГЛАСНЫ С СУЖДЕНИЕМ: 1) «СТАЛИН — МУДРЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ, КОТОРЫЙ ПРИВЕЛ СССР<br />
К МОГУЩЕСТВУ И ПРОЦВЕТАНИЮ»? 2) «СТАЛИН — ЖЕСТОКИЙ, БЕСЧЕЛОВЕЧНЫЙ ТИРАН,<br />
ВИНОВНЫЙ В УНИЧТОЖЕНИИ МИЛЛИОНОВ НЕВИННЫХ ЛЮДЕЙ»?<br />
Мудрый руководитель Жестокий тиран<br />
Согласны Не согласны<br />
Затруднились<br />
ответить<br />
Согласны Не согласны<br />
Затруднились<br />
ответить<br />
В среднем 50 37 14 68 19 13<br />
Мужчины 52 35 14 65 21 14<br />
Женщины 48 39 13 70 17 13<br />
Пол<br />
Возраст<br />
18—24 38 41 21 64 16 21<br />
25—39 44 41 14 72 16 12<br />
40—54 48 40 11 74 16 11<br />
55+ 61 27 11 60 27 14<br />
Образование<br />
Высшее 45 43 13 71 19 11<br />
Среднее общее 46 41 14 70 16 13<br />
Неполное среднее,<br />
начальное<br />
60 28 13 63 23 15<br />
Тип поселения<br />
<strong>Москва</strong> 46 44 9 76 14 10<br />
Большой город<br />
(свыше 500 тыс.<br />
человек)<br />
44 44 12 71 19 10<br />
Средний город 43 41 16 65 18 17<br />
Малый город (до<br />
250 тыс. человек)<br />
52 33 15 71 15 15<br />
Село 59 29 12 62 26 12<br />
Семейный доход<br />
Высокий 45 43 12 74 14 11<br />
Средневысокий 45 40 15 69 18 14<br />
Средненизкий 54 35 11 65 23 12<br />
Низкий 59 31 11 64 24 12<br />
Затруднились<br />
ответить<br />
2011 год; в % к числу опрошенных<br />
49 32 19 63 18 19<br />
зованных и городских жителей поклонников<br />
Сталина (относятся к Сталину «с уважением»)<br />
или тех, кто разделяет «сталинский миф»,<br />
несколько меньше, чем среди пожилых и малообразованных<br />
россиян, особенно сельского<br />
населения или населения малых городов. Дело<br />
не только в том, что бедная и депрессивная,<br />
стагнирующая — а местами деградирующая<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 117
Лев Гудков<br />
— провинция является свое образным хранилищем<br />
советских представлений, сколько в<br />
том, почему это происходит. Там, где социально-структурная,<br />
институциональная дифференциация<br />
подавлена, сложность жизни<br />
выражена в минимальной степени; там сохраняется<br />
примитивный, партикуляристский,<br />
преимущественно личный тип коммуникаций<br />
и институционального взаимодействия. Там<br />
цена человеческой жизни крайне низка (в<br />
том числе в буквальном смысле — стоимость<br />
жизни). Но именно там особое значение приобретают<br />
институты, компенсирующие эту<br />
неразвитость навязанными сверху — школой и<br />
телевизионной пропагандой — коллективными<br />
символами и представлениями. Напротив,<br />
в крупных городах укрепляются ценности<br />
индивидуализма как явления, сопутствующего<br />
усложнению социальной жизни, и это оборачивается<br />
неприятием сталинского мифа (а не<br />
просто безразличием к нему) (см. таблицы 8 на<br />
с. 116 и 9 на с. 117).<br />
Сопротивление рационализации<br />
истории<br />
Уже в 1990 году 62 проц. опрошенных заявили<br />
о том, что пресса, ТВ уделяют «критике<br />
сталинизма» и «разоблачению преступлений<br />
Сталина» слишком много внимания. Эта проблематика<br />
явно стала надоедать 12 . В СМИ<br />
и выступлениях политиков отчетливо прозвучало:<br />
хватит очернять наше славное прошлое!<br />
По существу, эти мотивы никуда не<br />
уходили, оставаясь действенными инструментами<br />
дискредитации сторонников реформ и<br />
либералов. В феврале 2011 года группа правозащитников<br />
и политологов обратилась к<br />
президенту Дмитрию Медведеву с предложением<br />
широкой кампании «десталинизации»,<br />
без которой провозглашенная Медведевым<br />
«модернизация России» и «становление<br />
правового государства» не могут быть осуществлены.<br />
С такими же идеями выступали и<br />
некоторые оппозиционные демократические<br />
118 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
партии. В условиях начавшейся в России<br />
предвыборной президентской кампании<br />
политическая программа такого рода воспринималась<br />
российскими либералами как<br />
последняя возможность изменения государственной<br />
политики: не просто отход<br />
от путинского курса на «стабильность», а<br />
возвращение к тем реформам и планам демократического<br />
транзита, которые не были<br />
завершены в 1990-е годы правительством<br />
Бориса Ельцина. Эти инициативы вызвали<br />
яростное сопротивление как идеологов<br />
«партии власти» («Единой России»), так и<br />
коммунистов и националистов. Программа<br />
правозащитников была воспринята идеологической<br />
обслугой режима как провокация,<br />
нацеленная «на разъединение и развал общества»,<br />
навязывание представлений о том,<br />
что «вся Россия — это большая Катынь»,<br />
на раскол правящего класса и его партии<br />
«Единая Россия» 13 . Особенно резко против<br />
этой программы выступали коммунисты.<br />
Как писал один из историков, преподаватель<br />
философии, сторонник КПРФ, Михаил<br />
Ломаков, «сталинское правление учитывало<br />
менталитет русского народа, а власть либералов<br />
отторгается как чужеродная ткань».<br />
Называя медведевскую «модернизацию»<br />
«утопией», он утверждал, что «на фоне того,<br />
что произошло за последние 20 лет, советское<br />
время, прежде всего сталинская эпоха,<br />
выглядит если не идеальным, то романтическим<br />
временем, временем трудовых и боевых<br />
свершений. А символ этого времени — Иосиф<br />
Сталин». Он утверждал, что либералы хотят<br />
уничтожить Сталина потому, что понимают,<br />
что сегодня перед лицом угрозы полного подчинения<br />
Западу в стране есть социальный<br />
запрос на личность, подобную Сталину 14 .<br />
Мотив опасности, исходящей от Запада,<br />
который навязывает России «демократию»<br />
для того, чтобы превратить ее в свою сырьевую<br />
колонию, повторяется и Путиным, и<br />
кремлевской пропагандой. Значительной
части российского населения он кажется<br />
убедительным, поскольку соответствует идеологическим<br />
стереотипам времен холодной<br />
войны, духу закрытого общества, который<br />
присутствует в нашей стране и сегодня, хотя<br />
и в ослабленном виде. Путинское руководство<br />
заинтересовано в сохранении подобных<br />
стереотипов и активно работает в этом<br />
направлении. Такой ход снижает значимость<br />
всех обвинений в адрес Сталина, «обезвреживает»<br />
критику Сталина, идущую еще от<br />
доклада Хрущёва на ХХ съезде КПСС. Самая<br />
простая тактика такого рода — поставить под<br />
сомнение сами обвинения либо очернить<br />
обвиняющих. Однако она была успешной<br />
лишь применительно к незначительным по<br />
масштабу группам убежденных сталинистов,<br />
в основном пенсионеров, как правило бывших<br />
функционеров (партийных активистов)<br />
или бюрократов. С тем, что «сталинские<br />
репрессии» — это «выдумка, имеющая целью<br />
опорочить великого вождя», согласились<br />
лишь 16 проц. россиян (1996 год; 5 проц. —<br />
в 2007 году). Но на вопрос: «Согласны ли<br />
вы с тем, что масштабы репрессий во времена<br />
Сталина сильно преувеличены?» — утвердительно<br />
отвечали уже около трети всех опрошенных<br />
(29 проц. в июле 1996 года), хотя<br />
не соглашалось с этим мнением заметно<br />
большее число — 43—49 процентов. (Было бы<br />
странным, если бы несогласных было меньше,<br />
поскольку террор захватил значительную<br />
часть населения: даже 15 лет спустя, в 2011<br />
году, 28 проц. опрошенных ответили, что в<br />
их семьях были репрессированные.) Другой<br />
вариант защиты — утверждения, будто<br />
репрессии были связаны лишь с «чистками»<br />
в партии и касались либо в основном полити-<br />
Дереализация прошлого: функции сталинского мифа<br />
ческих «верхов», либо «действительных врагов<br />
народа», также был принят относительно<br />
небольшим числом опрошенных (18 проц. и<br />
9 проц., соответственно, в 2007 году; 14 проц.<br />
и 10 проц. в 2011 году).<br />
Цепочка аргументов, которые высказывают<br />
противники рационализации тоталитарного<br />
прошлого, сводится к следующему:<br />
критика Сталина, исходящая из лагеря либералов<br />
и демократов, строится на отождествлении<br />
коммунизма и советского режима с<br />
нацизмом, а это ведет к умалению величия<br />
Победы советского народа во Второй миро-<br />
“В крупных городах укрепляются ценности индивидуализма,<br />
происходит усложнение социальной жизни, и это<br />
оборачивается неприятием сталинского мифа”.<br />
вой войне и оскорблению памяти павших<br />
защитников отечества, священной для<br />
выживших и последующих поколений. Этот<br />
мотив очень существен для сохранения<br />
национальной идентичности современной<br />
России. Такой демагогический ход (подмена<br />
тезиса о сходстве или общности двух режимов<br />
обвинениями в оскорблении ветеранов<br />
и кощунстве по отношению к национальным<br />
символам) возможен только при наличии<br />
непреходящей, но и не рационализированной<br />
памяти о коллективном насилии, в<br />
которой национальная гордость и травма<br />
сталинизма образуют неразрывное единство<br />
и язык для идеологии национального самоутверждения<br />
(«комплекс жертвы») 15 .<br />
Данные массовых опросов не показывают<br />
истерической реакции на этот тезис,<br />
характерной для консервативных идеологов.<br />
На вопрос: «Можно ли, по вашему мнению,<br />
говорить про общие черты в тех государственных<br />
системах, которые построили в 30-е годы<br />
ХХ века Сталин в Советском Союзе и Гитлер в<br />
Германии?» — 11 проц. ответили, что, «конечно,<br />
в них есть много общего», еще 32 проц.<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 119
Лев Гудков<br />
Таблица 10<br />
КОГО, КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, СЛЕДУЕТ ОТНОСИТЬ К ЖЕРТВАМ СТАЛИНСКИХ РЕПРЕССИЙ?<br />
Всех осужденных по политическим статьям 71<br />
в том числе: только расстрелянных по этим статьям 9<br />
Осужденных за то, что попали в плен во время войны 45<br />
Членов семей осужденных по политическим статьям, выселенных с постоянного места жительства, уволенных<br />
с работы или ограниченных<br />
Раскулаченных 38<br />
Осужденных с нарушениями обычной судебной процедуры («тройками» или в ускоренном судебном<br />
порядке)<br />
Спецпереселенцев (включая репрессированные народы) 29<br />
Осужденных за нарушения трудовой дисциплины (опоздание на работу более 20 минут и т. п.) 25<br />
Членов семей осужденных по политическим статьям, не пораженных в правах 10<br />
Затрудняюсь ответить 11<br />
Апрель 2011 года; в % к числу опрошенных<br />
согласились с тем, что «да, в них есть отдельные<br />
общие черты», 19 проц. не нашли ничего<br />
общего между этими режимами, и лишь еще<br />
22 проц. категорически возражали против<br />
подобного сопоставления – «сравнивать<br />
СССР и нацистскую Германию, Сталина и<br />
Гитлера совершенно недопустимо» (16 проц.<br />
затруднились с ответом). Другими словами,<br />
готовность к символической и психологической<br />
защите сверхценного персонажа,<br />
снятию с него ответственности проявляет<br />
относительно небольшая часть российского<br />
общества.<br />
Для общественного мнения гораздо важнее<br />
в функциональном плане тезис о том, что<br />
репрессии были тотальными и социально<br />
ненаправленными, что они охватывали все<br />
категории населения и социальные группы.<br />
(Иначе невозможно удержать тезис об иррациональности<br />
террора.) Поэтому на вопрос<br />
(апрель 2011 года): «Кто, на ваш взгляд, подвергался<br />
репрессиям в 1937—1938 годах?» — лишь<br />
11 проц. заявили: «Те, кто был явно или<br />
скрыто настроен против советской власти»,<br />
еще 8 проц. — «Наиболее преданные сторонники<br />
советской власти», 23 проц. дали<br />
ответ — «Наиболее способные и авторитетные<br />
люди», но относительное большинство —<br />
120 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
48 проц. опрошенных сказали: «Все без разбора,<br />
по произволу властей или доносам».<br />
Иначе говоря, преступления советской власти<br />
совершались, по мнению большей части<br />
населения, именно против всего народа, а не<br />
какой-то отдельной группы. Жертва — народ<br />
в целом. Причем важно, что массовое сознание<br />
не склонно относить к пострадавшим от<br />
репрессий только тех, кто попал в эту мясорубку<br />
лишь в годы большого террора; люди<br />
в массе своей понимают репрессии гораздо<br />
шире и включают сюда и военнопленных, и<br />
раскулаченных, и спецпереселенцев, и членов<br />
семей репрессированных (см. таблицу<br />
10 на с. 120).<br />
Поэтому для абсолютного большинства<br />
россиян не возникает затруднений, когда их<br />
спрашивают: нужна «программа десталинизации»<br />
или нет? Все без исключения пункты<br />
этой программы российское общество признает<br />
как необходимые, а саму программу как<br />
давно назревшую (см. таблицу 11 на с. 121).<br />
Изменения социально-культурного<br />
фона постсоветского общества<br />
Но именно поэтому вопрос: что стоит за<br />
расширяющимся признанием «величия<br />
Сталина»? — требует ответа. Более ранние<br />
42<br />
36
Таблица 11<br />
интерпретации этих фактов: сокращение<br />
фактического знания о сталинской эпохе,<br />
имморализм российского общества, слабость<br />
моральных авторитетов, государственный<br />
сервилизм и «молчание» профессиональных<br />
историков, общий оппортунизм образованных<br />
слоев, а также эффективность кремлевской<br />
пропаганды, нуждающейся в освящении<br />
нынешнего коррумпированного режима<br />
заимствованным «величием» прошлого, и<br />
прочее — справедливы, но недостаточны 16 .<br />
Они не объясняют самого механизма возвращения<br />
Сталина и вытеснения практик государственного<br />
террора из массовой памяти,<br />
из сферы публичности.<br />
Рассмотрим контекст произошедших за 20<br />
лет изменений, выделив пять наиболее значимых<br />
для нашей темы моментов:<br />
1. Две перемены политических режимов:<br />
советская политическая система рухнула и<br />
заместилась ельцинским правлением, условно<br />
говоря, «переходным к демократии»,<br />
которое, в свою очередь, после кризиса 1998<br />
года сменилось путинским авторитаризмом.<br />
Смены типов господства сопровождались<br />
циркуляцией и перетряской персонального<br />
Дереализация прошлого: функции сталинского мифа<br />
ВЫ БЫ ЛИЧНО ПОДДЕРЖАЛИ ИЛИ НЕТ…<br />
Увековечивание памяти жертв репрессий (создание Книг памяти<br />
жертв тоталитарного режима, установка во всех крупных<br />
городах и в местах гибели памятников жертвам репрессий)?<br />
Да Нет<br />
Затруднились<br />
ответить<br />
70 19 11<br />
Социальную поддержку ныне живущих жертв репрессий? 78 12 10<br />
Государственную политико-правовую оценку практики массовых<br />
репрессий?<br />
64 14 22<br />
Рассекречивание архивов о массовых репрессиях? 68 18 14<br />
Завершение процесса юридической реабилитации граждан,<br />
осужденных по политическим мотивам в разные периоды<br />
советской истории?<br />
Принятие закона, запрещающего увековечивать в названиях<br />
населенных пунктов, улиц и площадей память лиц, несущих<br />
ответственность за массовые репрессии?<br />
N=1600, май 2011 года, в % к числу опрошенных<br />
72 13 15<br />
53 25 22<br />
состава элит, вектором идеологии и, соответственно,<br />
характером легитимации политической<br />
власти. За установлением авторитарного<br />
режима, естественным образом, последовало<br />
вытеснение политики из общественной<br />
жизни и восстановление привычного состояния<br />
«наученной беспомощности» масс.<br />
2. Ушло — не в демографическом, а в общественном<br />
смысле — поколение, жившее и<br />
в сталинское, и в последующее советское<br />
время, а значит, обладавшее личным опытом,<br />
непосредственным, повседневным знанием<br />
той эпохи. (Жили и помнят это время<br />
сегодня 6 проц. населения, многое слышали<br />
от старших и знают об этом 13 процентов.)<br />
Это знание (в силу закрытости общества и<br />
отсутствия необходимых интеллектуальных<br />
средств) не стало, и не могло стать, предметом<br />
публичной рефлексии, моральной<br />
и социологической рационализации прошлого.<br />
Взгляды и ценности этого поколения<br />
перестали быть значимыми для молодых.<br />
Соответственно, увеличивается доля опосредованного,<br />
препарированного знания.<br />
3. С распадом советской системы закончилось<br />
существование двусмысленной<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 121
Лев Гудков<br />
Советская интеллигенция как социальный феномен<br />
оветская интеллигенция<br />
С(или, точнее, советская<br />
репродуктивная бюрократия)<br />
как особое явление стала заметной<br />
лишь после войны, хотя<br />
сами институциональные предпосылки<br />
для ее функционирования<br />
(новые, идеологизированные<br />
образовательные учреждения)<br />
были созданы уже в<br />
середине 1930-х годов. Первый<br />
поток советских «специалистов»<br />
(учителей, профессоров, редакторов,<br />
журналистов и другой<br />
продукции новых, коммунистических<br />
вузов), с характерными<br />
для них идентичностью «строителей<br />
нового общества», изоляционизмом,<br />
директивным,<br />
«проектным» и антиисторическим<br />
образом мысли, принципиально<br />
отличался от людей,<br />
получивших дореволюционное<br />
университетское образование.<br />
Эти выпуски в значительной<br />
степени были «вымыты» войной<br />
и чистками 1930—1940-х<br />
годов. Потребовалось время,<br />
чтобы заново запустить во второй<br />
половине 1940-х—начале<br />
1950-х годов «производство»<br />
советских интеллигентов.<br />
Второй поток был представлен<br />
поколением людей, которые<br />
интеллигентской культуры 1960—1980-х<br />
годов с ее специфическим сервилизмом и<br />
сопротивлением государственному насилию;<br />
именно она была держателем нормы гуманизма<br />
в советском обществе (см. подверстку на<br />
с. 122); с крахом интеллигенции резко ослабла<br />
культура страха и памяти. Специфическая<br />
интеллигентская культура послесталинской<br />
эпохи возникла (одновременно с критикой<br />
«культа личности» 17 Сталина) в качестве<br />
самообоснования репродуктивной бюрократии<br />
советского времени. Стимулами для<br />
122 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
видели 1937 год и пережили<br />
войну, шок ХХ съезда и подавление<br />
венгерского восстания,<br />
а затем и поражение Пражской<br />
весны. Их отличал особый опыт<br />
выживания и готовность к приспособлению;<br />
они не знали и не<br />
могли мечтать о другой жизни,<br />
кроме жизни в закрытом обществе.<br />
Интеллигентская культура<br />
отличалась своеобразной двойственной<br />
структурой: большая<br />
часть ее представителей занималась<br />
обслуживанием власти<br />
(подготовка кадров, оправдание<br />
власти и ее политики, цензура,<br />
технологическое обеспечение<br />
массового управления и т. п.);<br />
но для предъявления ее — коллективных<br />
или институциональных<br />
— претензий на значимые<br />
социальные позиции интеллигенции<br />
требовалась известная<br />
степень автономности, защита<br />
этого статуса и признание со<br />
стороны власти значимости знаний,<br />
культуры, продуктивности,<br />
без которых собственный авторитет<br />
интеллигенции сводился к<br />
нулю, то есть был бы ограничен<br />
лишь функцией исполнения<br />
начальственных указаний. Дело<br />
не в том, что определенная<br />
часть интеллигенции искренне<br />
и бескорыстно боролась за<br />
свободу духа, слова и мысли;<br />
дело в том, что за возможностью<br />
признания этих ценностей<br />
стоял вполне определенный<br />
корпоративный и социальный<br />
интерес: только при условии<br />
утверждения этих ценностей<br />
и компетенций в обществе<br />
(и усвоении этой мысли даже<br />
советским начальством) желаемый<br />
высокий социальный статус,<br />
авторитетность и престиж<br />
(вместе со всякого рода привилегиями,<br />
материальными благами,<br />
премиями и наградами)<br />
мог быть достижим хотя бы для<br />
части интеллигенции. Поэтому<br />
наряду с искренним холопством<br />
интеллигенции в ней всегда<br />
присутствовал периферийный<br />
слой носителей высокой культуры,<br />
потребность в «учителях<br />
жизни», сознание необходимости<br />
«совести нации», как называли<br />
подобных персонажей,<br />
правда, обычно после их смерти.<br />
Благодаря этой двойственности<br />
интеллигентской культуры<br />
в обществе удавалось сохранять<br />
некоторое подобие моральных<br />
координат реальности, которые<br />
после ее ухода подверглись<br />
стремительной эрозии.<br />
осмысления опыта прошлого стала война,<br />
вина власти за поражения первых лет, за<br />
громадные потери и безжалостное растрачивание<br />
людей, сговор Сталина с Гитлером и<br />
тем самым — провоцирование войны, безответственность<br />
руководства на всех уровнях,<br />
стремление определить цену сохранения<br />
советской власти. Носителем этой культуры<br />
было не само военное поколение, а непосредственно<br />
следующее за ним — рождения<br />
1930—1940-х годов 18 . Лишь этот единственный<br />
слой производил «понимание» совет-
ской истории. Интеллигенция держалась до<br />
тех пор, пока сохранялась советская власть,<br />
которая обеспечивала ее существование, а<br />
затем этот слой рассыпается, деградирует<br />
и интеллектуально и морально и исчезает,<br />
оставляя за собой пространство цинизма и<br />
недоразумения. Распад государственной организации<br />
культуры и замещение ее массовой<br />
культурой (это два независимых друг от друга<br />
процесса, не связанных причинно-следственными<br />
отношениями) привели к разрушению<br />
связей между центром и периферией, к изменениям<br />
в механизмах передачи образцов от<br />
«интерпретаторов» или носителей высокой<br />
культуры к реципиентам — потребительским<br />
группам, зависимым в интеллектуальном и<br />
моральном плане.<br />
Следствием подобных изменений оказалась<br />
устойчивая тенденция к общей примитивизации<br />
общественной жизни. Как<br />
показывают социологические исследования,<br />
определенное — и более проработанное —<br />
отношение к Сталину сохранилось лишь<br />
у тех, кто сознает опасность повторения<br />
репрессий, кто боится их. Лишь у них —<br />
поскольку они способны учитывать исторические<br />
уроки — сохраняется историческая<br />
память о той эпохе и характере советской<br />
системы; понятно, что это образованные,<br />
пусть даже и поверхностно образованные,<br />
группы, обладающие некоторыми интеллектуальными<br />
средствами рефлексии и культурными<br />
ресурсами; они более встревожены<br />
ситуацией в стране, более критически относятся<br />
к нынешней власти, понимая потенциал<br />
исходящей от нее угрозы 19 . Поэтому после<br />
ухода интеллигентской культуры, в образовавшейся<br />
пустоте идей и представлений о<br />
будущем, уже при Путине, в окружении которого<br />
особую роль играли бывшие сотрудники<br />
КГБ (родившиеся позже, в начале 1950-х<br />
годов, прошедшие социализацию в условиях<br />
брежневского безвременья, реакции и наступившей<br />
деморализации), в идеологической<br />
Дереализация прошлого: функции сталинского мифа<br />
практике воцарился дух мстительного консерватизма,<br />
реванша и демонстрации наглой<br />
силы.<br />
4. Наряду с изменениями в институциональной<br />
системе общества произошли<br />
изменения и в структуре механизмов и<br />
каналов репродукции исторической памяти.<br />
Каналы информированности (знания) — это<br />
не случайные «путепроводы» исторических<br />
сведений, а институциональные средства<br />
воздействия на общество (социализация,<br />
идеологическая индоктринация или, напротив,<br />
нейтрализация определенных взглядов<br />
и мнений, стерилизация и вытеснение<br />
страшного опыта сталинского времени).<br />
Изменение в их структуре непосредственно<br />
отражается на характере массовых представлений<br />
и оценок прошлого. Во-первых,<br />
сократился до минимума удельный вес письменной<br />
культуры — художественной литературы,<br />
исторической публицистики, дававших<br />
ранее основную долю критической интерпретации<br />
сталинской эпохи 20 . Во-вторых,<br />
пропорционально этому сокращению вырос<br />
объем школьных знаний о сталинской эпохе,<br />
препарированных и идеологизированных в<br />
соответствии с установками власти, а потому<br />
— скучных, безжизненных, оторванных от<br />
этических проблем молодого поколения 21 .<br />
В-третьих, основная роль производства представлений<br />
о сталинском времени перешла к<br />
государственным каналам телевидения, где<br />
историческая эпоха зачастую представлена<br />
в форме «глянцевой», мелодраматической<br />
череды событий частной жизни, разыгрываемых<br />
на фоне иррационального и беспричинного<br />
общественного террора 22 . В-четвертых,<br />
резко вырос объем и влияние массовой исторической<br />
паралитературы и гламурной продукции,<br />
выстраивающей освещение исторического<br />
прошлого по моделям авантюрной,<br />
конспирологической или развлекательной и<br />
«желтой прессы» 23 . Распространение, хотя<br />
масштабы его и не следует переоценивать,<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 123
Лев Гудков<br />
получили работы о Сталине, написанные в<br />
канонах националистической (конспирологической,<br />
антисемитской или антизападной)<br />
или бульварной, авантюрной прессы 24 .<br />
В конечном счете сталинская эпоха откладывается<br />
в массовом сознании как время<br />
диффузного, беспредметного, иррационального<br />
ужаса. Оттого, что государственная<br />
организация общества, живущего в условиях<br />
террора и массовых репрессий, остается вне<br />
рамок публичного рассмотрения, теряется<br />
и самый смысл террора и репрессий. Иначе<br />
говоря, в массовой культуре нынешнего времени,<br />
путинской стабильности (а значит — и<br />
в массовом сознании) репрессии поданы<br />
в качестве инициатив отдельных «плохих<br />
людей», как проявление частных корыстных<br />
интересов (разного уровня — от сталинской<br />
«паранойи» и карьерных интриг до доносительства<br />
соседей, стремящихся захватить<br />
комнату в коммуналке). Самое важное, что<br />
производится этой поточной продукцией,<br />
— это отсутствие в представлениях о<br />
сталинской эпохе идеи социального взаимодействия,<br />
а стало быть, подавление понятия<br />
субъективной ответственности за те или<br />
иные поступки и действия. Мир, реальность<br />
в этой картине непредсказуемы, поскольку<br />
не подчиняются воле и разуму отдельного<br />
индивида. Ощущение тотального страха или<br />
не определенной угрозы, идущей отовсюду,<br />
опасности, исходящей от любого представителя<br />
власти, партийного функционера<br />
или сотрудников органов, коллег по работе,<br />
желающих выслужиться перед начальством,<br />
случайных попутчиков и т. п., не только отражает<br />
сегодняшнее массовое знание о репрессиях<br />
того времени, но и переносит на него<br />
современное сознание рядового обывателя,<br />
который живет с ощущением своей уязвимости,<br />
правовой и социальной незащищенности<br />
от окружающего произвола. Именно<br />
в контексте такой системы восприятия<br />
реальности возникает или принимается мас-<br />
124 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
совым сознанием фигура экстраординарного<br />
вождя — всевластного и всемогущего руководителя<br />
огромного государства, охватывающего<br />
взором все происходящее в стране.<br />
Подобная интерпретация времени террора<br />
и лишенного смысла государственного насилия<br />
резко отличается от понимания сталинского<br />
периода в тех странах (Центральной<br />
и Восточной Европы), где усилиями политиков,<br />
юристов, философов, историков,<br />
правозащитников прошли рационализация<br />
и глубокое переосмысление прошлого. Там<br />
темой или предметом изображения все чаще<br />
оказывается не только государственная машина,<br />
бездушная «система», отбирающая во<br />
власть догматиков и конформистов, садистов<br />
или слепых исполнителей чужой воли, но и<br />
соблазн «зла» — обаяние или притяжение тех<br />
идей и коллективных мифов, которые обернулись<br />
апологией принуждения и причиной<br />
общей моральной и культурной деградации<br />
тоталитарных обществ (национализма, марксизма<br />
и проч.). «Хорошие» или «обычные<br />
люди» поданы авторами ТВ-сериалов как<br />
пассивные жертвы обстоятельств, которые<br />
они не в состоянии контролировать и тем<br />
более изменять. Телевизионные передачи на<br />
«исторические темы», сталинские сериалы<br />
оставляют за рамками внимания и сюжетного<br />
нарратива несколько вещей, принципиально<br />
важных для осмысления прошлого: характер<br />
и структуру социальной организации<br />
советского общества сталинского времени,<br />
номенклатурный принцип власти (сращения<br />
партии и государства), функции идеологии,<br />
социальную направленность репрессий и<br />
другие особенности функционирования тоталитарных<br />
режимов. При этом теряется главное<br />
— субъектность представлений об истории<br />
(история как взаимодействие различных<br />
действующих лиц) и, следовательно, институциональная<br />
природа государственного насилия<br />
и его последствия для морали общества<br />
(оснований общественной солидарности).
Разумеется, жанр сериала и не предполагает<br />
такой глубины осмысления; существенно,<br />
однако, что глубинное осмысление отсутствует<br />
и в современной российской литературе<br />
более высоких жанров, а также в политическом<br />
дискурсе, отчего сериалы о сталинском<br />
времени падают в концептуальную «пустоту».<br />
Акцент на «психологических» драмах и переживаниях<br />
маленьких людей оборачивается<br />
мелодраматизацией истории, лишает зрителя,<br />
читателя, реципиента этой медиальной<br />
продукции интеллектуальных средств понимания<br />
особенностей той эпохи, общих рамок<br />
ее интерпретации. История вроде и «есть»,<br />
знакомые еще по школе события проиллюстрированы<br />
костюмированными актерами,<br />
но суть тех событий, ценностно-эмоциональный<br />
акцент и соотношение моральных<br />
оценок смещены или отодвинуты на дальний<br />
план. Возникает эффект вытеснения определенных,<br />
значимых звеньев происходившего,<br />
ведущего к деперсонализации жертв и разыдентификации<br />
с ними, бесчувствия к ним или<br />
отсутствия к ним вообще какого-либо отношения.<br />
Это явление немецкие психоаналитики<br />
Александр и Маргарет Митчерлих назвали<br />
«дереализацией прошлого» 25 . Дереализация<br />
не означает полное исчезновение прошлого,<br />
но всегда — его переформатирование, перекомпоновку,<br />
как правило производимую по<br />
лекалам или шаблонам мифа (когда причина<br />
и следствия многократно меняются местами,<br />
а действующий персонаж превращается<br />
в пассивную жертву непреодолимых сил и<br />
обстоятельств). Поэтому дереализация прошлого<br />
(устранение субъективной ответственности)<br />
сопровождается резким упрощением<br />
или — что то же самое — архаизацией созна-<br />
Дереализация прошлого: функции сталинского мифа<br />
ния, в том числе и представлений о прошлом.<br />
Всплывает нуминозный пласт сознания —<br />
представления о несоизмеримой с человеком<br />
мощи и силы государства, сакрализация<br />
власти как символического воплощения<br />
коллективных ценностей и ничтожности в<br />
сравнении с ним, неценности частного, индивидуального<br />
человеческого существования,<br />
получающего свой смысл только в обратной<br />
проекции на него значений государства.<br />
Примечательно, что при таких аберрациях<br />
сознания образы прошлого четко отделяются<br />
от настоящего, разрываются отношения<br />
“В массовой культуре нынешнего времени репрессии<br />
поданы в качестве инициатив отдельных «плохих<br />
людей», как проявление частных корыстных интересов”.<br />
эмпатии между зрителем и героями исторического<br />
изображения.<br />
Дискуссии о сталинском прошлом, которые<br />
идут в академических научных или<br />
университетских кругах, носят несколько<br />
стерильный характер, то есть не выходят<br />
в публичную сферу, не ставят своей целью<br />
воздействовать на общественный дискурс<br />
и менять характер массового понимания<br />
того времени. В массовых представлениях<br />
со времен перестройки установился консенсус<br />
относительно Сталина как крупнейшего<br />
советского государственного деятеля, продолжателя<br />
ленинской политики «диктатуры<br />
пролетариата» и создателя мощного репрессивного<br />
государства, внутрипартийного<br />
аппаратного интригана и организатора<br />
массового террора и т. п. И одновременно<br />
здесь же обнаруживается сильнейшее сопротивление<br />
любым попыткам ввести изучение<br />
сталинизма в контекст сравнительно-типологического<br />
анализа режимов тоталитарного<br />
типа. Инициатива изучения сталинизма<br />
перешла к общественным организациям,<br />
среди которых ведущее место, бесспорно,<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 125
Лев Гудков<br />
принадлежит «Мемориалу», и отдельным<br />
независимым историкам (таким, например,<br />
как Олег Хлевнюк, Сергей Красильников,<br />
Владимир Хаустов и их коллегам), связанным<br />
с зарубежными фондами и университетами и,<br />
естественно, предлагающим трактовки истории,<br />
отличные от официальных. Огромную<br />
работу ведет негосударственное издательство<br />
РОССПЭН, выпускающее многотомную<br />
серию работ отечественных и зарубежных<br />
историков и политологов «История сталинизма»<br />
(за последние годы вышло несколько<br />
десятков книг), но тираж этих работ обычно<br />
не превышает одну-две тысячи экземпляров,<br />
они дороги, а потому малодоступны для преподавателей<br />
школ и университетов, особенно<br />
в провинции, где уровень жизни в два-три<br />
раза ниже, чем в Москве. Такой же высокой<br />
оценки заслуживает и работа Комиссии по<br />
реабилитации жертв политических репрессий<br />
Александра Николаевича Яковлева, выпустившей<br />
под эгидой Международного фонда<br />
«Демократия» свыше семидесяти томов документов<br />
и материалов о сталинской эпохе.<br />
Однако перечисленные выше работы всегда<br />
оказываются в тени и малоизвестны широкой<br />
публике. Во всяком случае, по сравнению<br />
с влиянием, известностью и признанием их<br />
коллег за рубежом, общественное влияние<br />
академических историков в России более чем<br />
скромное.<br />
В результате имеет место специфическая<br />
«разгрузка» — тривиализация или банализация<br />
представлений о советском прошлом,<br />
которое моделируется по сегодняшним лекалам<br />
зависимого от власти человека; более<br />
того, прошлое превращается в набор отдельных<br />
сцен и картин бессубъектной истории, и<br />
126 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
тем самым специфика тоталитарного общества,<br />
«партии-государства» вытесняется из<br />
сферы актуальной публичности. По существу,<br />
на сталинское время переносится модель<br />
самопонимания человека путинского времени,<br />
обесцененная, обезличенная стихия<br />
социальности, характерная для нынешнего<br />
режима. Именно «иррациональный» характер<br />
истории (и «суверенизация» всей сферы<br />
власти) защищает нынешний режим от рационально-прагматической<br />
критики: «брюзжание<br />
недовольных» не касается сущностной<br />
стороны значений власти, а лишь указывает<br />
“Путинский режим — это консервативная реакция<br />
на период институциональных изменений и массовой<br />
фрустрации, вызванной сломом советской системы”.<br />
на несоответствие эмпирических проявлений<br />
власти ее скрытым смыслам. Тем самым<br />
произвол становится нормой отношения подданных<br />
к власти и к самим себе 26 .<br />
5. В 2000-е годы в России формируется<br />
«общество потребления», которое характеризуется<br />
коротким временным горизонтом,<br />
ценностными императивами «здесь и<br />
сейчас» 27 . Идеология общества потребления<br />
противоречит и разрушает этос мобилизационного<br />
общества и его структуры.<br />
Мотивация и смысл «потребления» в 2000-е<br />
годы мало связаны с гратификацией личного<br />
труда, напротив, в очень большой степени<br />
потребительская мораль стала выражением<br />
«подавленных» или «отложенных желаний»<br />
родителей нынешних потребителей, проживших<br />
свою жизнь в условиях социалистической<br />
уравниловки и принудительного<br />
аскетизма планово-распределительной<br />
экономики. От их образа жизни молодое<br />
поколение стремится всячески дистанцироваться<br />
как от «совкового прошлого», идентифицируя<br />
себя с жизнью в «нормальных<br />
странах». Неконвенциональное прошлое (то
есть такое, которое лишено символической<br />
связи с величием национального целого —<br />
без георгиевских ленточек и «спасибо деду<br />
за Победу») в нынешней гламурной культуре<br />
оказывается не функциональным и избыточным,<br />
более того — порождающим дискомфорт<br />
и диссонанс в массовых установках<br />
на потребление. Оно выпадает из значений<br />
реальностей настоящего. Ненужной оказывается<br />
сама модальность, связанная с необходимостью<br />
осмыслить травматический опыт<br />
прошлого (в том числе национального стыда<br />
и страха). Отказ от прошлого означает, что<br />
будущее предстает как бесконечная или<br />
многократная итерация настоящего (с повышением<br />
качества потребления). Такой тип<br />
ценностных регулятивов делает ничтожной<br />
значимость культуры, а вместе с ней и представления<br />
о более сложных запросах и понимании<br />
жизни, чем нормы потребительского<br />
образа жизни. Нынешняя деэтатизация ценностных<br />
запросов и ориентаций (ослабление<br />
идеологии государственного патернализма в<br />
среде самых продвинутых групп населения)<br />
в сочетании с сознанием подавленных возможностей<br />
политического участия легко соединяет<br />
потребительский гедонизм с готовностью<br />
уживаться с авторитарным режимом.<br />
Другими словами, идет общая ювенилизация<br />
жизни (в том числе инфантилизация коллективной,<br />
публичной жизни).<br />
Явление «общества потребления» российского<br />
образца указывает на то, что возник<br />
диссонанс, люфт, разрывы между новыми<br />
сферами социальной жизни (рыночной<br />
экономикой, массовой культурой, моделями<br />
потребления) и центральными институтами<br />
тоталитарной системы, которые остались<br />
практически не затронутыми крахом коммунизма:<br />
полицией, судом, массовым образованием,<br />
в целом организацией власти, неподконтрольной<br />
обществу.<br />
Подобный ценностный сдвиг, произошедший<br />
во второй половине 1990-х годов (а<br />
Дереализация прошлого: функции сталинского мифа<br />
не просто плохое преподавание истории в<br />
школе, на которое нередко ссылаются преподаватели<br />
вузов), разорвал историческую<br />
преемственность поколений в постсоветское<br />
время. Это не случайное обстоятельство или<br />
частный процесс, а проявление специфической,<br />
прерывистой структуры российской<br />
истории. Юрий Левада назвал эту особенность<br />
«короткими рядами традиции» 28 ,<br />
когда смена политического режима влечет за<br />
собой изменение всей институциональной<br />
организации культуры, а значит, и всего<br />
воспроизводимого ею (организацией культуры)<br />
микрокосмоса смысловых значений,<br />
ценностей, представлений и т. п. При такой<br />
структуре социокультурного процесса мы<br />
имеем дело не с аккумуляцией культурных<br />
продуктов, идей, знания, рационализа цией<br />
социального опыта и его исторической<br />
и моральной проработки, а практически<br />
полным и одномоментным замещением,<br />
стерилизацией памяти предшествующего<br />
поколения, забвением истории. Это не развивающееся<br />
или усложняющееся общество, а<br />
общество повторяющееся, воспроизводящее<br />
механизмы интеллектуальной и моральной<br />
самокастрации.<br />
Характер и функции персоналистского<br />
мифа<br />
Путинский режим — это консервативная<br />
реакция на предшествующий период институциональных<br />
изменений и массовой фрустрации,<br />
вызванной сломом коммунистической<br />
и советской системы. Распад СССР,<br />
сопровождавшийся утратой ориентиров и<br />
неуверенностью населения в завтрашним<br />
дне, нанес сильнейшую травму коллективной<br />
идентичности, вызвал массовое чувство<br />
ущербности и неполноценности. Поэтому<br />
апелляция к великому прошлому империи и<br />
к ее традициям («пропаганда патриотизма<br />
и национального возрождения») стала важнейшей<br />
частью легитимизации путинского<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 127
Лев Гудков<br />
режима. Центральное место среди символов<br />
Великой Державы занимает победа во<br />
Второй мировой войне и Сталин как ее главнокомандующий,<br />
как создатель этой сверхдержавы,<br />
пусть даже и самыми свирепыми<br />
и жестокими средствами. Дополнительное<br />
значение имеет и обращение к другим символическим<br />
суррогатам традиции: заигрывание<br />
с Русской православной церковью, в<br />
меньшей степени с другими религиозными<br />
конфессиями, допущенными к обслуживанию<br />
власти. (Не случайно внутри Русской<br />
православной церкви периодически возникают<br />
разговоры о желательности церковной<br />
канонизации Сталина.) Потребность в догматических<br />
опорах, в ценностных суррогатах<br />
морали или метафизики, идеологии (будь<br />
то церковная практика, суеверия самого<br />
разного рода, блуждающие конспирологические<br />
мифы, национализм и ксенофобские<br />
предрассудки или вера в доброго царя и<br />
государственный патернализм) в ситуации<br />
длительной массовой аномии и социальной<br />
дезорганизации чрезвычайно велика. Она<br />
принимает сегодня самые разные формы:<br />
именно этой потребностью объясняется как<br />
общественная поддержка цензуры в интернете<br />
и репрессивных законов против «кощунства»<br />
и «экстремизма», так и одобрение<br />
религиозного образования в школах. В этой<br />
же плоскости лежит и общее представление<br />
о том, зачем нужна история и как ее надо<br />
преподавать молодому поколению. Лишь 28<br />
проц. россиян заявили, что целью обучения<br />
истории в школе должно быть «правдивое<br />
изложение фактов, без прикрас и умолчания»<br />
о темных сторонах отечественного<br />
прошлого; 16 проц., напротив, настаивали,<br />
что назначение истории — воспитание в<br />
школьниках патриотизма и гордости за свою<br />
родину и государство; основная же масса — 48<br />
проц. — предпочитала соединение изложения<br />
основных событий истории с патриотическим<br />
воспитанием молодежи.<br />
128 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
Миф нового времени, в отличие от других<br />
систем легитимации (например, легального<br />
порядка), обеспечивает «сакрализацию»<br />
лишь тех социальных форм, которые<br />
имитируют или замещают традиционные<br />
институты и установления. Миф как способ<br />
легитимации, как идеологическая санкция<br />
невозможен в сферах рационально-инструментального<br />
действия: в экономике, науке,<br />
технологии, но он становится функционально<br />
неизбежным, когда усилия главных<br />
действующих лиц, исторических актеров,<br />
направлены на обеспечение авторитета<br />
власти, артикулируемого в персоналистских<br />
терминах. Такой «авторитет», опирающийся<br />
на миф, должен подавить любые «современные»<br />
претензии на авторитетность и<br />
стерилизовать возможность выдвижения<br />
альтернативных авторитетов, будь то через<br />
выборы, гражданскую активность и пр. А это<br />
означает признание экстраординарности<br />
политического деятеля, выведение его из<br />
зоны допустимой критики, соперничества,<br />
его несопоставимость с другими политиками,<br />
соперниками, конкурентами, альтернативными<br />
партиями и движениями. Средствами<br />
подобной стерилизации политического поля,<br />
зоны господства, может являться табуирование<br />
критического обсуждения власти, ее<br />
оснований, легитимности, эффективности<br />
и законности ее действий, то есть ее полная<br />
защита от критики, что, в свою очередь,<br />
ведет к уничтожению самой идеи, а стало<br />
быть, и выхолащиванию формальных механизмов<br />
смены власти.<br />
Другим способом стерилизации политического<br />
поля является наделение власти<br />
такой легитимностью (легитимация абсолютного<br />
господства), которая не предполагает<br />
наличия у нее целевого и прагматического<br />
назначения, а также правовых<br />
границ. Такая власть не подлежит контролю<br />
со стороны каких-либо других инстанций,<br />
социальных групп или сил. В условиях мас-
совизирующегося общества (а значит, чисто<br />
бюрократического управления, непрерывного<br />
производства управленческих целей,<br />
решений по их достижению и контролю за<br />
выполнением этих решений) легитимация<br />
власти через традиционные санкции и ритуалы<br />
или через процедуры признания личностной<br />
харизмы невозможны. Подобный<br />
тип авторитета в современных условиях<br />
выглядит откровенно архаическим, примитивным,<br />
экстраординарным и не может<br />
воспроизводиться в длительной перспективе.<br />
Современный «миф» или мифопо-<br />
добная форма легитимации работают как<br />
суггестивный механизм редукции к прошлому,<br />
к архаическим значениям и пластам<br />
культуры. Самое важное здесь — именно<br />
переработка предшествующих комплексов<br />
представлений, изменение акцентов в<br />
отношениях между персонифицированным<br />
носителем высшей власти и адресация к<br />
прошлым структурам отношений, которые<br />
власть хотела бы утвердить, а не то или иное<br />
смысловое наполнение фигуры Сталина<br />
и конкретизации его политики. Поэтому<br />
его появление следует рассматривать и как<br />
симптом наступившего разрыва в практике<br />
легитимации власти, и как средство преодоления<br />
этого разрыва времен, средство<br />
рутинизации политической системы господства.<br />
Это механизм «рубцевания» мест связи<br />
отдельных отрезков времени, легитимизации<br />
господства и, одновременно, вытеснения<br />
прошлого. Но для того, чтобы этот<br />
комплекс представлений мог быть значим за<br />
пределами отдельных политических кризисов,<br />
он должен быть основательно «очищен»<br />
от конкретных деталей и исторических<br />
Дереализация прошлого: функции сталинского мифа<br />
частностей. Только благодаря постоянным<br />
изменениям в интерпретациях конструкции<br />
«Сталин» (при сохранении доминанты<br />
«суверенной», то есть неконтролируемой и<br />
не отвечающей ни перед кем власти) функциональная<br />
значимость сталинского мифа<br />
сохраняется в разных периодах времени.<br />
Таким образом, авторитет Сталина представляет<br />
собой довольно сложную смысловую<br />
композицию: она фиксирует ключевые<br />
ценностные моменты навязываемой обществу<br />
структуры массовой идентичности<br />
мобилизационного, закрытого и репрессив-<br />
“На основании имеющихся у них знаний о массовых<br />
репрессиях, невинных жертвах и т. д. люди не готовы<br />
счесть преступной саму советскую систему”.<br />
ного социума, нацеленного на подавление<br />
процессов структурно-функциональной дифференциации<br />
и утверждение автономности<br />
отдельных институтов. Эти представления<br />
уже не привязаны собственно к персоне<br />
Сталина; они транслируются и воспроизводятся<br />
через весь контекст интерпретаций<br />
актуальных событий героического прошлого,<br />
легенды советского государства, ее важнейших<br />
моментов (войны, формирования<br />
сверхдержавы), с которой обязательно ассоциировалось<br />
и связывалось имя Сталина.<br />
Уже после 1953 года, а особенно после<br />
«разоблачения культа личности», инициированного<br />
Хрущёвым в 1956 году, партийным<br />
идеологам удалось привязать проблематику<br />
тоталитарного режима (террор, институты<br />
репрессий, двойной характер социальной<br />
организации общества-государства, природу<br />
коммунистической идеологии и проч.)<br />
собственно к «личности» Сталина. Это было<br />
достигнуто путем устранения из описанной<br />
выше конфигурации значения собственно<br />
«личностного компонента» (исторически<br />
конкретного Иосифа Джугашвили-Сталина),<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 129
Лев Гудков<br />
благодаря чему проблематика значения,<br />
содержания, характера власти была выведена<br />
за пределы общественного обсуждения<br />
и сама система власти сохранилась в почти<br />
неизменном виде.<br />
Проблема преодоления сталинского мифа<br />
заключается не в том, что люди не знают о<br />
преступлениях Сталина, а в том, что они не<br />
готовы на основании имеющихся у них знаний<br />
(вполне достаточных, как показывают<br />
результаты опросов) о массовых репрессиях,<br />
невинных жертвах и т. д. счесть преступной<br />
саму советскую систему. Неприятие, даже<br />
внутреннее сопротивление самой идее сочувствия,<br />
идентификации с жертвами государственного<br />
террора, родственное массовому<br />
нежеланию участвовать в политике, тем более<br />
отвечать за действия властей или противостоять<br />
им, является источником коллективного<br />
имморализма. В российском обществе<br />
сегодня нет общепризнанных моральных и<br />
интеллектуальных авторитетов, способных<br />
поставить советскому государству такой диагноз.<br />
Население само по себе не в состоянии<br />
рационализировать и осмыслить как прошлое<br />
страны, так и природу нынешнего режима,<br />
ПРИМЕЧАНИЯ 1 Последний пример такого рода —<br />
выступление Путина на заседании Совета безопасности<br />
в октябре 2012 года, заявившего: «Нужно<br />
совершить такой же мощный комплексный прорыв<br />
в модернизации оборонных отраслей, как это<br />
было в 30-е годы прошлого века» (цит. по: www.<br />
gazeta.ru/politics/2012/08/31_a_4747493.shtml).<br />
См. также: http://globalconflict.ru/analytics/5276putin-xochet-modernizaciyu-kak-u-stalina<br />
2 Дэвид Гросс подчеркивает, что мифы — это<br />
объективации воззрений и верований группы;<br />
они не могут быть ни истинными, ни ложными<br />
(поэтому их нельзя опровергнуть), а также — быть<br />
представленными в детализированном виде (разделенными<br />
на части), их назначение быть значимыми,<br />
быть образами действия (action-images).<br />
См.: Gross D. Myth and Symbol in Georges Sorel //<br />
130 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
который постепенно становится все более<br />
коррумпированным и репрессивным. Поэтому<br />
знание о сталинских репрессиях вызывает<br />
фрустрацию, следствием которой оказывается<br />
общественная пассивность, прострация и<br />
желание об этом «забыть». Собственно, именно<br />
такой результат и был целью путинской<br />
технологии господства: отсутствие моральной<br />
ясности и массовая апатия, ставшие основой<br />
авторитарного режима.<br />
Растущее признание Сталина в качестве<br />
великого национального деятеля не означает<br />
восстановления его «культа», преклонения<br />
перед «харизматическим» вождем, характерного<br />
для тоталитарных режимов. Миф о<br />
Сталине существует за счет непреодолимого<br />
комплекса национальной (коллективной)<br />
неполноценности, инфантильной неспособности<br />
к ответственности и потребности в<br />
«подростковой» причастности к демонстрации<br />
силы. Но основания для этой причастности<br />
могут быть найдены только в прошлом,<br />
которое необратимо. Забывая о цене сталинского<br />
времени, россияне пытаются удержать<br />
безвозвратно уходящие символы национальной<br />
славы.<br />
Political Symbolism in Modern Europe / S. Drescher,<br />
D. Sabean, A. Sharlin (eds). N. Y., 1982. P. 104—105.<br />
3 См., например, анализ запросов на «твердую<br />
руку» в момент прихода к власти Владимира<br />
Путина: Гудков Л., Дубин Б. Российские выборы:<br />
время «серых» // Мониторинг общественного<br />
мнения: экономические и социальные перемены.<br />
2000. № 2. С. 17—30.<br />
4 Открытый вопрос (опрашиваемые сами,<br />
«без подсказок», называли тех или иных персонажей).<br />
В аналогичном исследовании 2000 года,<br />
касающемся главных фигур мировой политики<br />
в ХХ веке, Сталин стоял уже на втором месте<br />
после Владимира Ленина (которого назвали 65<br />
проц. опрошенных); Сталина и Гитлера назвали<br />
равное число респондентов (по 51 проц.), далее<br />
шел Михаил Горбачёв (42 проц.), Никита Хрущёв,
Мао Цзэдун, Уинстон Черчилль, Джон Кеннеди,<br />
Маргарет Тэтчер и другие. Описание структуры<br />
символов массового сознания и анализ их изменений<br />
как отражения трансформаций, происходящих<br />
в посттоталитарном обществе, является<br />
одной из задач многолетнего исследовательского<br />
проекта «Советский человек», инициированного<br />
Юрием Левадой в 1989 году. В рамках этого<br />
проекта социологи периодически, с интервалом<br />
в 4—5 лет (в 1989, 1994, 1997, 2003, 2008 и 2012<br />
годах) задавали вопрос о великих людях в отечественной<br />
и мировой истории, репрезентирующих<br />
наивысшие достижения и ценности российской<br />
культуры и тем самым выступающих как основания<br />
для сплочения общества. Все приводимые здесь и<br />
далее данные получены в ходе общенациональных<br />
репрезентативных опросов, проводимых исследовательским<br />
коллективом ВЦИОМ, образовавшим в<br />
2003 году «Аналитический центр Юрия Левады».<br />
5 В первых замерах Сталин, в сравнении с<br />
другими «деятелями времен революции и гражданской<br />
войны», вызывал самую сильную антипатию;<br />
в 1990 году о нем в таком ключе отозвались 49<br />
проц. опрошенных; для сравнения: Нестор Махно<br />
и Александр Керенский — по 19 проц., Александр<br />
Колчак — 22 проц., Лев Троцкий и Николай II — по<br />
10 проц., Ленин — 5 проц., Феликс Дзержинский —<br />
4 проц. и т. п.; среди тех революционеров, кто,<br />
напротив, вызывал «симпатию», первые позиции<br />
занимали: Ленин — 67 проц., Дзержинский — 45<br />
проц., Николай Бухарин — 21 проц., Троцкий — 15<br />
проц., Махно — 8 проц. и лишь затем Сталин —<br />
около 8 процентов. В последующих замерах установки<br />
по отношению к Сталину изменились: в<br />
последнем по времени опросе такого рода (2007<br />
год) симпатию к нему испытывали 15 проц. опрошенных,<br />
антипатия, напротив, уменьшилась до 29<br />
процентов.<br />
6 Оценивались такие периоды, как правление<br />
Николая II, революция и гражданская война,<br />
правление Ленина, Сталина, Хрущёва, Брежнева,<br />
Горбачёва, Ельцина и, в последних замерах, время<br />
Путина.<br />
7 Путин первым из ведущих политиков России<br />
поднял тост за Сталина как «организатора нашей<br />
победы в Великой Отечественной войне» (8 мая<br />
1999 года на приеме в Кремле по случаю выпуска<br />
кремлевских курсантов). Масштабная программа<br />
реидеологизации общества, развернувшаяся сразу<br />
после прихода Путина к власти, достигла своей<br />
Дереализация прошлого: функции сталинского мифа<br />
кульминации во время подготовки к празднованию<br />
60-летия Победы над Германией. В школах раз за<br />
разом предпринимаются попытки ввести единый<br />
учебник истории ХХ века, — идет вялая борьба с<br />
«искажениями истории». Тогдашний формальный<br />
руководитель правящей «Единой России» и спикер<br />
Госдумы Борис Грызлов возложил в день рождения<br />
Сталина (21 декабря 2004 года) цветы к его бюсту у<br />
стены Кремля и заявил, что «перегибы» в деятельности<br />
Сталина не должны закрывать для нас «незаурядность»<br />
личности этого человека, который<br />
как «лидер страны многое сделал для Победы в<br />
Великой Отечественной войне». То, что постеснялся<br />
сказать Грызлов, а именно: что России нужен<br />
авторитарный диктатор, договорили его критики<br />
и оппоненты. Секретарь ЦК ВКП (б) Александр<br />
Куваев, назвав Сталина «самым выдающимся государственником»,<br />
«политиком, которого сегодня<br />
не хватает России», заявил, что нынешняя Россия<br />
находится «в плачевном состоянии», а потому ей<br />
«нужен новый Сталин». Этот тезис с тех пор регулярно<br />
повторяется коммунистами (см., например:<br />
Кашин О., Шепелин И. Красные прошли на зеленый<br />
свет // Коммерсантъ. 2012. 8 нояб.).<br />
8 Такая особенность артикуляции «ценного»<br />
или «значимого» присуща не только рассматриваемому<br />
«сталинскому комплексу», но и любому<br />
выражению «ценностей», включая, видимо, и<br />
ценности частной жизни. Слабость российского<br />
«общества» как системы коммуникативных, прежде<br />
всего обменных и правовых, отношений<br />
стерилизует авторитетность групп и институтов,<br />
претендующих на функциональную автономность,<br />
а значит — и независимость от структур господства.<br />
В результате влияние элит любого рода — культурных,<br />
научных, религиозных, образовательных,<br />
экономических и т. п. — оказывается неизбежно<br />
ограниченным. Это отражается, соответственно,<br />
на признании значимости тех ценностей,<br />
которыми эти элиты конституируются, которые<br />
они делают «смыслом своего существования»<br />
(совершенствование человека, познание, истина,<br />
добро, справедливость, социальность и проч.).<br />
Зависимость от власти предполагает обязательную<br />
государственную санкцию на выражение любых<br />
ценностей, то есть принуждение к определенному<br />
способу артикуляции ценностей. Не следует путать<br />
этот способ артикуляции ценности с тривиальным<br />
мнением о том, что у любого народа в истории<br />
свои злодейства, ставшие фактом истории и тем<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 131
Лев Гудков<br />
самым вошедшие в историческую «память» страны.<br />
Речь не об этом, и уж точно не у всех народов<br />
преступления становятся элементом национальной<br />
идентичности. Понятие «современность» (или<br />
модерность как типологическая характеристика<br />
западной культуры) содержит другие принципы<br />
коллективности, впервые отрефлексированные<br />
еще Кантом. Протестантская этика, демократия,<br />
естественное право или постулаты «Федералиста»<br />
не только не предполагают применение насилия<br />
для своей реализации, а непосредственно исходят<br />
из необходимости его ограничения.<br />
9 Поэтому не случайно, что набор «самых<br />
великих людей всех времен и народов» в общественном<br />
мнении России состоит главным образом<br />
из великих злодеев — царей, вождей, военачальников,<br />
разбавленных символами государственной<br />
культуры (Александр Пушкин, Михаил<br />
Ломоносов, Юрий Гагарин, Дмитрий Менделеев,<br />
Лев Толстой и т. д.). Тридцать подобных звезд<br />
истории первой величины включают Ленина,<br />
Сталина, Петра I, Гитлера, Александра Суворова,<br />
Георгия Жукова, Наполеона, Екатерину II,<br />
Михаила Кутузова, Ивана Грозного, Александра<br />
Македонского и других. Наличие в этом списке<br />
Гитлера (в среднем по всем замерам — 15-е место),<br />
в первый момент шокирующее, в этой логике<br />
уже не кажется странным. См.: Гудков Л. Время и<br />
история в сознании россиян (часть II) // Вестник<br />
общественного мнения. 2010. № 2 (104). С. 39.<br />
10 Более того, подобная позиция сама претендует<br />
на то, чтобы считаться «моральной». Пример<br />
из статьи в «Новой газете» (вкладка «Правда<br />
ГУЛАГа»). Автор пишет о своем деде, дважды прошедшем<br />
через лагерь. Заканчивая свой материал,<br />
он вздыхает: «Какое право у меня — судить их?<br />
Френкеля, деда… Что я понимаю в Аду, где были<br />
свои театры и изостудии, мастерские для починки<br />
обуви, наилучшие портные, краснодеревщики<br />
и слесаря Мне плохо». См.: Цирульников А.<br />
Получив орден, он отправился по этапу // Новая<br />
газета. 2012. 30 нояб. № 136. С. 13.<br />
11 Аналогичное распределение мнений зафиксировано<br />
и в опросе октября 2012 года: за установление<br />
в центре Москвы монумента Сталина высказались<br />
23 проц. опрошенных россиян, против — 56<br />
проц. (остальные затруднились с ответом или не<br />
имеют на этот счет собственного мнения); за переименование<br />
Волгограда — соответственно 18 и 60<br />
процентов.<br />
132 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
12 Годом раньше, в январе и декабре 1989 года,<br />
ответы были следующими: «слишком много пишут»<br />
и говорят об этом — 28 проц., «достаточно» — 47<br />
проц., «слишком мало» — 16 проц., остальные<br />
затруднились с ответом. В декабре того же года<br />
цифры начали меняться: «слишком много» — 45<br />
проц., «слишком мало» — 36 процентов. В январе<br />
1993 года мнения были такими: «слишком много» —<br />
47 проц., «слишком мало» — 15 проц., затруднились<br />
ответить — 38 процентов. Раздражение было отчасти<br />
связано с тем, что в 1989—1990 годы значительная<br />
(если не большая) часть людей была настроена<br />
на полный разрыв с советским прошлым и готовностью<br />
принять западную модель демократической<br />
и рыночной организации общества и экономики;<br />
поверхностная критика Сталина явно не удовлетворяла<br />
людей. Они были не согласны считать<br />
Сталина единственным виновником всех бед, которые<br />
пришлось пережить народам бывшего СССР<br />
(а так думало лишь 8 проц. опрошенных), а предпочитали<br />
возложить ответственность за это на всю<br />
коммунистическую систему, возглавляемую и символизируемую<br />
Сталиным (так считало 38 проц.).<br />
Но примерно столько же респондентов не были<br />
склонны винить в них Сталина, считая, что «в истории<br />
бывают разные периоды и жизнь в Советском<br />
Союзе при Сталине была не самым худшим из<br />
времен» (21 проц.), или даже, напротив, защищали<br />
Сталина от критики и заявляли, что «только благодаря<br />
Сталину советскому народу удалось построить<br />
сильное, развитое государство и отстоять свою<br />
независимость в Великой Отечественной войне (21<br />
проц.) (май 1993 года, N=1600).<br />
13 Десталинизируй это. 2011. 31 марта (http://<br />
www.politonline.ru/groups/4222.html) (см. цитаты<br />
Бориса Якеменко, Андрея Исаева, Константина<br />
Затулина, Алексея Пушкова и другие).<br />
14 Калужский эксперт: «Десталинизация» — провокация,<br />
направленная на развал общества. 2011. 8 апр.<br />
(http://www.regnum.ru/news/polit/1392889.html).<br />
15 Гудков Л. Комплекс «жертвы»: Особенности<br />
восприятия россиянами себя как этнонациональной<br />
общности // Мониторинг общественного<br />
мнения: экономические и социальные перемены.<br />
1999. № 3. С. 46—64; см. также доклад Кевина<br />
Платта «Травма и общественная дисциплина:<br />
текст, субъект, память и забвение» на XIX Банных<br />
чтениях (2011 год). См. краткое изложение<br />
Владимиром Ивановым: НЛО. 2011. № 5 (111).<br />
С. 424—425.
16 Гудков Л. Миф о Сталине и проблема «стабильности»<br />
посттоталитарного режима //<br />
Гудков Л. Абортивная модернизация. М.: РОСПЭН,<br />
2011. С. 491—503; Он же. Историческая импотенция<br />
// Новая газета. 2008. № 13. С. 12—13; Он же.<br />
Безответственность власти // Ведомости. 2009.<br />
30 сент.; Он же. Мы ему не братья и не сестры. А он<br />
нам не отец // Новая газета. 2011. 23 мая; Он же.<br />
Дефицит легитимности путинского режима: Игры<br />
со Сталиным // Societ totalitarie e transizione alla<br />
democrazia. Saggi in memoria di Viktor Zaslavsky.<br />
Bologna, 2011, Il Mulino, P. 431—456.<br />
17 «…Этот термин в 50-е годы получил условное,<br />
эвфемистическое, а на деле — фальшивое<br />
значение: тоталитарный режим — это куда сложнее<br />
и страшнее, чем славословие Сталину. А нас<br />
на 10 лет заняли обсуждением вопроса, кто был<br />
виноват, Сталин или Ленин?» См.: Левада Ю.<br />
Шестидесятники. М., Фонд «Либеральная миссия»,<br />
2007. С. 39.<br />
18 Как раз за ним последовало поколение,<br />
период социализации которого пришелся на<br />
брежневский застой с его тихой реабилитацией<br />
Сталина, окончательный отказ от коммунистической<br />
идеологии и утверждение русского или<br />
имперского национализма как идеологического<br />
суррогата прежней тоталитарной миссионерской<br />
идеологии — поколение нынешнего руководства<br />
страны (Путин, Сергей Иванов, Сечин, ушедший<br />
в отставку Сердюков и т. п.). Для несогласных или<br />
нонконформистов оставался очень узкий спектр<br />
возможностей: вытеснение из публичного пространства,<br />
внутренняя или внешняя эмиграция,<br />
отказ от карьеры, домашняя жизнь, «игра в бисер»,<br />
религиозное неофитство. Большинство же образованных<br />
сочетало «службу» и крамольные разговоры<br />
на кухне, а если был доступ к неформальным<br />
каналам, то и «чтение самиздата».<br />
19 Соотношение допускающих повторение<br />
массовых репрессий и не верящих в такой сценарий<br />
политического развития в стране составляет<br />
сегодня 1:2 (24:51 при 25 проц. «затруднившихся с<br />
ответом»). Большинство россиян в действительности<br />
не хотят знать ничего как о сталинской, так и о<br />
последующей советской эпохе, хотя декларативно<br />
говорят об обратном. Доля собственного чтения<br />
(книги, журналы, художественные сочинения,<br />
воспоминания, относящиеся к сталинскому времени)<br />
в структуре массового чтения сократилась за<br />
двадцать лет с 58 до 26 проц. (притом что читать<br />
Дереализация прошлого: функции сталинского мифа<br />
вообще стали гораздо реже, число «нечитателей»<br />
за этот период выросло втрое — с 20 до почти 60<br />
проц.).<br />
20 Гудков Л. Время и история в сознании россиян.<br />
Ч. 2. Следуя этой же линии, внутри Русской православной<br />
церкви не затихают разговоры о желательности<br />
церковной канонизации Сталина.<br />
21 Опросы молодежи, касающиеся качества<br />
преподавания в школе, в том числе преподавания<br />
истории, свидетельствуют о том, что на уроках<br />
истории в наших школах о сталинском времени<br />
и тем более о массовых репрессиях школьники<br />
узнают немного. От 75 до 80 проц. опрошенных<br />
данной категории заявили, что они не получили<br />
об этом никаких знаний или получили «слишком<br />
мало» (июль 2005 года, N = 2000). Более поздние<br />
опросы уже всего населения подтверждают эти<br />
данные: в опросе 2011 года 72 проц. заявили,<br />
что о сталинских репрессиях они имеют «самое<br />
общее представление» и знают, по их словам,<br />
«мало», 12 проц. вообще ничего не знают. Однако<br />
это не мешает основной массе (80 проц.) быть<br />
довольной качеством обучением истории в<br />
школе, теми знаниями, которые они или их дети<br />
получили в школе (2008 год). Другими словами,<br />
существует равновесие между потребностями в<br />
знаниях об истории страны и предложением, обеспечивающим<br />
разгрузку от «ненужных вопросов и<br />
напряжений».<br />
22 ТВ стало основным источником сведений о<br />
том времени, доля кинематографа, которая была<br />
очень значительной в позднесоветское время,<br />
резко сократилась. На ТВ сегодня приходится<br />
около трети получаемых сведений и представлений<br />
о тоталитаризме. Каково качество этих сведений,<br />
вопрос для дискуссий.<br />
23 Пользуясь случаем, хочу выразить свою благодарность<br />
Денису Викторовичу Драгунскому, указавшему<br />
мне на то, что только одно издательство<br />
«Эксмо» за последние 3—4 года выпустило несколько<br />
книжных серий («Сталинист», «Сталинский<br />
ренессанс», «Загадка 1937 года», «Сталин: Великая<br />
эпоха», «Перелом истории» и др.), включавших<br />
десятки апологетических книг о Сталине, мемуаров<br />
его телохранителей, «исследований», в которых<br />
отрицается сам факт массовых репрессий<br />
или искажаются их характер и масштабы. Авторы<br />
таких книг, если исходить из намерений их авторов,<br />
представленных в аннотациях к этим изданиям,<br />
ставят своей задачей «разоблачить ложь» хру-<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 133
Лев Гудков<br />
щёвского доклада и более поздние антисоветские<br />
«мифы» демократов или «клевету» западных историков,<br />
«черную легенду» о том, что «в страшном<br />
37-м году жертвами преступного режима пали “миллионы<br />
невинных”» или что в ходе политических<br />
репрессий были истреблены сотни тысяч ученых,<br />
писателей, режиссеров, уничтожена массовая<br />
интеллигенция, обезглавлена армия, заключен тайный<br />
пакт с Гитлером и проч., и проч. Назову лишь<br />
некоторые книги из этих серий, выпущенных за<br />
2009-й и 2010-й годы: «Имя России: Сталин», «За<br />
Сталина! Стратег Великой Победы», «Последние<br />
годы Сталина: Эпоха Возрождения», «1937:<br />
Антитеррор Сталина», «Сталин — победитель:<br />
Священная война Вождя», «Сталин перед судом<br />
пигмеев», «Зачем нужен Сталин», «Народная империя<br />
Сталина», «Встать! Сталин идет: Тайная магия<br />
Вождя», «Живой Сталин», «СССР — цивилизация<br />
будущего: Инновации Сталина», «Запрещенный<br />
Сталин», «Сталин и Церковь глазами современников:<br />
патриархов, святых, священников» и<br />
т. п. Но таких издательств много. См.: Открытое<br />
письмо в дирекцию издательства «Эксмо». 2011.<br />
15 апр. (http://www.chaskor.ru/article/otkrytoe_<br />
pismo_23050) и ответ издательства от 20 апреля<br />
2011 г.: «Эксмо» и «нехорошие» книги (http://<br />
www.chaskor.ru/article/eksmo_i_nehoroshie_<br />
knigi_23106).<br />
24 Вслед за новыми, «правильными» учебниками<br />
истории государственное ТВ — основной инструмент<br />
путинской пропаганды — стало показывать<br />
бесконечные сериалы о тайнах кремлевской жизни,<br />
интригах и заговорах в ближайшем окружении<br />
диктатора, его душевных терзаниях и «религиозных<br />
исканиях» (например, «Сталин. Live», шедший в<br />
2007, 2008, 2009 и 2010 годах), пропагандистские<br />
ток-шоу, вроде «Имя России», в котором Сталин<br />
показан как главный символ величия России,<br />
синоним национальной славы. Эти передачи продолжили<br />
тематику и даже жанровые особенности<br />
появившейся еще в 1990-е годы обширной тривиальной<br />
литературы о нем, его привычках и вкусах,<br />
его окружении и любовницах, где Сталин подан<br />
то как национальный гений и вождь, спасающий<br />
Россию от фашизма или иностранного влияния,<br />
в том числе еврейского заговора, то, напротив, в<br />
качестве тайного маньяка, конспиратора, одержимого<br />
идеей тотального могущества и личной власти,<br />
инициатора тайных интриг и проч. Сами по себе<br />
подобная литература и телепередачи могли и могут<br />
134 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
быть апологетическими, разоблачительными или<br />
развлекательными, даже стебными, продолжающими<br />
жанровую линию анекдотов 1970—1980-х<br />
годов, как это представлено, например, в передаче<br />
«6 кадров», но во всех случаях они не затрагивают<br />
структуру и суть стереотипа: изображения Сталина<br />
всегда носят крайне жесткий характер — маршальский<br />
мундир с большими звездами на золотых<br />
погонах, грузинский акцент и трубка выполняют<br />
все функции, которые требует эта роль. Эта маска<br />
сама по себе несет все латентные, подразумеваемые<br />
смыслы, которые делают визуальной и ощутимой<br />
«харизму» вождя, отделенного невидимым барьером<br />
мифа от обычных людей и даже своего окружения.<br />
(Если бы это было нужно для каких-то целей,<br />
то режиссеры заставляли бы идти Сталина в сортир<br />
или в ванну исключительно в мундире и при звезде<br />
Героя.) В конце концов важно, что даже при самой<br />
плоской сюжетной ситуации этот персонаж входит<br />
в кадр в ореоле страшного знания о нем и его эпохе.<br />
Конечно, масштабы распространения подобной<br />
продукции ограничены периферийной в социальном<br />
и культурном плане средой, в которой доживают<br />
остатки прежних мифов. Но именно эта среда<br />
и является складом, где хранятся элементы подобных<br />
мифов. Такого рода книги и передачи могут<br />
быть внешне даже как бы антисталинскими или с<br />
большими включениями фактического материала<br />
о репрессиях, однако в конечном счете интерпретация<br />
Сталина в них будет близка к позиции, сформированной<br />
ЦК КПСС вскоре после доклада Хрущёва<br />
на ХХ съезде и остающейся неизменной до сих пор:<br />
Сталин виновен в незаконных репрессиях («перегибах»),<br />
но лишь подобными средствами можно было<br />
создать такую великую сверхдержаву, как СССР.<br />
25 Mitscherlich A., Mitscherlich M. Die Unfähigkeit<br />
zu trauern. München, 1967. Книга «Неспособность<br />
к скорби» выдержала более двадцати изданий и<br />
переводов на все основные европейские языки.<br />
26 Это хорошо понимали религиозные мыслители,<br />
использовавшие библейские сюжеты как<br />
способ этической рационализации существования.<br />
Например, такой ход рассуждения: Господь не<br />
потому уничтожил Содом и Гоморру, что их жители<br />
грешили, а за то, что они хотели сделать грех законом<br />
(все грешны), но надо сознавать, что грех —<br />
это грех, отклонение, а не норма, не закон.<br />
27 «Общество потребления» — это не «средний<br />
класс» в западном смысле слова, с которым<br />
у нас обычно путают это явление. Гратификации
российского потребителя гораздо слабее связаны<br />
с условиями признания индивидуальных достижений,<br />
с индивидуалистической этикой, чем в<br />
западных обществах (следует учитывать само<br />
различие институциональных систем, задающих<br />
признание и смысл труда). Российская рыночная<br />
экономика остается сильнейшим образом зависимой<br />
от власти, в ней огромное значение приобретает<br />
распределение административной ренты и<br />
коррупционных ресурсов, деформирующих общественный<br />
смысл «достижения». Потребление в<br />
сегодняшней России теснейшим образом связано с<br />
демонстрацией статуса, социального престижа как<br />
выражением социальной ценности индивида, то<br />
есть с «подсознанием» дефицитарного социалистического<br />
общества. «Общество» как апеллятивная<br />
инстанция здесь — в отличие от среднего класса в<br />
странах завершенной модернизации — сохраняет<br />
свой адаптивный и зависимый (по отношению к<br />
политической системе) характер. Поэтому верх-<br />
Дереализация прошлого: функции сталинского мифа<br />
ний уровень коллективных ценностей, комплексов<br />
представлений, символов не связан с ценностями<br />
частной жизни и существования, не зависит от<br />
них и остается государственно-патерналистским и<br />
предельно консервативным.<br />
28 «Каждый период обычно находит свое<br />
“оправдание” в отрицании предшествующего правления<br />
и расправах с его элитарными структурами.<br />
Функции отсутствующей традиции (как элемента<br />
легализации и поддержки существующего порядка)<br />
восполняются квазиисторической мифологией».<br />
См.: Введение: Элитарные структуры в<br />
постсоветской ситуации // Гудков Л., Дубин Б.,<br />
Левада Ю. Проблема «элиты» в сегодняшней<br />
России. М.: Фонд «Либеральная миссия», 2007.<br />
С. 5. Ранее кто-то из русских философов уподобил<br />
этот феномен русской истории «луковице»: исторический<br />
слой снимался при очередном катаклизме<br />
и уходил один за другим, не меняя строения<br />
всего целого.<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 135
РЕЦЕНЗИИ<br />
Fiona Hill, Clif<strong>for</strong>d G. Gaddy. Mr. Putin: Operative in the Kremlin. Brookings Institution Press, 2012.<br />
(A Brookings Focus Book). 390 p.<br />
Какой видится Путину послепутинская<br />
Россия? Задумывается ли он когданибудь<br />
всерьез о преемнике? Может ли<br />
он себе представить, что будущий президент<br />
России будет избран гражданами на свободных<br />
честных выборах? Чего он больше боится<br />
— «дворцового переворота» или массовых<br />
протестов? На что он скорее надеется — на<br />
«бессмертие» или на «клонирование»?<br />
Конечно, мы не можем узнать, что происходит<br />
у Путина в голове, но вполне можем<br />
об этом порассуждать. «Каждая уважающая<br />
себя служба внешней разведки должна<br />
иметь своего путинолога, — написал недавно<br />
Ричард Лури, автор биографии академика<br />
Сахарова, — потому что президент Владимир<br />
Путин правит всей Россией один. Его слово —<br />
закон». Не удивительно тем самым, что большинство<br />
тех, кто ставит себе целью объяснить<br />
процессы, происходящие в современной<br />
России, в результате пишут путинскую<br />
биографию — историю загадочного человека,<br />
бывшего полковника КГБ, который тринадцать<br />
лет назад пришел в Кремль из ниоткуда<br />
и теперь не может оттуда уйти. Чтобы понять<br />
сегодняшнюю Россию, необходимо понять<br />
Путина. Поэтому его биографии не просто<br />
сообщают нам о том, что было, но и пытаются<br />
угадать, что будет дальше.<br />
Фионе Хилл и Клиффорду Гэдди в их<br />
новой книге «Владимир Путин: На оперативной<br />
работе в Кремле» лучше других<br />
удалось ответить на вопрос о том, что будет.<br />
Это глубокое и вдумчивое исследование —<br />
идеальный образец аналитической биографии,<br />
настоящий подарок специалистам по<br />
России от Института Брукингса. Авторы (в<br />
2003 году они написали высоко оцененную<br />
всеми книгу “The Siberian Curse: How Communist<br />
152 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
Planners Left Russia Out in the Cold” * (в России<br />
вышла в 2007-м под названием «Сибирское<br />
бремя: Просчеты советского планирования<br />
и будущее России») рассматривают конкретные<br />
примеры действий — или бездействия —<br />
Путина в широком контексте того пути,<br />
который проделало российское общество<br />
за последние двадцать лет. Их книга не о<br />
том, как Путин спас Россию или, наоборот,<br />
погубил ее. Не претендуют Хилл и Гэдди и<br />
на то, чтобы сообщить нам о каких-то доселе<br />
неизвестных «новых фактах». Их труд — это<br />
честный и скрупулезный анализ того, что<br />
уже и так известно; авторы книги используют<br />
прием «исторического воображения», в основе<br />
которого неукоснительная приверженность<br />
факту, понимание российской культуры<br />
и здравый смысл.<br />
В своем исследовании Хилл и Гэдди исходили<br />
из того, что, принимая то или иное<br />
решение, Путин руководствуется не идеологическими<br />
принципами, а собственным<br />
опытом. Задача книги — реконструировать<br />
этот опыт. «Путин сам формировал свой<br />
политический путь; в значительной степени<br />
он отражает базовые составляющие его личности»,<br />
— пишут авторы. Иными словами,<br />
для авторов книги рассказать о Путине означает<br />
выявить и описать его главные идентичности:<br />
государственника, пленника истории,<br />
мастера выживания, «лидера-одиночки»,<br />
сторонника свободного рынка, сотрудника<br />
спецслужб.<br />
Представляется, что фигура Путина и<br />
его популярность среди сограждан объясняются<br />
коллективным опытом российско-<br />
* См. рецензию на эту книгу: Pro et Contra. Т. 9.<br />
№ 1. 2005. С. 104 —109. — Прим. ред.
го общества 1990-х годов. В основе этого<br />
опыта лежит распад Советского Союза<br />
и порожденный им кризис. Поколение<br />
Путина не испытывает ностальгии по советскому<br />
прошлому, но считает СССР своей<br />
родиной. Когда страна развалилась, у россиян<br />
возникло ощущение ненадежности,<br />
хрупкости всего жизненного устройства и<br />
неуверенности в завтрашнем дне. Эта неуверенность<br />
во многом объясняет мощное<br />
стремление к власти и обогащению, характерное<br />
для российского общества путинского<br />
периода, но кроме того, она позволяет<br />
понять странную амбивалентность режима<br />
Путина в том, что касается отношения к<br />
авторитаризму и демократии. За короткое<br />
время Россия испытала на себе все минусы<br />
обеих систем. Поэтому не удивительно, что<br />
хотя путинский режим с готовностью прибегает<br />
к авторитарных практикам, он тем<br />
не менее не делает окончательного выбора<br />
в пользу авторитаризма. Российский президент<br />
и его приближенные на самом деле<br />
знают, что спецслужбы не обеспечивают<br />
выживания. Они ведь сами там работали и<br />
не смогли уберечь ни коммунистический<br />
режим, ни Советский Союз.<br />
Путин-государственник<br />
Державнические взгляды Путина — не следствие<br />
его опыта службы в КГБ и не ностальгия<br />
по советскому прошлому. Они имеют<br />
более глубокую и важную основу и соответствуют<br />
желанию всего российского общества<br />
забыть о позорной слабости государства первого<br />
постсоветского десятилетия. То потрясение,<br />
которое испытало общество перед<br />
лицом полного провала государственной<br />
власти, объясняет не только то, почему Борис<br />
Ельцин назначил Путина своим преемником,<br />
но и то, почему большинство россиян сразу<br />
признали бывшего полковника КГБ своим<br />
лидером. И именно тот факт, что сегодня<br />
1990-е постепенно стираются из памяти, явля-<br />
Рецензии<br />
ется причиной снижения путинской популярности.<br />
В основе путинского договора с российским<br />
народом лежал суверенитет России,<br />
а не просто рост благополучия. В 2000 году<br />
граждане хотели жить в государстве, которое<br />
можно было бы уважать, потому что государство<br />
1990-х уважать было невозможно.<br />
Путин — пленник истории<br />
В отличие от многих критиков Путина,<br />
утверждающих, что Путин — человек,<br />
случайно оказавшийся у власти, который<br />
живет только сегодняшним днем и в первую<br />
очередь стремится к личному обогащению,<br />
Хилл и Гэдди в своей книге доказывают,<br />
что Путина можно назвать лидером, находящимся<br />
в плену истории: он знает о своей<br />
исторической роли и постоянно ищет ответы<br />
в российском прошлом, однако ему так и<br />
не удалось предложить адекватное для XXI<br />
века видение российского будущего. Его<br />
восприятие российской истории вызывает<br />
в памяти обращение «господин-товарищ»,<br />
вошедшее в употребление в исторической<br />
сумятице 1920-х годов, когда люди перестали<br />
понимать, в каком времени они живут.<br />
Для Путина, как и для семьи Комаровых<br />
из повести Набокова «Пнин», «идеальная<br />
Россия состоит из Красной Армии, помазанника<br />
Божия, колхозов, антропософии,<br />
Православной Церкви и гидроэлектростанций».<br />
Путину не видится ничего странного<br />
в том, чтобы российские граждане праздновали<br />
и годовщину победы в Сталинградской<br />
битве, и юбилей династии Романовых. Для<br />
него российская история прежде всего — способ<br />
сохранить Россию. Но этот инструментальный<br />
подход не следует путать с сурковским<br />
утонченным цинизмом, замаскированным<br />
под постмодернистскую философию.<br />
Отношения путинского поколения с идеологией<br />
гораздо более двойственны: конечно,<br />
оно цинично и не испытывает потребности<br />
в каких бы то ни было идеологических прин-<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 153
Иван Крастев<br />
ципах, но эти люди ценят идеологию как<br />
часть борьбы за власть. Путину нужна идеология,<br />
чтобы на ее основе сформулировать<br />
основу идентичности — народа и режима.<br />
И он винит сурковщину в массовых протестах<br />
зимы 2011/12 года. Путин считает, что россиянам<br />
нужна идеология, чтобы защититься<br />
от ужасов глобализации. И союз Кремля с<br />
РПЦ в этом контексте — не просто тактический<br />
ход, а своего рода политический<br />
императив. При этом то, как Путин относится<br />
к религии, не сильно отличается от<br />
того, как к ней относился Сталин, который<br />
тоже использовал ее для победы в Великой<br />
Отечественной войне как главный символ<br />
российского национализма.<br />
Путин — мастер выживания<br />
Мастер выживания — наверное, самая интересная<br />
из путинских ипостасей, описанных<br />
в книге Хилл и Гэдди. По справедливому<br />
замечанию авторов, есть большая разница<br />
между тем, кто выжил в катастрофе<br />
(survivor), и тем, кто подготовлен к выживанию<br />
в экстремальных условиях (survivalist).<br />
Один — пассивен, другой — активен; Путин —<br />
не выживший, он именно специалист по<br />
выживанию. Когда Россия кардинально<br />
менялась, он был за границей: крушение<br />
Советской империи он осознал еще в<br />
1989-м, находясь в Восточной Германии,<br />
и оно стало для него очень личным и драматическим<br />
переживанием. Для Путина<br />
выживание равнозначно победе: когда протестующие<br />
пытались прорваться в здание<br />
«дома дружбы» СССР — ГДР в Дрездене, где<br />
служил под прикрытием подполковник КГБ<br />
Путин, он вышел к ним и сумел удержать<br />
их, притворившись переводчиком, то есть<br />
мелким чиновником, не несущим никакой<br />
ответственности. Эта уловка позволила ему<br />
выжить, иными словами, он вышел победителем.<br />
Именно навыки выживания определяют<br />
склонность Путина мыслить в кате-<br />
154 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
гориях наихудшего сценария. Готовность к<br />
нештатным ситуациям лежит в основе путинского<br />
мировоззрения и составляет суть его<br />
концепции управления Россией. Именно эта<br />
черта роднит его с экономическими либералами<br />
типа Алексея Кудрина. Однако то, что,<br />
с точки зрения Кудрина, является разумной<br />
экономической политикой, для Путина<br />
выполняет задачу разумной стратегии<br />
национальной безопасности. Путин велел<br />
создать резервные фонды, чтобы защитить<br />
российский суверенитет. И последствия кризиса<br />
2008—2010 годов убедили его в правильности<br />
принятого решения. Задача выживания<br />
является для Путина центральной, и это<br />
объясняет еще один ключевой элемент его<br />
политики, а именно навязчивую идею, что<br />
никто не должен заподозрить его в слабости.<br />
Путин — мастер выживания построил<br />
всю современную российскую политику на<br />
принципе “мы не должны допустить, чтобы<br />
нас считали слабаками”. Ради того, чтобы<br />
доказать, что он не слабак и что его нужно<br />
воспринимать всерьез, он оказался готов<br />
даже вторгнуться на территорию соседнего<br />
государства.<br />
Путин — «лидер-одиночка»<br />
Еще одна политическая идентичность Путина,<br />
которую выделяют Хилл и Гэдди, — нежелание<br />
«быть со всеми». Он оставался «посторонним»<br />
в университете, в КГБ, в Дрездене и даже в<br />
Кремле, но важно понимать, что это одиночество<br />
всегда было его сознательным выбором.<br />
Тому, кто остается в стороне, всегда легче<br />
понять, что на самом деле происходит внутри;<br />
но этим определяется и главный недостаток<br />
«посторонности» — неспособность быть<br />
«своим». «Одиночка» ни с кем и ни с чем себя<br />
не идентифицирует, его лояльность — скорее<br />
стратегия, чем веление души. Проведя более<br />
десяти лет у власти, Путин, как мне кажется,<br />
остается «посторонним» даже по отношению<br />
к собственному политическому режиму.
В управлении страной он по-прежнему опирается<br />
на людей, с которыми познакомился<br />
еще до прихода в Кремль. Он упорно остается<br />
чужим по отношению к собственной политической<br />
системе, и в этом он чем-то похож на<br />
российских императоров.<br />
Путин — сторонник свободного рынка<br />
Сторонник свободного рынка — еще одна<br />
важная сторона личности Путина. Это<br />
не значит, что он хотел бы осуществить<br />
рыночные реформы: Путин действительно<br />
не верит в огосударствленную экономику,<br />
но, несмотря на то, что он ценит динамизм<br />
рынка, его приверженность рыночной<br />
экономике довольно своеобразна. Дело<br />
в том, что Путин сам хотел бы быть той<br />
«невидимой рукой» (а может быть, не такой<br />
уж и невидимой), которая всем управляет.<br />
С точки зрения авторов книги, тяжелый<br />
опыт Путина, связанный с решением проблемы<br />
продовольственного кризиса в<br />
Ленинграде в начале 1990-х, был ключевым<br />
для формирования его взглядов на экономику.<br />
В отличие от коммунистов, которые<br />
до сих пор мечтают о том, чтобы ренационализировать<br />
экономику, Путин хочет<br />
ренационализировать только «капитанов»<br />
экономики, представителей элиты. Его<br />
война против «ЮКОСа», внедрение в частные<br />
компании силовиков, которые вроде бы<br />
мыслили как государственники, но при этом<br />
активно использовали свое положение для<br />
личного обогащения, — все это было отчаянной<br />
попыткой контролировать рынок<br />
так, как обычно контролируют агентуру. Для<br />
Путина доверие подразумевает возможность<br />
контролировать. Он не может доверять тем,<br />
кто держит активы в обналиченной форме,<br />
а семью — за пределами России. Путин предлагает<br />
им защиту в обмен на уязвимость по<br />
отношению лично к нему. Он воспринимает<br />
олигархов не как собственников, а как управляющих<br />
государственными активами. Для<br />
Рецензии<br />
того чтобы они эффективно управляли этой<br />
собственностью, они должны чувствовать,<br />
что она им принадлежит, но для выживания<br />
режима им надо постоянно напоминать, что<br />
они просто менеджеры.<br />
Путин — сотрудник госбезопасности<br />
Большинство приверженцев теорий заговора<br />
видят в трех буквах — КГБ — простое объяснение<br />
того, как Путин сумел достичь вершин<br />
государственной власти. Но что на самом деле<br />
значит для Путина эта организация? Фионе<br />
Хилл и Клиффорду Гэдди отлично удалось<br />
ответить на этот вопрос. Они объясняют,<br />
что Путин не привел к власти КГБ, он просто<br />
привел во власть своих друзей, многие из<br />
которых, что неудивительно, раньше работали<br />
в «Конторе». Опыт работы в органах госбезопасности<br />
важен для понимания путинской<br />
политики прежде всего потому, что он научил<br />
его неформальным подходам. Путина специально<br />
готовили к тому, чтобы видеть за всем<br />
конкретных людей, а не институты. В КГБ<br />
его учили, как работать не в самих учреждениях,<br />
а «вокруг них». Именно благодаря этому<br />
искусству неформального подхода Путин<br />
сумел достичь успеха в трудный период 1990-х<br />
годов, но одновременно упор на неформальные<br />
связи и практики стал препятствием в<br />
деле выстраивания институтов.<br />
Акцент на прошлом Путина и накопленном<br />
им жизненном опыте дает авторам возможность<br />
разобраться и в том, почему Путин<br />
пользуется общественной поддержкой, и в<br />
причинах его главной неудачи. Путину не<br />
удалось восстановить российское государство<br />
и не удалось выстроить стабильный политический<br />
режим. Его усилия по государственному<br />
строительству были сосредоточены<br />
не на упрочении государственной мощи,<br />
а на сокрытии государственной немощи.<br />
Конечно, сегодня российское государство<br />
сильнее и богаче, чем государство 1990-х,<br />
но эффективности в нем не прибавилось.<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 155
Иван Крастев<br />
Шесть ключевых путинских ипостасей не<br />
помогли ему построить государство — он<br />
сумел лишь создать его видимость. Путингосударственник<br />
не смог сделать Россию<br />
более управляемой. Путин — пленник<br />
истории не смог предложить народу объединяющую<br />
национальную идею. Путин-<br />
«посторонний» не смог сделать так, чтобы<br />
хоть один из начатых им проектов ассоциировался<br />
бы с ним лично, и самый лучший<br />
пример тут — «Единая Россия». Путин —<br />
мастер выживания был настолько зациклен<br />
на том, как преодолеть наихудший сценарий,<br />
что упустил возможность для развития и<br />
реформ. Путин — сторонник свободного<br />
рынка наводнил Россию госкомпаниями, чьи<br />
владельцы научились быть лояльными, но<br />
не научились быть конкурентоспособными<br />
на мировом уровне. А Путин — сотрудник<br />
спецслужб продемонстрировал уникальное<br />
мастерство в деле подрыва институтов, но не<br />
научился уважать их автономию.<br />
Седьмая ипостась: Путин-царь<br />
В книге Хилл и Гэдди, как мне кажется, не<br />
хватает одной ключевой ипостаси, проявившейся<br />
в относительно недавнее время: Путинцарь.<br />
Слезы на глазах Путина сразу после его<br />
последнего переизбрания — вернейшее свидетельство<br />
того, что он именно царь. Но царь,<br />
уже ощутивший закат своего могущества, —<br />
только цари чувствуют себя вправе обидеться<br />
на неблагодарных подданных. Седьмая идентичность<br />
Путина сформировалась уже после<br />
156 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
того, как он оказался в Кремле, но она становится<br />
все более важной. В последние десять<br />
лет Путин столкнулся с выбором, который<br />
неизменно возникает в любом персоналистском<br />
режиме: укреплять личную власть или<br />
укреплять режим, чтобы он мог сохранять<br />
устойчивость и после твоего ухода. В 2008-м,<br />
когда, вопреки всеобщим ожиданиям, Путин<br />
решил не идти на третий президентский срок,<br />
показалось, что он сделал выбор в пользу укрепления<br />
режима, но четыре года спустя судьба<br />
России вновь переменилась. 24 сентября 2011<br />
года, когда Путин объявил о том, что возвращается<br />
в Кремль, он тем самым изменил существующий<br />
политический порядок: это, конечно,<br />
была не та перемена, на которую надеялся<br />
Запад, но тем не менее речь идет о существенном<br />
сломе. Путин сохранил власть, но ценой<br />
разрушения того режима, который он сам<br />
строил на протяжении предыдущих лет.<br />
В путинской биографии есть много удивительного,<br />
но и много грустного. Она трагическим<br />
образом напоминает анекдот 1980-х<br />
про человека, который всю жизнь работал<br />
на заводе, где, как считалось, производились<br />
лучшие самовары в СССР. Год за годом он<br />
выносил с завода отдельные детали, надеясь,<br />
что сможет собрать у себя дома отличный<br />
самовар. Но как бы он ни соединял детали<br />
друг с другом, всякий раз получался вовсе не<br />
самовар, а автомат Калашникова.<br />
Чем не краткий пересказ путинской истории?<br />
ИВАН КРАСТЕВ
Рецензии<br />
Thane Gustafson. Wheel of Fortune: The Battle <strong>for</strong> Oil and Power in Russia. Belknap Press, 2012.<br />
672 p.<br />
Книга «Колесо Фортуны: Битва за нефть<br />
и власть в России» профессора Тейна<br />
Густафсона, очевидно, станет одним из<br />
ведущих академических источников по истории<br />
российской нефтяной отрасли за последние<br />
25 лет. Автор задается двумя обширными<br />
вопросами: как советская «нефтянка»<br />
пережила трансформацию постсоветского<br />
периода (в каком положении она находится<br />
сейчас) и как не допустить ее обвала в ближайшее<br />
десятилетие. Из объемной (более<br />
600 страниц) книги, разбитой на главы по<br />
ключевым темам из каждого десятилетия,<br />
которые не всегда следуют друг за другом в<br />
хронологическом порядке, мы узнаём о том,<br />
как партийная и отраслевая бюрократическая<br />
номенклатура вместе с более молодым<br />
«деловым» поколением, по сути, возродили<br />
нефтяную отрасль (появились три крупных и<br />
шесть средних частных компаний в дополнение<br />
к уже существовавшей государственной<br />
«Роснефти»). Дело в том, что добыча нефти<br />
начиная с 1988 года (когда пик составил<br />
около 600 млн тонн) стремительно падала и<br />
к середине девяностых сократилась почти<br />
вдвое. В начале же 2000-х она достигла уровня<br />
свыше 400 млн тонн, а затем, к 2010 году, поднялась<br />
практически на прежний уровень —<br />
выше 500 млн тонн (в книге эту динамику<br />
хорошо иллюстрирует график на с. 187).<br />
Однако, по мнению Густафсона, одним из<br />
ключевых моментов для всей истории отрасли<br />
стал 2002 год, когда частные компании,<br />
в первое десятилетие своей деятельности<br />
неподконтрольные государству, столкнулись<br />
с проснувшимся госаппаратом и всей его<br />
репрессивной машиной. Рассматривая политико-административные<br />
истоки путинской<br />
команды в Петербурге до 2002-го, развал<br />
«ЮКОСа» и параллельное возрождение<br />
«Роснефти» в 2003—2005-м, развитие налогового,<br />
лицензионного и другого базового<br />
нефтяного законодательства после ареста<br />
Ходорковского и анализируя роль иностранцев<br />
в ТНК-BP, в трех ведущих проектах по<br />
соглашению о разделе продукции (СРП) и в<br />
сервисных компаниях, автор приближается<br />
к финансовому кризису 2008—2010 годов.<br />
В результате кризиса стала очевидна фундаментальная<br />
проблема нефтяной отрасли страны,<br />
существовавшая еще со времен Михаила<br />
Горбачёва: более 60 проц. добычи даже в<br />
сегодняшней России производится из старых<br />
месторождений (браунфилдов), открытых и<br />
частично разработанных до 1988 года.<br />
Центральную тему всей книги можно<br />
сформулировать словами Алексея Кудрина,<br />
которые он произнес после своей отставки<br />
с поста министра финансов в 2011-м:<br />
«Нефтяная отрасль из локомотива экономики<br />
превратилась в ее тормоз» (с. 5). Автор<br />
не раз повторяет мысль, что нефть, как и<br />
другое стратегическое сырье в развивающейся<br />
стране, не является априори источником<br />
проблем и не предрасполагает к «ресурсному<br />
проклятью». Более того, Россия, по мнению<br />
автора, как Норвегия или Бразилия, теоретически<br />
имеет все шансы использовать нефтяные<br />
ресурсы в качестве своего основного<br />
конкурентного преимущества в мировой<br />
экономике и может стать при этом высокотехнологичным,<br />
устойчивым государством.<br />
Однако все устройство отрасли на сегодняшний<br />
день — от бюрократических наслоений<br />
конфликтующих ведомств, скопившихся в<br />
центральном правительстве и в регионах за<br />
три десятилетия, до конкурирующих государственных<br />
и частных компаний и кланов вну-<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 157
Илья ЗаславскИй<br />
три путинской вертикали, расплодившихся<br />
за последние несколько лет, — неминуемо ставит<br />
Россию в чрезвычайно уязвимое положение<br />
на мировом рынке нефти, где в ближайшие<br />
десять лет неизбежны резкие колебания<br />
цен и возможен их обвал.<br />
Каким образом российская «нефтянка»<br />
оказалась столь уязвимой? Густафсон отмечает,<br />
что Советский Союз на своем излете<br />
вовсе не был классическим «нефтесырьевым<br />
государством» (“petro-state”). Даже в 1980-е, на<br />
пике экспорта нефти, эта статья прибыли в<br />
доле доходов государства составляла меньше<br />
трети, а сама отрасль была создана с нуля российскими<br />
инженерами при использовании<br />
национального оборудования. (В отличие от<br />
Саудовской Аравии, Ирана или Ирака, где<br />
нефтяная отрасль расцвела благодаря иностранцам,<br />
а затем была национализирована.)<br />
Однако подобная независимость сослужила<br />
по-своему плохую службу для развития<br />
индустрии после развала СССР. Высокомерие<br />
и самодостаточность постсоветских чиновников<br />
и специалистов, уверенных в том, что<br />
прибегать к услугам иностранцев следует<br />
крайне редко и выборочно, наложились на<br />
моральный и ценностный вакуум, совпавший<br />
к тому же с резким выходом на мировой<br />
рынок (в том, что касается прямой торговли<br />
нефтью на ведущих площадках), который<br />
открыл путь к быстрому обогащению производственных<br />
компаний, подвластных вчерашним<br />
бюрократам и технократам, таким<br />
как Вагит Алекперов и Владимир Богданов.<br />
Ключевым же фактором стало то, что активы,<br />
доставшиеся первым частникам путем<br />
приватизации и залоговых аукционов, были<br />
уже развиты. Для возобновления их работы<br />
не требовалось значительных инвестиций и<br />
технических инноваций мирового уровня,<br />
достаточно было минимальных вложений,<br />
дабы перезапустить уже проверенный в<br />
советское время механизм поддержания<br />
добычи на месторождениях. Таким образом,<br />
158 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
в течение следующих десяти лет враждующие<br />
олигархическо-бюрократические группы<br />
непрестанно занимались «дележкой» работающих<br />
активов, оставляя в стороне их полноценное<br />
развитие и восполнение новыми разведанными<br />
запасами.<br />
***<br />
Новая книга Густафсона написана для<br />
широкого круга читателей и, как и «Добыча»<br />
Дэниела Ергина 1 , ориентирована прежде<br />
всего на западную академическую среду, студентов<br />
и преподавателей. С этой точки зрения<br />
для специалистов российской нефтяной<br />
отрасли многие факты, изложенные в книге,<br />
и их анализ не представляют собой ничего<br />
нового, скорее, они могут служить полезным<br />
хронологическим и тематическим справочником.<br />
К такого рода фактам относится история<br />
создания «ЮКОСа» и других частных<br />
компаний, первые СРП на Сахалине и на<br />
Харьяге, а также биография основных действующих<br />
лиц тех лет, включая Владимира<br />
Путина и Игоря Сечина до их переезда в<br />
Москву. Тем не менее вполне вероятно, что<br />
многие российские нефтяники откроют для<br />
себя ранее неизвестные детали, например,<br />
какие связи и просто удачное стечение обстоятельств<br />
помогли удержаться на плаву именно<br />
Алекперову и Богданову, а не другим двум<br />
десяткам «красных директоров».<br />
Что касается биографической составляющей<br />
книги, то наиболее ярким представляется<br />
анализ личности Михаила Ходорковского<br />
и его влияния на процесс возвращения<br />
сильного государства в отрасль. Густафсон<br />
подробно описывает, как происходило восхождение<br />
Ходорковского, как началось его<br />
противоборство с властью, каковы причины<br />
изоляции олигарха и в конечном итоге его<br />
поражения. Особенно интересен взгляд<br />
автора на то, почему разгром «ЮКОСа» пришелся<br />
именно на 2003—2004 годы и почему<br />
это случилось именно с Ходорковским.<br />
В убедительной последовательности автор
перечисляет все те многочисленные причины<br />
(по степени их влияния), которые привели<br />
к конфликту Ходорковского с государством<br />
и некоторыми ведущими олигархами.<br />
Ходорковский раздражает правительство<br />
тем, что занимается антиналоговым лоббированием<br />
в Думе, высказывает недовольство<br />
уровнем подготовки кадров в профильных<br />
госорганах, поучает Путина в вопросах строительства<br />
частного трубопровода в Китай,<br />
говорит о коррупции в «поднимающейся<br />
с колен» «Роснефти», вызывает ревность<br />
со стороны ФСБ и нефтяных компаний<br />
тем, что ведет переговоры о продаже части<br />
акций «ЮКОСа» и «Сибнефти» западным<br />
гигантам Exxon и Chevron, открыто бравирует<br />
колоссальным состояниям и влиянием во<br />
властных структурах. При всей симпатии<br />
автора к несомненным управленческим<br />
талантам Ходорковского и сочувствии к его<br />
дальнейшей печальной судьбе в российских<br />
судах, Густафсон хладнокровно перечисляет<br />
и не совсем лестные факты его биографии<br />
в те поворотные годы. В частности, по мнению<br />
автора, открытость «ЮКОСа» после<br />
2002 года и агрессивное продвижение идеи<br />
прозрачности компании в первую очередь<br />
объясняется тем, что Ходорковский осознал,<br />
насколько более прибыльным и политически<br />
весомым может стать не растущая добыча, а<br />
увеличение цены акций компании на мировых<br />
биржах, а также партнерство с глобальными<br />
энергетическими компаниями.<br />
Описывая атаку на «ЮКОС» и ее последствия,<br />
автор, на мой взгляд, слишком серьезно<br />
воспринимает реальность существования<br />
обособленных и четко оформленных лагерей<br />
«либералов» и «силовиков» в окружении<br />
Путина, а также их дальнейшую независимую<br />
роль в развитии отрасли после судебных процессов<br />
над компанией. Во-первых, наличие<br />
таких лагерей подразумевает возможность<br />
принятия ими независимых от Путина решений<br />
как относительно разгрома компании,<br />
Рецензии<br />
так и относительно последующих правил<br />
игры. Тем не менее факты, изложенные в<br />
книге, свидетельствуют о том, что ни один<br />
ключевой вопрос не мог решиться без согласия<br />
президента (начиная с арестов и разгрома<br />
компании в центре и в регионах и заканчивая<br />
произошедшим затем распределением<br />
активов между «Роснефтью», «Газпромом»<br />
и другими игроками). Во-вторых, этот тезис<br />
предполагает четко сформулированную<br />
идеологию, стратегические взгляды по самому<br />
широкому кругу вопросов деятельности<br />
правительства, а также готовность активно<br />
бороться за свое видение. Ничего подобного<br />
не было и нет. Скорее можно вести речь о<br />
том, что в окружении Путина выделялись<br />
две крупные группы: бывшие и действующие<br />
сотрудники силовых ведомств, особенно<br />
КГБ, и непартийные технократы.<br />
Еще точнее было бы говорить об «особо<br />
приближенных» инсайдерах (в частности, из<br />
кооператива «Озеро») самого разного происхождения,<br />
но прежде всего из советских<br />
спецслужб, и обо всех остальных высокопоставленных<br />
и лояльных, но не слишком<br />
обогащающихся лично исполнителях (вроде<br />
Сечина и Кудрина). Каждый из последних<br />
выполнял в те годы четко установленные<br />
для него функции в меру своих способностей<br />
и предрасположенностей, с тем чтобы<br />
обслуживать политические и экономические<br />
интересы президента и его ближайшего окружения.<br />
Невольно опровергая собственный тезис<br />
о двух лагерях, Густафсон отмечает, что и<br />
«либералы», и «силовики» в 2002—2004 годах<br />
объединились вокруг идеи, что надо непременно<br />
повышать налоги на нефтяную отрасль<br />
на фоне быстро растущих мировых цен на<br />
энергоносители и резко увеличить контроль<br />
со стороны государства по сравнению с предыдущим<br />
десятилетием. В дальнейшем, когда<br />
шел разгром «ЮКОСа», методы, с помощью<br />
которых уничтожалась компания, вызывали<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 159
Илья ЗаславскИй<br />
отторжение у разных технократов от Кудрина<br />
и Дворковича до Касьянова и Волошина,<br />
хотя и по разным причинам, не обязательно<br />
связанным с общим «либеральным» мировоззрением.<br />
Это, на мой взгляд, лишний раз<br />
свидетельствует о том, что на тот момент<br />
Путин самостоятельно принял решение показательно<br />
«выпороть» строптивого олигарха,<br />
для чего воспользовался услугами тех, кто располагал<br />
силовыми возможностями 2 .<br />
Значительно более убедительным представляется<br />
тезис Густафсона, что сами олигархи<br />
с одобрением приняли неправовое<br />
государство середины 2000-х, в котором уже<br />
царил не дикий капитализм 1990-х, а важнейшую<br />
роль стали играть коррупция и связи<br />
между представителями силовых органов.<br />
Автор обращает внимание на то, что в обмен<br />
на лояльность и контроль новое силовое<br />
государство гарантировало представителям<br />
высшей лиги РСПП итоги приватизации<br />
(которую на тот момент осуждали уже самые<br />
широкие слои общества) и стабильную прибыль<br />
от более-менее исправно работающих<br />
браунфилдов.<br />
Финансовый кризис 2008—2010 годов ускорил<br />
взаимное сближение лояльных олигархов<br />
и путинского государственного аппарата.<br />
В обмен на государственные кредитные вливания<br />
и прочие послабления руководители<br />
оставшихся частных нефтяных компаний<br />
согласились со всеми элементами «ручного»<br />
управления отрасли: от лицензионных конкурсов<br />
«для своих» до административного<br />
регулирования сезонных цен на нефтепродукты.<br />
В эти же годы обнажились основные<br />
проблемы «нефтянки», которые не были<br />
очевидны в период экономического роста:<br />
началось безвозвратное падение добычи<br />
браунфилдов в Западной Сибири, притом<br />
что на разведку новых запасов и разработку<br />
новых месторождений (гринфилдов) за двадцать<br />
лет были выделены в целом мизерные<br />
суммы в сравнении с мировыми масштабами.<br />
160 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
Во многом это объяснялось жесточайшей<br />
налоговой политикой по изъятию нефтяной<br />
ренты, которой правительство стало придерживаться<br />
к середине 2000-х.<br />
Кроме того, столь фатальная зависимость<br />
нефтедобычи от советских браунфилдов в<br />
немалой степени связана также с острым<br />
нежеланием российских ведомств и компаний<br />
привлекать в качестве полноценных<br />
партнеров или на правах СРП ведущие иностранные<br />
компании, которые способны<br />
найти и разработать существенные новые<br />
ресурсы. Две отдельные главы в книге рассказывают<br />
о том, что помимо трех СРП, которые<br />
были заключены в ельцинское время, а<br />
при Путине пережили перераспределение<br />
части акций в пользу российских компаний,<br />
за последние 25 лет в России успешными<br />
были лишь две иностранные компании — это<br />
BP и Schlumberger. Первая смогла получить<br />
партнерство с российской ТНК лишь после<br />
бурной корпоративной войны в России и в<br />
мире (закончившейся вничью в конце 1990-х)<br />
и только на условиях равных долей владения<br />
общей компанией, что, как выяснилось в<br />
2008 году во время нового витка конфликта,<br />
не способно гарантировать соблюдения прав<br />
иностранцев на территории России. Вторая<br />
компания представляет собой крупную сервисную<br />
компанию, которая выжила на российском<br />
рынке в основном благодаря адаптации<br />
к более консервативным и устаревшим<br />
технологическим методам добычи в России, а<br />
не путем привнесения передового мирового<br />
опыта, как планировала изначально. В итоге<br />
российская нефтяная отрасль, эксплуатируя<br />
работающие месторождения еще советских<br />
времен в условиях отсутствия в стране объективной<br />
судебной системы и политической<br />
неприязни к иностранному участию, так и<br />
осталась изолированной от современных технологий<br />
добычи и менеджмента, несмотря<br />
на многолетнюю возможность измениться к<br />
лучшему.
Густафсон отмечает, что в последнем<br />
докладе Международного энергетического<br />
агентства (МЭА) жестко констатируется,<br />
что если Россия хочет оставаться серьезным<br />
игроком на мировом нефтяном рынке, то к<br />
2035 году более трети российского производства<br />
нефти должно быть на месторождениях,<br />
на сегодняшний день не только не разработанных,<br />
но даже еще и не открытых.<br />
Какие пути выхода из сложившейся<br />
непростой ситуации в российской нефтяной<br />
отрасли предлагает американский исследователь?<br />
Мировой опыт подсказывает автору,<br />
что крупным российским компаниям не<br />
стоит любой ценой поддерживать уровень<br />
добычи на старых месторождениях, где профиль<br />
производства неминуемо снижается.<br />
Нефтяникам нужно перестать гнаться за объемами<br />
добычи, как в советские времена, и<br />
переключиться на коммерческий аспект каждого<br />
месторождения. Для этого необходимо<br />
развивать другие большие месторождения,<br />
а малорентабельные браунфилды передать<br />
в управление местным и западным средним<br />
и малым компаниям, которые готовы максимально<br />
сосредоточить все свои усилия на<br />
одном-двух месторождениях с привлечением<br />
специальных технологий и способны тщательно<br />
контролировать расходы. Крупным<br />
же компаниям автор рекомендует отказаться<br />
от непрофильных активов, не бояться передать<br />
на аутсорсинг внедрение передовых технологий<br />
(как, например, обустройство «цифрового»<br />
месторождения, отслеживающего<br />
комплексные параметры добычи в режиме<br />
реального времени), расширить все аспекты<br />
взаимодействия с внешним миром, прежде<br />
всего партнерство и обучение персонала, как<br />
это делают бразильские и даже китайские<br />
нефтяные компании (с. 475).<br />
В конце книги Густафсон, как добросовестный<br />
представитель консалтинговой<br />
фирмы КЭРА, избегает точных долгосрочных<br />
прогнозов развития нефтяной отрасли<br />
Рецензии<br />
в России. Вместо этого он предлагает хорошо<br />
структурированные сценарии, связанные<br />
с ростом и падением мировых цен на нефть<br />
в ближайшие десять лет. Хотя многие факторы<br />
говорят в пользу роста цен на нефть<br />
(от геополитики на Ближнем Востоке до<br />
увеличения спроса в случае резкого подъема<br />
мировой экономики), исследователь<br />
скорее склоняется к тому, что долгосрочный<br />
спрос на нефть будет падать, поскольку это<br />
сырье активно замещается другими видами<br />
топлива и все ведущие страны взяли курс на<br />
энергоэффективность за счет импортируемой<br />
нефти.<br />
Для России наиболее важна ситуация<br />
падения цен на нефть. В этом случае она становится<br />
пассивным ценополучателем, неспособным,<br />
как, скажем, Саудовская Аравия,<br />
повлиять на динамику цены. При этом возникают<br />
ножницы между растущей стоимостью<br />
добычи на истощающихся браунфилдах и<br />
снижающейся рентой от экспорта не только<br />
нефти, но и всех товаров, в которых та играет<br />
существенную роль: сталь, удобрения и т. д.<br />
Густафсон предлагает три возможных<br />
сценария, как Россия отреагирует на вызовы<br />
следующего десятилетия (каждый из которых<br />
связан с именем определенного политического<br />
деятеля):<br />
• высокотехнологическая модернизация<br />
Дмитрия Медведева;<br />
• возврат к рыночной реформе Алексея<br />
Кудрина;<br />
• продолжение статус-кво Владимира<br />
Путина.<br />
Первый сценарий автор, в сущности, и не<br />
рассматривает всерьез, по крайней мере на<br />
ближайшую перспективу: настолько мала поддержка<br />
Медведева и неочевидна готовность<br />
хотя бы кого-нибудь, обладающего реальной<br />
властью, его осуществлять. Этот сценарий<br />
напоминает Густафсону стандартный призыв<br />
советской «пятилетки», когда вдруг предлагается<br />
одним резким скачком преодолеть<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 161
Илья ЗаславскИй<br />
все накопившиеся в отрасли проблемы, но не<br />
уточняется, какими методами.<br />
Сценарий Кудрина, кроме макроэкономической<br />
стерильности, не имеет прямого<br />
отношения к «нефтянке»: только приоритет<br />
низкой инфляции, стабильный курс<br />
валюты и укрепление прав собственности.<br />
В этом сценарии нет ни слова о реальных<br />
отраслевых реформах, таких как, например,<br />
отказ от практически тотальной монополии<br />
«Транснефти» на транзит и экспорт нефти.<br />
Путинский сценарий заключается в том,<br />
что государство сохраняет приоритетный контроль<br />
за отраслью, особенно за ее доходами, а<br />
государственные компании остаются главными<br />
разработчиками новых месторождений.<br />
Густафсон пишет, что любой из сценариев<br />
или комбинация из всех трех может иметь<br />
место в России в долгосрочной переспективе,<br />
хотя складывается впечатление, что<br />
наиболее реальным автору представляется<br />
третий вариант. Есть одно, в чем Густафсон<br />
уверен точно: аномально благоприятные<br />
условия первого десятилетия нового века<br />
вряд ли повторятся. За этот период благодаря<br />
скакнувшим в четыре раза мировым ценам<br />
на нефть бюджет России увеличился в девять<br />
раз, реальная оплата труда выросла в три<br />
раза, а производство нефти — почти вдвое.<br />
Автор считает, что в ближайшие десять<br />
лет получаемая российским правительством<br />
природная рента неизбежно уменьшится, а<br />
социальные расходы, напротив, только возрастут;<br />
для нефтяной отрасли придется снизить<br />
налоги, дабы она могла больше вложить<br />
в разведку. В связи с этим сразу возникает<br />
множество проблем и вопросов, на которые<br />
ранее не обращали внимания и которые<br />
книга уже не успевает раскрыть.<br />
Хотелось бы думать, например, что российское<br />
правительство вернется к вопросу<br />
о естественном (экономически и социально<br />
обоснованном) энергетическом балансе страны:<br />
насколько он должен состоять из нефти<br />
162 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
(и извлекаемого из нее мазута), насколько из<br />
газа, угля, древесных отходов, возобновляемых<br />
источников. Сейчас цены на газ в России<br />
завышены из-за монополии «Газпрома», а<br />
потенциал ветряков и вовсе практически не<br />
используется.<br />
Одновременно встает и проблема долгосрочного<br />
планирования в энергетике.<br />
Осмысленно ли оно в нынешнем виде, когда<br />
из целого ряда министерств бесконечным<br />
потоком выходят «генсхемы» нефтяной,<br />
газовой и электроэнергетической отрасли,<br />
«экологическая стратегия», «энергетическая<br />
стратегия»-2020 и 2030? Их согласовывают<br />
годами, сражаясь за ведомственные полномочия,<br />
но при этом документы устаревают еще<br />
на стадии выхода. Есть множество примеров,<br />
доказывающих, что основные положения<br />
этих якобы «стратегических» документов в<br />
одночасье могут быть изменены в угоду сиюминутным<br />
интересам инсайдеров режима.<br />
Так, например, монополия «Газпрома» на<br />
экспорт сейчас отменяется ради интересов<br />
«Новатека», большим пакетом акций которого<br />
владеет Геннадий Тимченко. Возможно,<br />
задача государственных ведомств состоит<br />
в том, чтобы не пытаться планировать развитие<br />
отраслевых показателей до 2030 года<br />
наподобие Госплана, а заняться созданием<br />
прозрачных правил, соответствующих уже<br />
принятым нормативно-правовым положениям,<br />
особенно что касается таких базовых<br />
прав, как неприкосновенность частной собственности.<br />
Объективный аналитик, не подверженный<br />
влиянию СМИ, не должен принимать на веру<br />
ключевые установки в сегодняшней российской<br />
«нефтянке». Почему в «Роснефти» так<br />
много говорят о необходимости быстрой<br />
разработки арктического шельфа, когда в<br />
Восточной Сибири, на суше, не так далеко<br />
от центров потребления, разведано всего<br />
около 5 проц. запасов? К тому же в России<br />
есть лишь один пример разработки шельфа
на Арктике — Приразломное месторождение<br />
«Газпромнефти», которое далеко не блещет<br />
ни финансовыми, ни инфраструктурными,<br />
ни экологическими достижениями.<br />
Не исключено, что эти проекты стремятся<br />
разработать для освоения крупных, сконцентрированных<br />
в одном месте бюджетов,<br />
а также для того, чтобы с помощью мегапартнерства<br />
поставить ведущие западные нефтяные<br />
компании в политическую зависимость<br />
от нынешнего российского режима.<br />
Быть может, аналитики сумеют доказать,<br />
что разработка малых и старых месторожде-<br />
ПРИМЕЧАНИЯ 1 Интересный материал об этой<br />
книге см.: Мельников К. Автора на вышку! //<br />
Коммерсантъ Власть. 2013. № 5 (11 февр.) (http://<br />
www.kommersant.ru/doc/2121570/print).<br />
2 Тот факт, что подобного рода решения не<br />
могут быть навязаны «силовиками», очевидным<br />
образом подтверждается историей с главой<br />
«Русснефти» Михаилом Гуцериевым, имевшей<br />
место позже, в 2006—2010 годах. Так, в 2006-м,<br />
когда Гуцериев утратил расположение властей,<br />
против него и против руководства его компании<br />
«Русснефть» было возбуждено больше 70<br />
удивительная особенность<br />
русской национальной<br />
«Поистине<br />
мифологии о победе над<br />
Наполеоном состоит в том, что она крайне<br />
преуменьшает русские достижения».<br />
Доминик Ливен делает это совершенно<br />
справедливое замечание в заключении<br />
своей книги о борьбе России с Наполеоном.<br />
Действительно, в России это до сих пор<br />
война 1812 года, вот и музей только что<br />
Рецензии<br />
ний в Западной Сибири и в других традиционных<br />
центрах добычи силами средних нефтяных<br />
компаний из России и из-за рубежа — это<br />
более эффективный для отрасли и государственного<br />
бюджета тип проекта. Остается<br />
надеяться, что сторонний беспристрастный<br />
взгляд американского профессора поможет не<br />
только западным академическим кругам разобраться<br />
в истории нефтяной отрасли России,<br />
но и российским чиновникам и руководителям<br />
нефтяного сектора составить рациональный<br />
план движения вперед.<br />
ИЛЬЯ ЗАСЛАВСКИЙ<br />
уголовных дел. В июле 2007 года, после того<br />
как «Русснефть» обвинили в неуплате налогов,<br />
Гуцериев покинул Россию. Месяцем позже<br />
Тверской районный суд Москвы заочно арестовал<br />
Гуцериева. Три года Гуцериев прожил в Лондоне,<br />
находясь в международном розыске. В 2010-м все<br />
обвинения с Гуцериева были сняты, и он вернулся<br />
в Москву. Стоило Путину сменить гнев на милость,<br />
никакая вражда Сечина и других «силовиков» по<br />
отношению к Гуцериеву не смогла повлиять на<br />
решение вернуть ему контроль над нефтяной компанией.<br />
Dominic Lieven. Russia Against Napoleon: The True Story of the Campaigns of War and <strong>Peace</strong>. N. Y.:<br />
Viking, 2009. xvii + 617 p.<br />
одноименный открыли в рамках «года<br />
истории». Спаситель у нас Кутузов, старавшийся<br />
поменьше вмешиваться в божий<br />
промысел. И конечно, народ, «поднявший<br />
дубину», каковая дубина занимает в упомянутом<br />
музее почетное место в экспозиции.<br />
Хорошо хоть, не приходится выбирать<br />
между народом и Кутузовым, как выбираем<br />
мы с упорством, достойным лучшего применения,<br />
между двумя спасителями — народом<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 163
Алексей Миллер<br />
и Сталиным — применительно ко второй<br />
Отечественной.<br />
Несправедливо было бы все свалить на<br />
Льва Толстого, хотя Ливен и указывает на него<br />
прямо в подзаголовке книги как на своего главного<br />
оппонента. Просто концепция Толстого,<br />
после дополнительного упрощения, оказалась<br />
весьма удобной для той версии национального<br />
мифа советского покроя, которую до сих пор<br />
учат в школе. В ней есть прусские генералы,<br />
дающие глупые советы, в ней нет Александра I<br />
как значительного персонажа, а Россия войну<br />
ведет и победу одерживает в одиночку.<br />
Теперь у нас есть книга, которая позволяет<br />
увидеть историю борьбы России с<br />
Наполеоном во всей ее величественной полноте.<br />
Книгу эту написал британский историк,<br />
чьи предки немало отличились на русской<br />
службе, в том числе и в ходе этой войны.<br />
Без сомнения, это на сегодня лучшая книга<br />
Ливена и, рискну предположить, самая важная<br />
для него лично. Эта война и русская армия в<br />
этой войне — для Ливена и предмет многолетнего<br />
исследования, и часть семейной легенды,<br />
и даже хобби — он уже много лет коллекционирует<br />
фигурки солдатиков того времени.<br />
Пожалуй, больше всего меня, как профессионального<br />
историка, удивляет многогранность<br />
Ливена. Прежде всего он блестящий<br />
военный историк. Десять лет назад, когда<br />
всех интересовало в империях их умение<br />
регулировать разнородность, полиэтничность<br />
и поликонфессиональность, или так<br />
называемая «мягкая сила», Ливен жестко<br />
напомнил в своей книге «Империя: Россия<br />
и ее соперники» (в русском переводе название<br />
было переиначено — с тенденцией — как<br />
«Россия и ее враги» * ), что империя — это,<br />
прежде всего, механизм генерирования и<br />
проекции жесткой, военной силы.<br />
* Ливен Д. Российская империя и ее враги с XVI<br />
века до наших дней. М.: Европа, 2007. См. рецензию<br />
Алексея Миллера на русский перевод книги в: Pro et<br />
Contra. Том 11. 2007. № 3. С. 110—114. — Прим. ред.<br />
164 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
Боевые действия и армия показаны<br />
Ливеном от «а до я». Ход сражений описан<br />
подробно и в то же время увлекательно.<br />
Пожалуй, главная удача Ливена в этой<br />
части — то, как ему удается заставить читателя<br />
почувствовать фактор времени в ходе<br />
войны, его особенности и его значение<br />
в условиях, когда информация двигалась<br />
со скоростью всадника, а большая часть<br />
армии — со скоростью нагруженного амуницией<br />
солдата.<br />
Но война у Ливена далеко не исчерпывается<br />
рассказом о сражениях.<br />
Мы узнаем, как солдата мобилизовали, как<br />
он ел, пил, спал, как его учили, лечили. Мы<br />
узнаем, как работали тыловые службы — от<br />
заготовки провианта до производства вооружений.<br />
Ливен рассказывает, как старались<br />
сохранить костяк воинских частей, выводя их<br />
из боя при определенном проценте потерь,<br />
как вливали пополнение в потрепанные в боях<br />
части, что значил боевой опыт. Он показывает,<br />
как солдаты того времени, в силу условий<br />
службы и ее почти пожизненного характера,<br />
сплачивались если не в семью, то в своеобразную<br />
артель, с общим котлом, общей казной,<br />
общим пониманием воинской чести, и как это<br />
влияло на стойкость солдат в бою. Все это —<br />
превосходный образец уже не столько сугубо<br />
военной, сколько социальной истории. Все<br />
это позволяет Ливену объяснить тот парадокс,<br />
что русская армия, во многих отношениях традиционная,<br />
оказалась не менее боеспособной,<br />
чем созданная на новых основаниях «вооруженной<br />
нации» и изначально лучше вооруженная<br />
армия Наполеона. И это позволяет Ливену<br />
развенчать миф о том, что русские солдаты<br />
не имели в 1813 году той мотивации, что была<br />
у них в 1812-м. Верность сослуживцам, честь<br />
полка никуда не исчезли в европейском походе.<br />
Не менее внимательно и увлекательно<br />
Ливен обсуждает стратегический аспект<br />
войны. Он рассказывает, какую колоссальную<br />
роль в успехе России в 1812 году сыграла раз-
ведка, благодаря которой планы Наполеона<br />
были Александру I известны заранее. Миф о<br />
победе русского народа в форме и с ружьем или<br />
в тулупе с дубиной отодвигает в тень забвения<br />
выдающуюся роль Александра. Эта роль хорошо<br />
видна уже на начальном этапе войны, когда<br />
он, пришедший на трон при хорошо известных<br />
обстоятельствах и знавший, как зыбка бывает<br />
монаршая власть, выбрал вместе с Барклаем<br />
единственно верную тактику долгого отступления,<br />
рискуя потерей контроля над собственными<br />
элитами. В этот момент он переиграл<br />
Наполеона, заставив его вести совсем не такую<br />
войну, на которую тот рассчитывал.<br />
Что еще остается за рамками нашего<br />
мифа о войне с Наполеоном? Например, тот<br />
основополагающий факт, что Россия была<br />
аристократической полиэтнической империей<br />
и офицерский корпус ее армии был<br />
собранием людей, происходивших из самых<br />
разных уголков Европы. Наиболее наглядно<br />
этот факт представлен в помещенных в<br />
конце книги двух списках командного состава<br />
армии (один — на начало кампании 1812-го,<br />
другой — на начало кампании 1813 года),<br />
которые по совершенно непонятной причине<br />
отсутствуют в русском издании.<br />
Но самый главный вклад Ливена в преодоление<br />
нашего мифа 1812 года состоит в<br />
том, что он отказывается остановиться там,<br />
где Толстой закончил свое повествование,<br />
похоронив Кутузова. Вторая половина книги<br />
посвящена событиям 1813—1814 годов,<br />
которым в рамках отечественного мифа<br />
места не нашлось. (Ну разве что за исключением<br />
мифического происхождения слова<br />
«бистро».) Это как если бы историю второй<br />
Отечественной рассказывали только до<br />
Рецензии<br />
1943 года. Между тем Россия в начале XIX<br />
века сумела привести в Европу пятисоттысячную<br />
армию, сохранить ее боеспособность<br />
в течение длительной кампании на чужой<br />
территории и при этом не восстановить против<br />
себя местное население. И это в Европе,<br />
где на тот момент лишь четыре города имели<br />
численность более 500 тыс. человек.<br />
Здесь Ливен вновь воздает должное<br />
Александру как архитектору коалиции,<br />
объединившей три великие европейские<br />
династии и сохранившей свою прочность<br />
до полного разгрома Наполеона в 1814 году,<br />
что исключило для него возможность реванша.<br />
(А «сто дней» после бегства с Эльбы<br />
показали, что со стороны Наполеона попытка<br />
реванша была неизбежна.) В рассказе<br />
о 1813—1814 годах Ливен уже предстает блестящим<br />
историком дипломатии.<br />
Конечно, замечает в заключение Ливен,<br />
русским удобнее идентифицировать себя с<br />
армией, которая под командованием<br />
Кутузова в одиночку сражалась с врагом под<br />
Бородином, а не с коалиционной армией под<br />
командованием Барклая и Карла<br />
Шварценберга, победившей при Лейпциге.<br />
Так и англичане больше всего любят вспоминать,<br />
как они в одиночку сражались с<br />
Гитлером в 1940-м. Но когда Александр в<br />
1813 году повел свою измотанную армию в<br />
Центральную Европу, чтобы мобилизовать<br />
нерешительных союзников и твердой рукой<br />
привести их в Париж, он исходил из того,<br />
что только так может обеспечить безопасность<br />
собственной страны. Достижениями<br />
этого периода русским следует гордиться не<br />
меньше, чем подвигами 1812 года.<br />
АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 165
Алексей МАкАркин<br />
Блэр Рубл. Вашингтонская U-стрит: Биография / Пер. с англ. [Blair A. Ruble. Washington’s<br />
U Street: A Biography. Johns Hopkins Univ. Press, 2010]. М.: Московская школа политических<br />
исследований, 2012. 424 с.<br />
Автор рецензируемой книги Блэр<br />
Рубл — известный американский<br />
урбанист и политолог, директор<br />
Института Кеннана, руководитель Проекта<br />
сравнительных урбанистических исследований<br />
при Международном центре имени<br />
Вудро Вильсона. Его книга, изданная в русском<br />
переводе Московской школой политических<br />
исследований и представляющая<br />
собой, в сущности, «биографию» одной<br />
вашингтонской улицы и ее окрестностей,<br />
содержит много интересного и поучительного<br />
и для российского читателя.<br />
U-стрит — это район Вашингтона, где в<br />
течение многих лет проживают преимущественно<br />
афроамериканцы. История этой<br />
улицы начинается со времен Гражданской<br />
войны (1861—1865), когда возник феномен<br />
многорасовой городской общины. За этим<br />
последовали годы новой сегрегации (после<br />
отмены самоуправления в Вашингтоне), но<br />
и — вместе с тем — постепенного складывания<br />
«черного» среднего класса, появления<br />
афроамериканских образовательных и<br />
гуманитарных учреждений. Близ U-стрит в<br />
разное время жили знаменитый музыкант<br />
Дюк Эллингтон и основательница американского<br />
Красного Креста Клара Бартон, здесь<br />
учился будущий первый чернокожий судья<br />
Верховного суда США Тёргуд Маршалл, а<br />
Ральф Банч (спустя десятилетия он станет<br />
заместителем Генерального секретаря ООН<br />
и нобелевским лауреатом) участвовал в ненасильственных<br />
акциях протеста против сегрегации.<br />
Рядом с U-стрит в 1867-м был основан<br />
Университет Ховарда, одно из ведущих высших<br />
учебных заведений с совместным обуче-<br />
166 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
нием белых и черных, а тремя годами позже<br />
открылась первая публичная школа для афроамериканцев.<br />
В 1930-е годы Университет<br />
Ховарда стал не только образовательным<br />
центром, но и средоточием гражданской<br />
активности. Автор, в частности, обращает<br />
внимание на то, что студенты и преподаватели<br />
одного из его факультетов — юридического,<br />
по-новому подходя к проблеме «право и<br />
расы», закладывали правовые основания под<br />
стратегию американского движения за гражданские<br />
права. Факультет стал подлинной<br />
«лабораторией» гражданских прав. Важно и<br />
то, что одновременно росло качество преподавания,<br />
а требования к абитуриентам становились<br />
строже. Это повышало конкурентоспособность<br />
выпускников факультета на<br />
рынке труда. Именно юристы, окончившие<br />
Ховард, выиграли в 1930—1950-х годах судебные<br />
процессы, создавшие правовой фундамент<br />
для отмены сегрегации.<br />
История U-стрит — это летопись десятилетий<br />
борьбы за равные права, борьбы,<br />
принципиально изменившей облик Америки.<br />
Сегодня трудно себе представить, что еще в<br />
1930-е администрация Национального театра<br />
Вашингтона нанимала чернокожих парней,<br />
чтобы те задерживали и не пропускали на<br />
спектакли своих собратьев, пытавшихся преодолеть<br />
расовый контроль. А кончилось все<br />
это победой в нескольких судебных делах,<br />
которые возбуждали активисты, пытавшиеся<br />
добиться отмены дискриминационных правил.<br />
Впрочем, к тому времени театр был уже<br />
одним из немногих мест в американской столице,<br />
куда был закрыт доступ черным.<br />
Понятно, что борьба — это дело рук<br />
конкретных людей. Книга Рубла напол-
нена именами, более того, в конце каждой<br />
из ее глав читатель найдет очерки о<br />
знаменитостях, с чьими именами связан<br />
исследуемый район. И в то же время в ней<br />
проанализированы особенности развития<br />
самой чернокожей общины города, в том<br />
числе формирование афроамериканского<br />
среднего класса, что позволило фрагментированному<br />
до тех пор сообществу черных<br />
к концу XIX века осознать свою идентичность.<br />
«Афроамериканские коммерческие и<br />
некоммерческие организации и объединения<br />
оказывали населению широкий спектр<br />
услуг, которые не предоставлял город белых:<br />
они издавали журналы, ставили спектакли,<br />
открывали рестораны, проектировали<br />
театры, строили отели и многоквартирные<br />
дома, торговали автомобилями, основывали<br />
отделения YMCA [Христианская ассоциация<br />
молодежи] и прочие институты, помогающие<br />
людям», — отмечает автор. Далее он перечисляет<br />
деловые организации и финансовые<br />
учреждения, созданные представителями<br />
афроамериканской общины: Национальная<br />
лига негритянского бизнеса, Столичный<br />
сберегательный банк, Реформаторский банк,<br />
Национальная компания страхования жизни,<br />
Ассоциация индустриального строительства<br />
и сбережений.<br />
Одной из целей борьбы афроамериканцев<br />
было требование ввести в Вашингтоне самоуправление,<br />
которое было отменено в 70-е<br />
годы XIX века, в результате чего «черная»<br />
община оказалась отстранена от реального<br />
влияния на политические процессы в городе.<br />
Только движение за гражданские права<br />
1960-х, питаемое как всплеском общественной<br />
активности, так и развитием «черного»<br />
среднего класса, добилось для вашингтонцев<br />
права выбирать мэра. А сложившийся к тому<br />
времени этнический баланс сил в городе обеспечил<br />
избрание мэром афроамериканца.<br />
С точки зрения Рубла, U-стрит всегда служила<br />
«контактной зоной» для разнообразных<br />
Рецензии<br />
расовых, культурных и экономических сообществ,<br />
населявших Вашингтон. «Класс и раса<br />
неизменно оставались решающими факторами<br />
разломов, проходящих по самому сердцу<br />
этой улицы. Район был передним краем пространства,<br />
где сталкиваются люди настолько<br />
разные, что их общение кажется невыносимым»,<br />
— отмечает исследователь. Кажется,<br />
диагноз поставлен, и притом крайне неутешительный.<br />
Но Рубл не случайно говорит о<br />
«кажущейся невыносимости». Он противопоставляет<br />
вспышку насилия на расовой почве<br />
в бурном 1968-м (предшествовавшую восстановлению<br />
вашингтонского самоуправления)<br />
и совместное празднование первой победы<br />
Барака Обамы на президентских выборах<br />
«людьми всех мыслимых возрастов, облика и<br />
цвета кожи» четырьмя десятилетиями позже.<br />
На смену ярости пришла радость — и это<br />
наблюдение заставляет книгу Рубла звучать<br />
оптимистично.<br />
Разумеется, гарантию того, что ярость —<br />
хотя бы частично — больше никогда не возвратится,<br />
дать никто не может. Да и вообще,<br />
состояние и ярости, и радости — это пусть и<br />
яркие, но все же аномальные вспышки истории<br />
на фоне повседневности, окрашенной<br />
всеми «оттенками серого». Обратим внимание<br />
также на то, что ликование по случаю<br />
избрания Обамы в 2008 году, охватившее<br />
U-стрит и весь преимущественно афроамериканский<br />
Вашингтон, уравновешивается<br />
скорбью по тому же поводу в штатах библейского<br />
пояса (так называют южные штаты, в<br />
которых сильны позиции консервативных<br />
республиканцев), голосовавших за Джона<br />
Маккейна. И все же хочется понять, как<br />
ярость, накапливавшаяся в течение десятилетий,<br />
преобразилась в радость, и это при<br />
сохранении всех общественных противоречий,<br />
на которые так любят обращать внимание<br />
критики современной Америки — как<br />
стремящиеся к объективности, так и явно<br />
пристрастные.<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 167
Алексей МАкАркин<br />
И здесь напрашивается сравнение с современной<br />
Россией. Причем сразу в двух отношениях.<br />
Прежде всего, в контексте межнациональных<br />
взаимодействий. В российской столице<br />
пока нет столь масштабных национальных<br />
проблем, хотя первые конфликты уже начинают<br />
проявляться: например, ни в одном районе<br />
Москвы не удается получить разрешение на<br />
строительство новой мечети из-за массовых<br />
протестов местного населения. Однако в случае<br />
российской столицы речь пока не идет<br />
о появлении территорий с численным преобладанием<br />
меньшинств, хотя удельный вес<br />
выходцев из Центральной Азии в ряде районов<br />
Москвы постепенно растет. Не случайно<br />
в последние годы националисты провели ряд<br />
своих акций в Люблино, где межнациональные<br />
проблемы ощущаются особенно остро.<br />
Но пока меньшинства, которые чувствуют себя<br />
в Москве (как и в других городах Центральной<br />
России) «чужаками», зависимыми от правоохранительных<br />
органов и местных властей,<br />
время от времени сталкиваются с недовольством<br />
со стороны «коренного населения», обеспокоенного<br />
быстрым изменением национального<br />
состава жителей в своем районе.<br />
Между тем со временем ситуация может<br />
измениться: «понаехавшие», несмотря на все<br />
препятствия, не только приезжают в Москву,<br />
но и укореняются в ней. Многие становятся<br />
мелкими собственниками, пополняя ряды<br />
того самого малого бизнеса, о котором вроде<br />
бы должны денно и нощно печься современные<br />
российские власти (что, впрочем,<br />
не делает его более защищенным). Сейчас<br />
общество привыкло к зависимым мигрантам-просителям,<br />
но не получит ли оно через<br />
одно-два поколения «соседей» с существенно<br />
возросшими амбициями и аппетитами, в<br />
отношениях с которыми будет действовать<br />
совсем другая повестка дня. Они будут воспринимать<br />
Москву как свой город, в котором<br />
они родились и в котором хотят влиять на<br />
общественно-политические процессы.<br />
168 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
В то же время сегодня ни власть, ни оппозиция<br />
не могут найти адекватных подходов<br />
к столь сложному и «неудобному» (с точки<br />
зрения общественного мнения) диалогу — и<br />
далеко не факт, что такие подходы удастся<br />
найти в обозримом будущем. Представляется,<br />
что для многих людей во власти националисты,<br />
требующие резкого ужесточения<br />
миграционной политики, выглядят более<br />
приемлемыми партнерами для взаимодействия,<br />
чем демократическая оппозиция. Что<br />
же до последней, то для ее значительной<br />
части националисты ближе, чем властная<br />
либеральная бюрократия или даже умеренно<br />
либеральные общественники. На выборах в<br />
Координационный совет оппозиции, состоявшихся<br />
осенью 2012 года, ультраправые<br />
получили квоту в 5 мест из 50. Таким образом,<br />
российский политический класс демонстрирует<br />
куда большую степень совместимости с<br />
националистами, чем западный (что в общемто<br />
неудивительно — в российском обществе<br />
нет влиятельного «проиммигрантского»<br />
сегмента, который бы уравновешивал антииммигрантские<br />
настроения).<br />
Еще один аспект проблемы связан с действиями<br />
самих российских властей, всячески<br />
сдерживающих интеграцию в политическую<br />
систему недостаточно лояльных активистов.<br />
Американский опыт, как и любой другой опыт<br />
практической политики, нельзя считать идеальным.<br />
США знали и расовую дискриминацию,<br />
и маккартизм. Но важнее то, что эти явления<br />
американской истории осуждены общественным<br />
мнением. А потому ассоциироваться<br />
с сенатором Маккарти в современной Америке<br />
постыдно вне зависимости от принадлежности<br />
к политической партии. Важно также, что американская<br />
элита все же пришла к пониманию<br />
того, что нонконформисты могут быть востребованы<br />
системой, а издержки от недостаточной<br />
компетентности демократически избранных<br />
политиков ниже, чем от авторитарного<br />
ограничения политической демократии.
Среди главных героев книги Рубла —<br />
Марион Шепилов Барри, один из наиболее<br />
противоречивых афроамериканских политиков<br />
ХХ века. Молодой радикал, он взял себе<br />
второе имя в честь недолго продержавшегося<br />
на своем посту главы советского МИДа, сейчас<br />
более памятного в России по формуле<br />
«и примкнувший к ним Шепилов» (имеется<br />
в виду его причастность к сталинистской<br />
группировке в руководстве КПСС в 1957<br />
году). В начале 1970-х Марион Барри вошел<br />
в первый состав избранного городского<br />
совета, а с 1978-го неоднократно избирался<br />
мэром Вашингтона. Спустя почти 12 лет он<br />
был вынужден покинуть этот пост под грузом<br />
тяжких обвинений — в трех лжесвидетельствах,<br />
десяти случаях хранения наркотиков и<br />
одном преступном сговоре. Позднее суд признал<br />
его виновным только по одному обвинению<br />
— в хранении кокаина, что не помешало<br />
ему спустя несколько лет вернуться в кресло<br />
мэра и занимать его еще четыре года, а затем<br />
избраться в окружной совет, членом которого<br />
Барри оставался на момент написания<br />
этой книги.<br />
Разумеется, Барри — это, в каком-то смысле,<br />
аномалия современной Америки (в книге<br />
есть немало примеров интеграции куда более<br />
вменяемых общественных и политических<br />
фигур). Этому харизматику, позиционирующему<br />
себя в качестве народного защитника,<br />
избиратели готовы были простить то, что<br />
означало бы конец карьеры для большинства<br />
других политиков. Правда, государство<br />
стремилось минимизировать последствия<br />
управленческой эксцентрики героя «черной»<br />
общины. Так, администрация Билла<br />
Клинтона провела закон о создании контрольного<br />
управления, которое установило<br />
надзор за финансами округа во время последнего<br />
срока пребывания Барри на посту мэра.<br />
Рецензии<br />
В результате это поспособствовало оздоровлению<br />
городских финансов Вашингтона, а<br />
один из главных менеджеров контрольного<br />
управления стал преемником Барри на посту<br />
всенародно избранного мэра. Однако никому<br />
всерьез не приходило в голову лишить нонконформистского<br />
лидера политических прав<br />
(например, путем судебного решения), даже<br />
если этого требовали интересы городского<br />
хозяйства. Понятно, что это связано не только<br />
(и, наверное, не столько) с доброй волей<br />
государства, но и с влиянием гражданского<br />
общества.<br />
В России наблюдается принципиально<br />
иной подход: исключение из политической<br />
жизни — в условиях слабости гражданских<br />
институтов — нонконформистов, воспринимаемых<br />
как угроза стабильному существованию<br />
государства. Однако это не стабильность,<br />
а псевдостабильность, которая постепенно<br />
размывается, будучи в стратегическом<br />
отношении тупиковой. Американский опыт<br />
при всей его противоречивости выглядит<br />
более сложным, но успешным в долгосрочной<br />
перспективе. Книга Рубла показывает,<br />
что ситуации, которые считались безнадежными<br />
(а Америку «хоронили» неоднократно,<br />
и в 1960-е, и в 1970-е годы), могут быть хотя<br />
бы частично разрешены на основе общественного<br />
диалога и учета мнения различных<br />
групп населения, на основе приоритета прав<br />
человека и демократических принципов.<br />
Но все это куда легче провозгласить, чем реализовать<br />
на практике — особенно в условиях<br />
дефицита политической воли и избытка<br />
«охранительных» стереотипов. Значительно<br />
легче и приятнее разоблачать пороки американской<br />
электоральной системы, одновременно<br />
подчеркивая собственную уникальность.<br />
АЛЕКСЕЙ МАКАРКИН<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 169
Мартын НАШИ ГанинАВТОРЫ<br />
ВЕНДИНА ОЛЬГА ИВАНОВНА — ведущий научный сотрудник Института географии РАН,<br />
кандидат географических наук.<br />
ГРОЗОВСКИЙ БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ — экономический обозреватель журнала Forbes.<br />
ГУДКОВ ЛЕВ ДМИТРИЕВИЧ — директор Левада-Центра, доктор философских наук.<br />
ЗАСЛАВСКИЙ ИЛЬЯ ГРИГОРЬЕВИЧ — аналитик нефтегазового сектора.<br />
ЗУБАРЕВИЧ НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА — директор региональной программы Независимого<br />
института социальной политики, профессор географического факультета Московского<br />
государственного университета имени М.В. Ломоносова, доктор географических наук.<br />
КРАСТЕВ ИВАН — председатель совета Центра либеральных стратегий (София, Болгария),<br />
штатный научный сотрудник Института гуманитарных наук (Вена, Австрия).<br />
ЛЕВИНСОН АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ — руководитель отдела социокультурных исследований<br />
Левада-Центра.<br />
ЛЬВОВСКИЙ СТАНИСЛАВ — поэт, прозаик.<br />
МАЗАРР МАЙКЛ — профессор Национального военного колледжа (Вашингтон, США).<br />
МАКАРКИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ — первый вице-президент Центра политических<br />
технологий.<br />
МАХРОВА АЛЛА ГЕОРГИЕВНА — ведущий научный сотрудник географического<br />
факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, кандидат<br />
географических наук.<br />
МИЛЛЕР АЛЕКСЕЙ ИЛЬИЧ — ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН, приглашенный<br />
профессор Центральноевропейского университета (Будапешт, Венгрия), доктор<br />
исторических наук.<br />
НЕФЁДОВА ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА — ведущий научный сотрудник Института географии<br />
РАН, доктор географических наук.<br />
ТРЕЙВИШ АНДРЕЙ ИЛЬИЧ — главный научный сотрудник Института географии РАН, доктор<br />
географических наук.<br />
170 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra
Vol. 16, No 6 (57)<br />
COVER STORY<br />
MOSCOW AS PHYSICAL AND<br />
SOCIAL SPACE<br />
Moscow as a rentier city<br />
BY NATALIA ZUBAREVICH<br />
Any traditional attempts to solve the problems<br />
of Moscow agglomeration – such as developing<br />
transportation infrastructure, urban planning,<br />
or territorial expansion – will prove ineffective<br />
while the over-centralized management system is<br />
in place. The roadmap <strong>for</strong> developing Moscow<br />
agglomeration should be linked to institutional<br />
changes in the entire country. The city should<br />
be developed by capitalizing on the advantages<br />
of agglomeration effect rather than by continuously<br />
exploiting status rent that reaches its highest<br />
le vels in the over-centralized management system.<br />
Moscow agglomeration<br />
and the “New Moscow”<br />
BY ALLA MAKHROVA, TATIANA NEFYODOVA,<br />
AND ANDREY TREYVISH<br />
There has clearly been a sharp change in the<br />
development of Moscow agglomeration. Whether<br />
the change turns out to be successful or unsuccessful,<br />
realistic or once again utopian, sustained<br />
or ephemeral, harmful or helpful <strong>for</strong> Russia at<br />
large is still too early to say. As the previous ef<strong>for</strong>ts<br />
to develop the capital indicate, the trans<strong>for</strong>mational<br />
process lasts no less than 20 to 25 years.<br />
New urban planning projects that alter both the<br />
city limits and the entire system of capital agglomeration<br />
may be completed in this time span.<br />
The Moscow archipelago<br />
BY OLGA VENDINA<br />
While political pluralism already exists in<br />
Moscow, it is yet to translate into dialogue; political<br />
life in the capital has not become more democratic.<br />
In the <strong>for</strong>eseeable future, there will be no<br />
return to the times when social modernization<br />
(or counter-modernization) was imposed from<br />
the top, but the times when civic values can be<br />
successfully transmitted from the bottom have<br />
CONTENTS AND SUMMARIES<br />
not yet come either. There<strong>for</strong>e, the city’s future<br />
development is unlikely to be determined entirely<br />
by popular trends or powerful political <strong>for</strong>ces;<br />
it will instead be shaped by temporary alliances<br />
built on compromises and mutual concessions.<br />
Celebrating positive solidarity<br />
BY ALEKSEY LEVINSON<br />
The 2011-2012 protests painted a portrait of a city<br />
as a particular type of human society. These events<br />
<strong>for</strong>ced people to intensely appreciate the symbolic<br />
value of Moscow city space and feel especially<br />
connected to one another. They had a chance to<br />
realize that they belong to an important and precious<br />
entity – the city. However, they viewed the<br />
city as the nation’s capital and themselves as the<br />
integral part of this nation. They knew full well<br />
that Moscow is Russia. Thus, the protest slogans<br />
were not Moscow-based but appealed to a wide<br />
range of problems the entire country faces.<br />
Internal boundaries in the space<br />
of flows<br />
BY STANISLAV LVOVSKIY<br />
It is extremely important to see Moscow as a city<br />
of streams – as a set of flowing currents rather<br />
than a collection of stationary points. We must<br />
examine the city through this lens – not because<br />
it “corresponds to the spirit of the age,” and not<br />
because we live in Zygmunt Bauman’s “liquid<br />
modernity” (although we do), but because this<br />
perspective will provide us with a new understanding<br />
of social structures in modern Russia<br />
and shed some light on the anthropology of<br />
people living in the unsettling reality of the<br />
post-Soviet space.<br />
ARTICLES<br />
Government interference:<br />
An institutional trap<br />
BY BORIS GROZOVSKIY<br />
The government has fallen noticeably behind<br />
the urban middle class in terms of development,<br />
but this state of affairs is perfectly satisfactory<br />
Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 171
CONTENTS AND SUMMARIES<br />
<strong>for</strong> a large section of the population, as well<br />
as various interest groups that extract revenue<br />
from the current situation. In this context, the<br />
modernization of the economy is impossible<br />
without modernizing the government, which is<br />
becoming more archaic with each passing year.<br />
The responsibilities of the government toward<br />
society and business are not firmly established<br />
(they are not defined by contract). This leads to<br />
a loss of trust and the defenselessness of business<br />
and the broader population in the face of<br />
the government machine.<br />
Derealization of the past:<br />
Functions of the Stalin myth<br />
BY LEV GUDKOV<br />
Stalin has been recently gaining recognition<br />
as a great national leader. However, this does<br />
not mean that Stalin’s personality cult is being<br />
restored or that the nation is worshiping a charismatic<br />
leader, as often happens in totalitarian<br />
societies. The Stalin myth reveals an ineradicable<br />
national (collective) inferiority complex, infantile<br />
lack of responsibility and the adolescent<br />
172 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra<br />
need <strong>for</strong> the demonstration of <strong>for</strong>ce. The rationale<br />
<strong>for</strong> this need can only be found in the past<br />
which cannot be replicated. While <strong>for</strong>getting<br />
about the price the country paid <strong>for</strong> the Stalin<br />
years, Russians are trying to hold on to the permanently<br />
disappearing symbols of national glory.<br />
The risks of ignoring strategic<br />
insolvency<br />
BY MICHAEL MAZARR<br />
For half a century, the United States was a<br />
dominant global power which identified challenging<br />
core goals and tasks—deterring military<br />
adventurism, building political-military alliances,<br />
erecting mutually-beneficial institutions<br />
of trade—but to which Washington could apply<br />
established models and techniques. U.S. leadership<br />
and power becomes much more problematic<br />
in a world of complex problems which<br />
generate no broad agreement and which subject<br />
themselves to no clear solutions.<br />
Book Reviews<br />
Our Authors