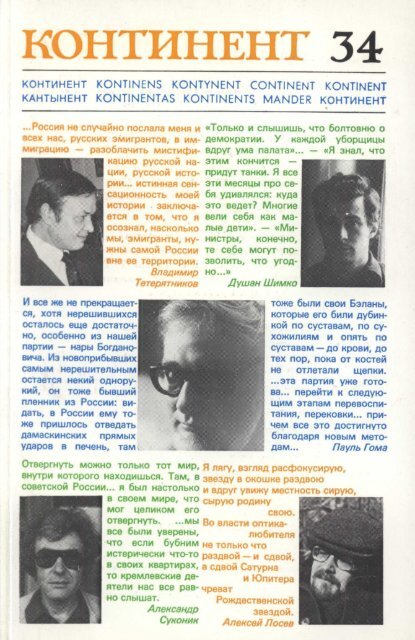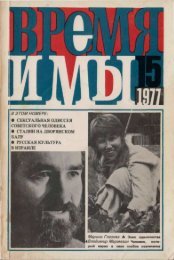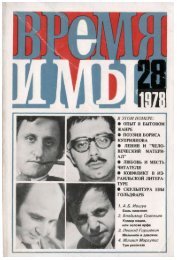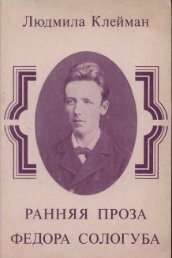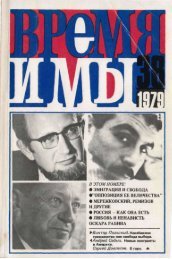СÑÑлка на Ñайл в ÑоÑмаÑе pdf - ÐÑоÑÐ°Ñ Ð»Ð¸ÑеÑаÑÑÑа
СÑÑлка на Ñайл в ÑоÑмаÑе pdf - ÐÑоÑÐ°Ñ Ð»Ð¸ÑеÑаÑÑÑа
СÑÑлка на Ñайл в ÑоÑмаÑе pdf - ÐÑоÑÐ°Ñ Ð»Ð¸ÑеÑаÑÑÑа
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Главный редактор: Владимир МаксимовЗаместитель главного редактора: Виктор НекрасовОтветственный секретарь: Наталья ГорбаневскаяЗаведующая редакцией: Виолетта ИверниРедакционная коллегия:Василий Аксенов • Раймон Арон • Ценко БаревСол Беллоу • Николас Бетелл • Энцо БеттицаИосиф Бродский • Владимир БуковскийЕжи Гедройц • Александр Гинзбург • Пауль ГомаГустав Герлинг-Грудзинский • Корнелия ГерстенмайерПетр Григоренко * Милован ДжиласИрина Иловайская-Альберти • Эжен ИонескоАртур Кестлер • Роберт Конквест • Наум КоржавинЭдуард Кузнецов • Николаус ЛобковицМихайло Михайлов • Эрнст Неизвестный • Амос ОзАндрей Сахаров • Виктор Спарре • СтранникЮзеф Чапский • Карл-Густав ШтрёмПьер ЭмманюэльАнглияИзраильИталияСШАЯпонияКорреспонденты«Континента»Владимир ТельниковWladimir Telnikov, 50 The Drive Mansions,Fulham Rd.( London S.W. 6Михаил АгурскийMichael Agoursky, РОВ 7433,Jerusalem, IsraelСергей РапеттиSergio Rapetti, via Beruto 1/B20131 Milano, ItaliaЮрий ОльховскийYuri Olkhovsky, 3319 Ardley CourtFaUs Church, Va. 22041, USAГосуке УтимураHigashi-Yamato, Hikariga-oka 10-7189 Tokyo, JapanПрисланные рукописи не возвращаются, и в переписку по этому поводуредакция не вступает.Название журнала «КОНТИНЕНТ» — © В. Е. Максимова
КОНТИНЕНТЛитературный, общественно-политическийи религиозный журнал34Издательство «Континент»1982
I,к© Kontinent Verlag GmbH, 1982
СОДЕРЖАНИЕИнна Лиснянская — Стихи 7Пауль Г о IV! а — Кубическое яйцо, или страстипо-питештски. Глава из романа 15Юрий Кублановский — Иордань. Стихи 36Л. Евгеньев — Стихи и проза 47Ян Кшиштоф К е л ю с — Песни. Перевод с польскогоН. Горбаневской 58Душан Ш и IV! к о — В парикмахерской. Рассказ.Перевод со словацкого Е. Фиштейна 69Анатолий Копейкин — Поэма из двух частей 79Вадим Делоне — Неотправленное письмо. Стихи 88У НАС В ГОСТЯХЛитература русской Америки:Алексей Лосев — Десять стихотворений 91Александр Суконик — Гостиница 107Людмила Штерн — Васильковое поле 145Игорь Ч и н н о в — Четыре стихотворения 180РОССИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬБорис Суварин — Пьер Паскаль и сфинкс 185ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГМалкица Д у г е ч — Венцеслав Чижек — человек,мыслитель и страдалец 210ЗАПАД — ВОСТОКЭнцо Беттица — Большая охота на тигракрестьянина226ИСКУССТВОВладимир Тетерятников — Мистификация русскойкультуры на Западе 261ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯЭмиль Коган — Совращение совратителя 305ПАМЯТИ УШЕДШИХВладимир Максимов — Мой друг Петр Равич 322Сергей Григорьянц — Слово о Вар ламе Шаламове 330
ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВМихаил Волин — Русские поэты в Китае 337КОЛОНКА РЕДАКТОРА 359НАША ПОЧТА 365КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯМайя Муравник — Бой кровавый,.святой и правый 371Юрий Мальцев — Человек двух веков 375M. М. — Двуликий Янус 379М. Хейфец — Жалейте сильных! 382A. Минский — Интервью с мастерами 388М. Михайлова — Чистый ручей 394B. И. — Чужая душа... 399Н. Горбаневская — Есть ли у нас «союзники»? ч 402Виолетта И в е р н и — .. .Через Лету 406КОРОТКО О КНИГАХ 413ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ 416НАША АНКЕТА«Русский пожар». Разговор с директором итальянскойгазеты «Иль Джорнале нуово» Индро Монтанелли423СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Инна ЛиснянскаяЗИМНЯЯ ОХОТАДержава-охотница в заячьих шкурках зимыПьет солнечный мед из дырявой космической чаши, —И снова охота... И я с наступлением тьмыВсё чаще роняю горящие слезы, все чаще.Куда ты пойдешь и куда за тобою пойду?В смятении сосны — бессильная наша охрана,И ночь говорит, что нельзя не иметь нам в видуНацеленных фар и лесного шоссе и капкана.И все ж меня держит земля, как подсвечник свечу,Вернее, почти что дотла изведенный огарок,И ты, для которого славы и света хочу,Стихи про охоту при мне написал без помарок.* **Молчит дверной звонок и телефонный,И только чайник дует в свой свисток,На Запад смотрит ветер заоконный,А наша кухня смотрит на Восток.Мы черные чаи с тобой гоняем,И как ни морщим опытные лбы,Мы завтрашней судьбы своей не знаем,Да и вчерашней не поймем судьбы,И то учли, что от зимы устали,И то учли, что нет в суде суда,И даже то, что мы с тобой пропали,Как пропадают письма в никуда.7
Но улыбаясь, моешь ты посуду,Ты улыбаешься, — и ясно мне,Что точно так припомненному чудуМладенцы улыбаются во сне.БАБОЧКИДневные бабочки, они, смиренницы,Сияющего полдня современницы,Слетаются на флоксы и ромашкиИ кротко и бесшумно, как монашки,И крылья треугольником сложив,Глядят на то, как этот мир красив,Но раскрывая воздуху объятья,Похожи на летящие распятья.А полуночницы, огнепоклонницыЕще безумнее моей бессонницы, —Как будто подчиняясь Заратустре,Они слетаются к горящей люстреИ вкруг огня толпятся и шумят,Свершая свой погибельный обряд.У тех и этих жизнь сиюсекундная,И жалко их, и есть догадка смутная...Но ненавижу я свои догадки,Страницу выдираю из тетрадки,Где разрывается мой путь земнойМеж бабочкой дневною и ночной.СЛУЧАЙМне в здешнюю церковь ходить негоже —И стыдно, и не хочу.8
Я свечку поставила Матери Божьей,Задули мою свечу.Задули за то, что черна глазами,За то, что лицом смугла.Задули свечу. А меж тем во храмеПрестольная служба шла.То мимо пройду, то помнусь у порога, —А вдруг опять кто-нибудь,Жестоко печаля Родившую Бога,Нагнется свечу задуть.# **...Но разве это новость для другихИ разве это для тебя догадка?Однако и при взрывах мировыхИ в тихих заводях миропорядкаВсего труднее быть самой собой —Сестрой дождя, подругой снегопада —И знать, что между небом и землейТебе иных посредников не надо.* **Помню, пеняли мне дождики летние,Что не косила травы для Пегаса...Перекурить бы! — Да спичка последняя,Молния вспыхнула — спичка погасла.Август ветвями зелеными прядает,Дождь разбивает о землю копытца,9
Падает дождь, да и жизнь моя падает,Чтоб незаметно, как дождь, испариться.Песни мои (я была не запаслива)Перевелись, как друзья или спички,Если храбрюсь — озираюсь опасливо,Если молюсь, то молюсь по привычке.* **Ю. К.Не знаю, кому бы сказать мне спасибо,Нельзя это слово так долго беречь.Дрожит над Москвою рекламная рыба,И воздух не знает, куда ему течь.Куда ему течь? В виноградном узореМне видится море сквозь слезы земли.На северо-запад ушла я от моря,Друзья еще дальше на запад ушли.Друзья еще дальше, чем юность и детство.Проходит сквозь сердце бикфордова нить —И нечем прикрыться, и некуда деться,И все-таки надо до смерти дожить.О будущем времени думать не надо.Прошедшее время не в тягость уму —Я вижу его сквозь стекло винограда,Я вижу его и спасибо ему.* **Какое нынче лето — все ливни коротки,Ни власти, ни крамолы, —10
Клеенчатые листья, атласные жуки,Вельветовые пчелы,И крылья из батиста, и кружевная тень,И в ягодах опушка,И в воздухе такая безоблачная лень,Как будто мир — игрушка.А может быть, и вправду игрушка, если тыЦела и невредима,Ты, шедшая в огонь, ты, сжегшая мосты,Ты, черная от дыма.ПРОВОДЫJI. К.Проводы, проводы в доме, где книжные полкиНам для застолья оставили тесный квадрат.Русские люди, а значит и водка, и толки,Люди прощаются. Русские книги молчат.Люди прощаются — родственники и собратья.Время, придвинься и с нами стакан осуши,^то прощанье, как будто из жизни изъятье,Это под вирши и водку скоблежка души.Что-то и я бормочу, и поет Окуджава,И соловьиная Белла звенит о зиме, —Трель замерзает... Какое имею я правоДумать о том, что не встретимся мы на земле?С лесоповальных времен не тебе ли известно,Корни удержит душа, как её не скобли.До самолета семь дней, но воздушная безднаЭто еще, слава Богу, не бездна земли.И
«Мы еще встретимся, встретимся»... От повтореньяТрель примерзает цветком ледовитым к стеклу.Водка горька, как рябина и ложь во спасенье.Книги молчат и вплотную подходят к столу.• 4>*...И утлое слово мое уплывает в утильПо мутной волне.Не горечь, не слезы, а писчебумажную пыльГлотаю во сне.Но лет через тридцать свидетель эпохи инойРаскроет тетрадь.И слово мое на свету, словно знак водяной,Начнет проступать.• **Слыть отщепенкой в любимой стране, —Видно, железное сердце во мне,Видно, железное сердце моеВытерпит и не такое еще,Только все чаще его колотьёВ левое мне ударяет плечо.Нет — это бабочка в красной пылиВсе еще бьётся о сетку сачка.Матерь, печали мои утоли!Вечность упёрлась в стенные часы,Сузился мир до размера зрачка,Лес — до ресницы, река — до слезы.12
КРЫЛОIII.Я, посторонняя всем сборищам людским,Всем неугодная за праздничным столом,Я проживу под именем твоимБесстрашно, как под ангельским крылом.Не плачет музыка, душа не дребезжит,Хоть вдута Мастером не в глину, а в стекло.Но время всеми тучами летитИ прогибает ангела крыло.И.Я еще не совсем умерла,Чтоб могила мне стала мила.Но достаточно я умерлаДля того, чтоб не видеть стекла.Я иду, я лечу сквозь стекло, —И не больно и не тяжело,Только жаль, что тебе на крылоСтолько красной воды натекло.Ты оставь меня, ангел, оставь,Ты крыла своего не кровавь,Уж такая нам выдалась ночь, —Уберечь меня, мне помочь, —Легче в небе звезды толочь.III.Ты брал меня под свое крыло,И ты не жалей меня.
Видишь — Распятие расцвелоРозами четырьмя.1981-82 гг.«РУССКАЯ МЫСЛЬ»Крупнейшая русская еженедельная газета на ЗападеПочетный директор Зинаида ШаховскаяГлавный редактор Ирина Иловайская-АльбертиРедакция и контора: 217 rue Fb. St. Honoré,75008 ParisСтоимость подписки во французских франках:3 мес. 6 мес. 12 ме
Пауль Г о м аКУБИЧЕСКОЕ ЯЙЦОилиСТРАСТИ ПО-ПИТЕШТСКИ(Глава из книги)Перевела с румынского Рената ЛесникОт переводчика:Опубликованный фрагмент, возможно, наиболее жестокое звеноиз целой документальной цепи злодейств во имя ЗЛА, во имя пресловутогопроцесса «перековки», «перевоспитания личности» в странах«народной демократии». Описанные в глубоко философскомпроизведении П. Гомы события и герои органически вписываютсяв оправу времени и места: 1949-52 гг., Питештская тюрьма. Средстваи методы «перевоспитания», «перековки» — ни на миг непрекращающиеся, доведенные до абсурда пытки и террор, которыесамих жертв превращают в преступников.Для большей выпуклости как идей в целом, так и отдельныхдеталей автор прибегает к библейским аллегориям и аналогиям.Сюжет построен в основном на двух мифах: Мессии (который в Питештскуютюрьму является не в образе Спасителя Христа, а в роли«Перевоспитателя»-Сатаны), а также Каина и Авеля. Рассказчик(Василе) ждет своего брата-близнеца (даже графически имя второго— это имя первого, прочитанное с конца к началу: Елисав) какИзбавителя; однако тот появляется в образе Сатаны... Первый убиваетвторого. Грех братоубийства (а также богоубийства)рассказчик искупает другим «грехом»: грехом слова, признания...Ключ произведения в целом — в словах Цуркану: «Если быИисус прошел через эти мои руки... О-го, во веки веков Ему не статьбы Христом! И христианством никогда не пахло бы!». И далее:«Э.то Я напишу истинный Новый Завет — Завет от Цуркану»!Книга Пауля Гомы — эпохальный документ, разоблачающийбессмысленную жестокость, зверство и фанатизм, царящие не тольков порядках румынских тюрем, но органически присущие самомудуху этой абсурдной, абсолютной «идеи фикс» — «перевоспитания»,«перековки».15
Все не прекращается, все не прекращается.Лежу на своей кровати, рядом с Цуркану. Он самменя сюда вернул после того, как расколол Штайнера,— неделю спустя после прихода новой партии. Вчераон согласился на возвращение Штайнера, но послалего в другую камеру, не знаю точно, в какую, главноето, что я остался на своей кровати.И все не прекращается, хотя эта партия куда лучшенашей. Лучше, невзирая на то, что Цуркану отсутствуетпрактически весь день, а когда входит, тоостается в комнате не дольше получаса. Лучше, хотяГерман стал гораздо менее активным, чем Цуркану.Право, после его саморазоблачения относительно двоюроднойсестры он движется с трудом, устает гораздобыстрее обычного, уже не пышет прежней энергией иудерживается на посту заместителя лишь усилием воли,которую уже и волей не назовешь, а иногда я себяспрашиваю, не сошел ли он с ума, порой же думаю:может быть, он стал наркоманом — когда? что за наркотику него? — вероятнее всего, это его собственнаядубинка, я уже не раз видел, как он лежит на кроватии сам себя колотит: держит дубинку одной рукой иколотит по другой, по ногам, по голове.Да, эта партия куда лучше прежней: после столпотворения,происшедшего в первую же ночь ее поступленияв «Госпиталь-4», около шести типов поднялируку, сообщая, что они завязали.И все же не прекращается, хотя нерешившихсяосталось еще достаточно, особенно из нашей партии— нары Богдановича. Из новоприбывших самым нерешительнымостается некий однорукий, он тоже бывшийпленник из России: видать, в России ему тожепришлось отведать дамаскинских прямых ударов впечень, там тоже были свои Бэланы, которые его билидубинкой по суставам, по сухожилиям и опять по суставам— до крови, до тех пор, пока от костей не отлеталищепки.16
Не прекращается — может быть, потому, чтоЦуркану, будучи все время в отсутствии, лично еще неубедился в том, какого прогресса достиг Герман, акогда возвращается, то до того уставший, что ищетлишь одного — «немного расслабиться», и достаетсяи тем, кто уже «свое получил», кто уже раскололся.А может быть, Кори ему не докладывает в точностиоб уже происшедшем? Трудно такое предположить,потому что Цуркану давно доказал, что он всегда вкурсе всех дел, что он всегда знает куда больше, чемему докладывает Герман, но у меня такое впечатление,будто здесь, в «Госпитале-4», избивают лишьради избиения, а не для того, чтобы перевоспитывать,чтобы раз и навсегда заставить бандитов завязать.Все не прекращается, все не прекращается, что-тогде-то не в порядке, кто-то, что-то чему-то противоречит:торопятся, очень торопятся (Канал, всех ожидаетКанал, Канал — это для Цуркану уже стало манией);результаты, верно, достигаются быстрее, однакоих уже не принимают во внимание. Почему? Незнаю, сам я уже давно перестал задавать себе вопросы,констатирую лишь тот факт, что эта партия ужеготова, совсем готова перейти к следующему — нет,к следующим этапам перевоспитания, перековки (занекоторыми малочисленными, само собой разумеющимисяисключениями), причем все это достигнутоблагодаря новым методам, к которым прибегли совторого же дня прибытия: после баланды (съеденной«из лоханок»), перед уходом из камеры, Цуркану порекомендовалГерману:— Кори, после каждой обработки дубинкой —каждого в отдельности или в коллективе — ты их всехсоберешь в кучу и спросишь: «Кто из вас решился избавитьсяот следующей такой же обработки — поднимируку!» — и тут же заставишь их разоблачать себя!Кори выполняет точь-в-точь: раздал даже всемчто-то типа грифельных дощечек из мыла, на кото-17
рых желающие могут записывать свои грехи. Потомэто же самое мы слышим произнесенным вслух. Тольковот когда Цуркану возвращается уставшим и желаетнемного расслабиться, он расслабляется на тех,кто ему под руку попадается: на уже расколовшихся,на еще не расколовшихся, на самих дежурных, на Толе,на Бэлане, на Шуре, на Дамаскине, на братьях Аползан...Таким образом в дела опять вносится смута,но лишь до завтрашнего дня, когда вновь предстоитвсем и во всем разобраться.В этой партии до сих пор сдало лишь сердце Пленного:не из-за его суставов-сухожилий, а, вероятнеевсего, из-за печени: в конечном итоге Дамаскин оказалсябольшим знатаком по этой части, чем русские,но даже ему недолго нужно было трудиться. Из нашейчасти позавчера свалился Толя, после того какЦуркану, вернувшись в хорошем настроении, станцевална нем «Бэтуту»* — сперва сделал это сам, потоми других заставил следовать его примеру, понукая ихкриком: «Гоп! Ха-ха!», — потом опять сам, гораздопозже того, как Герман безуспешно все пытался прислушиватьсяк уже утихшему пульсу Толи.Но уехать — верно, уехали многие. Из нашейпартии, по крайней мере, с шестого марта: Бырсан —надеюсь, в санчасти согласились с тем, что прощупанныйКори еще в камере его пульс пока бьется; Волунтару— его, говорят, отправили туда же, хотя я вэтом весьма сомневаюсь, как сомневался и сам Герман;куда делись братья Аползан — понятия не имею.Знаю лишь то, что перед уходом им день за днем приказываливставать на стол и мордовать друг друга.Потом их вызвали на выход с вещами.И все не прекращается. Хотя уже все были вызваныдля публичного саморазоблачения вне стен нашейкамеры. Но не я. «Сосед» мною по-прежнему пре-18* Румынский национальный танец (прим. перев.).
небрегает, несмотря на то, что именно это он мне исулил после инспекции.Из «ветеранов» остался один Штеф на нарах да яна своей кровати. А также ветеран ветеранов — Богданович.Который все умирает, умирает, умирает —«от этих самых моих рук сгинешь!...» — и никак неугаснет. Будто у него вновь вырастают, приклеиваются,что ли, вырванное мясо, кожа, сами кости.Из «нижних», прикованных к цементу «ветеранов»,ушли Войнеску, Штайнер, Кобуз, Опря — видимо,по очереди, уж и не припомню, как именно,когда именно. Остались Герман, Корнел Поп и Пушкашу.Остались также и другие из нашей партии, распыленныепо камере то здесь, то там: Григораш (которыйпо-прежнему носит баланду), Дамаскин, Семибрати Бэлан.Этот последний, Крыса, как его еще называют,соорудил себе из хвоста метлы какие-то щипцы сантиметровдвадцать в длину, которыми научился хвататьи вырывать не только мошну, но также кожу имясо: с шей, с животов, с внутренних сторон ляжек,из подмышек, а еще: целиком губы, носы, уши, дажеязыки. Он, Крыса, старается по собственному разумению,и уже не раз Кори приходилось умерять его пылударами дубинки по голове. Бэлан принимает их беззвука, а через некоторое время опять начинает охотитьсяза кровоточащей кожей.Михай Семибрат что-то совсем чокнулся. Он раскололсяодним из первых в нашей партии; его саморазоблачениев свое время учли, оно было принято повысшему разряду самим Цуркану, вследствие чего он,считай, получил свою «аттестацию». Однако дня триспустя после «инспекции», в отсутствие Цуркану, егокуда-то увел Марина. Вернулся он уже поздно ночью,уже после отбоя. Спросонья Цуркану поднялся, одновременнообозленный и любопытствующий:19
— Эй, Семибрат! Изучили твое предложение?И в итоге?..— В итоге... — Михай пожал плечами, — в итоге,оказывается, я самый злостный из бандитов, первыйфашист среди фашистов. В итоге мне по-дружескипорекомендовали, чтобы я попросил вас со всем подобающимвам уважением, дабы вы мне уделили местона нарах, потому как мне полагается начинать все отпечки.Хотя разбуженный и обозленный, Цуркану улыбнулся:— Лады, как тебя там, Семи... бандит, начни всеот печки. Твое место будет вон там, перенеси тудасвои шмотки, но тебе в таком случае придется и подежурить.Лады, попробуем и это... Верните-ка емудубинку...Так что Михай прошел и этот эксперимент; где-тов течение двух недель его «раскалывали» — колотили,как любого из еще «нерешившихся», а ночами он дежурил.Причем не в определенную смену, а в каждуюБожью ночь.Уже несколько дней, как его считали «аттестованным»,— получил, значит, и право иногда поспатьна тех нарах, налево от двери, но вдруг Цуркану гаркнул:— Сэмибрат! Почему же ты не был искренним,когда писал автобиографию? Почему ты написал, будтоприходишься троюродным братом Капитану? Почемунаписал, что участвовал в Восстании и что уничтожалевреев? Почему написал, что твоя мать работалас Ветурией Гога в «Патронаже»?* Почему написал,что участвовал в расстреле партизан на антисоветскомфронте? Я проверил — ты все это наврал! Во времяВосстания ты находился в Бесса... то есть, в Молдав-* Благотворительное общество при Антонеску в пользу румынскихсолдат, сражавшихся на восточном фронте (прим. автора).20
ской Советской Социалистической Республике! Твоямать умерла в 1939 году! А на фронте тобой и не пахло— ты же родился в тридцатом! Я проверил — тыне родственник Кодряну!— Возможно, хотя в этом плане довольно трудноустановить, приходишься ли ты родственником комутоили нет. А что касается остального, то... Речь овозрасте, конечно: какая же моя вина в том, что яродился всего лишь в тридцатом? Поторопись я —подоспел бы и к Восстанию, и к фронту...— Меня не интересует то, что ты смог бы делать,«если бы»! Меня интересует лишь то, что тыуже успел натворить! В и-то-ге, ты соврал, тыне хочешь избавиться от гнили!— Вот именно, что очень этого хочу! Хочу избавиться...— Да как же ты этого хочешь, когда пишешьодно вранье?— Вранье — что такое вранье? То, что возрастмне не позволил быть тем-то или делать то-то... этоне означает, что я не полон гнили, — я ее чувствую всебе, чувствую! Но что делать, если все было не так,как я это описал?.. Откуда же взять другое? Разве нетак? Это ведь то же, что и налоги...— Шо-шшо? Шо еще за налоги?— Так, налоги, или как их там официально ещеназывают — поставки, долг трудящегося крестьянстваГосударству. Имеешь, не имеешь — даешь! Неуродится столько пшеницы на твоем поле — покупаешьнедостающее, и сдаешь. Так оно и с гнилью:перегнил, недогнил — достаешь эту гниль, чтобыиметь, от чего избавиться...Не докончил — Цуркану чуть не стер его в порошок.Потом спросил:— Падла, ты обещаешь, что впредь напишешьтолько правду-матку? Обещаешь разоблачать себяпо-честному?21
— Обещаю, обещаю! — поторопился с ответомМихай. — Но мне-то может кто пообещать, что послетого, как я разоблачу себя, сорву с себя эту маску(тут он дотронулся до своего окровавленного лица),я сам не найду под ней другую? другие? Вы лично,господин Цуркану, великолепно знаете, что неисповедимымаски Господни...Странно: Цуркану оставил его в покое. Болеетого, через некоторое время стал брать его с собой— не знаю, куда именно, обычно на несколько часов.В камере Михай дежурит, но никого не колотит:строит людей на поверку, раздает миски, следит зачистотой... Он вечно ходит с дощечкой и что-то наней записывает...Габриел Дамаскин отшлифовал свой удар левойпрямой. Вначале его никто не боялся: кому что могсделать пустыми руками мальчишка с тонким лицом,огромными влажными глазами, занавешенными загнутымиресницами, с красиво очерченным ртом цветаспелой черешни? А погляди-ка ты, этот нежный, щупленькийДамаскин, тот самый, который однаждыспрыгнул на спину самому Цуркану, — стал одним изяростнейших его помощников. Левым прямым кулакомвзмывает неожиданно, молниеносно. В печень.Только в печень. Долго потом его жертва корчится,извивается по цементному полу или на нарах — гдекого удар застает, — а то и остается неподвижной —как Пленник.И все не прекращается. Хотя в воздухе уже явственнозапахло Каналом, то есть — почти отдыхом,отпуском. А может, именно поэтому.Неожиданно, раньше обычного — сразу же послеужина — входит Цуркану. Еще не закатилось за горизонтсолнце. А он весел, взвинчен, опять говорит намо Канале, опять речь о «Движении», которое он сведетв могилу собственными руками; опять речь о необходимостиискреннего воспитания, перевоспита-22
ния, перековки... И останавливается перед Богдановичем:— Эй, Шура, ты шо, еще здесь? Пора бы датьместо другим.Челюсть Богдановича уже не поднимается такбыстро, как раньше.— А ну-ка, садись в стоматологическое кресло,чтоб мы помогли тебе избавиться еще от одного прогнившегоклыка!Богданович сползает с нар без бывшей прыти.Сперва он медленно-медленно переворачивается, ложитсяна живот, потом тяжко, с трудом продвигаетк краю нар ноги.Терпение Цуркану лопается:— Эй, да что ты там возишься! Разве сам тыне желаешь побыстрее от него избавиться?Богданович зацепился за что-то, а вернее, за самогосебя: ему никак не удается сползти с нар.Ему помогает Цуркану. Хватает его за ноги, тянетего, приподнимает, потом резко отпускает. Богдановичударяется о нары напротив и тут же стекаетна цементный пол. Цуркану вновь его хватает, поднимает,теперь подбрасывает его тело вверх, показываетвсем своим видом, что больше не в силах егодержать, и роняет. И опять, и по новой. Больше напол его не швыряет: держа за одно горло, приподнимаетего на вытянутой руке. Наконец вижу Богдановича:рот его закрыт, но глаза — навыкате.— От этих самых рук подохнешь, бан-н-ндюга!Он несет что-то несусветное, обвиняет того, очем-то его расспрашивает, ругает. Вновь и вновь речьо Сучаве; опять и опять льются слова об умышленноложном, фальшивом перевоспитании, перековке; иопять о разных кознях, лишь бы обманывать рабочийкласс.— Ну, падла! И ни клыка в его пасти не осталось!23
Обвинение стопроцентно верное. Теперь он егоопять швырнул на пол и начинает месить ногами.Что глину. Что виноградные гроздья. Он притоптываетв такт «Бэтуты», сам себе изредка подпевает:«Гоп! Ха-ха!..» и одновременно подпрыгивает обеиминогами. Танцует на трупе, во рту которого не осталосьбольше ни единого зуба.Уже с некоторых пор Герман (который в моментахвыяснения отношений с Богдановичем, как правило,не вмешивается) суетится вокруг, даже протягиваетк Цуркану руку, но тут же ее отдергивает.— Хватит, гос'сдин Цуркану! Хватит!! — Германвзвизгивает.— Хля! Ш-шо? Шо такое хватит? — с грловыЦуркану свалилась шапка, глаза его блуждают по сторонам.— Разрешите мне... Пульс... — Герман трясетсяпо стойке «Смирно!».— Пульс?.. Лады, пошшупай, только поторапливайсь!— он подбирает с пола шапку, отряхивает ее околени, но никак не найдет свою голову. — Ну, кактам, Кори? Еще дышит?Герман возвышается над Богдановичем, что-тоначинает шептать на ухо Цуркану. Долго шепчет.Тот отрицательно, возмущенно кивает:— Да ш-шоб он так легко отделался?.. — продолжаеткивать в знак несогласия, но уже без прежнейубежденности.Однако Герман на своем настаивает, даже смеетсеменить за Цуркану, конец света! — он резко выскакиваетвперед и перед самым носом того упираетсяв пол ногами.— Хля!.. Ты шо, так в этом уверен? Хляди мне!..Если шо, — ты меня знаешь, кумекаешь, шо тебе заэто будет?..А Герман ему что-то шепчет, шепчет и куда-точерез плечо указывает пальцем.24
г— Лады, Кори. Унеси его... Ш-шоб глаза моибольше его не видели, падлу, бандюгу, преступника,который столько народу угробил!..Покачиваясь, с затуманенным взором, Цуркануидет к своей кровати. С ходу бросается на нее, с трудомпросовывает правую руку под голову, но тут жерезко вскакивает:— Да шо ты на меня так уставился, хромонога!А ну-ка, уматывай отсюда! Здесь ты глотаешь мойвоздух! Марш на место Богдановича!Без палок я ползу к указанному месту, а тем временемГерман, Бэлан, Дамаскин и Григораш волокутчто-то завернутое в одеяло к двери. Конвой замыкаетСемибрат, он на ходу что-то записывает. Германстучится.Ползком петляю между лужами и брызгами,между оскалами трещин на цементном полу, приподымаюсьна нары. Обессилев, опускаюсь рядом соШтефом. Тот быстро-быстро моргает: здоровается,бедолага, как может, потому что разорванный ротему больше не служит.Откуда-то слева, сразу за моей спиной, до моегослуха доносится голос Цуркану. Он говорит с охраной.Не слышу ни слова «отказало», ни слова «сердце»— лишь одно-единственное: «санчасть». Дверьшироко распахивается, и порог переходят много отяжелевшихшагов. Цурканины шаги ни с чьими не спутаешь— они без ноши. Впрочем, они останавливаютсяна самом пороге. Слышу рев:— Живо чистоту! Шоб цемент блестел!Дверь захлопнулась. Штеф неожиданно заволновался:он внимательно к чему-то прислушивается свытянутой шеей, с отпавшей челюстью, а когда в коридорестихают шаги, он юрко сползает с нар и ныряетголовой в парашу: она находится тут же, подо мной.Теперь я вижу только дергающиеся, бьющие по воз-25
духу ноги Штефа, а на их фоне — Семибрат, которыйчто-то записывает.Так не стало и Штефа. Его уволокли за ноги. Яеще надеялся, что его приволокут обратно — пустьмокрого с ног до головы, после бани-переодевания,как это было в прошлый раз, когда он страдал поносом.Но его не приволокли. Теперь же по мою правуюруку, на его месте, тихо постанывает Григораш —расколотый и (в который уже раз?) «аттестованный»....Счет дням я уже давно потерял. Понятия неимею, какой месяц. Или, по крайней мере, сколькопартий уже сменилось?Знаю лишь то, что я опять на своей кровати, —опять Цуркану вспомнил обо мне, опять он мйе пообещал,что долго пренебрегать мною уже не будет.А это значит, что Элизав уже должен появиться.Но это означает и то, что он все не появляется.А значит, в ожидании его, я сам себе должен объявиться.Подниму руку и сообщу, что морально-духовноя уже готов, созрел. Объявлю им, что я решился. Разя такое уже сделал, но Цуркану отрезал:— Это мне решать, когда именно наступит твойчас! — и отошел, оскалившись.Почему это именно он должен такое решать?Чем же он больше пуп Земли, чем, скажем, Семибрат?Пусть мне дают, на чем записывать, — я тоже хочузаписывать то, что вижу и слышу, то, что обо всемэтом думаю, с тем, чтобы вечером докладывать Цуркану!Какое же охватывает сверхъестественное чувствоот одной мысли: вечером докладывать Цуркану!Я тоже хочу, по крайней мере, дежурить, кое-как яуже передвигаюсь, а если даже не выдержу на ногахцелую смену — нет, выдержу, — я забуду о пролежняхна спине из-за долгой вынужденной лежки. Я тожехочу — имею-не имею — давать!26
Я должен что-то предпринять, чтобы заставитьЦуркану решиться на это. Я что, разве не человек?Ну и что, если у меня нет политической окраски? А уМихая она есть? Есть она, нет — зато у него есть хотьчем записывать!Поднимаю руку и прошу у Германа разрешениясходить до параши: по-маленькому, уточняю. Он подаетмне костыли. А что, если огреть его сейчас костылем?Да по башке? Вызванный по авралу Цурканприбежал бы разобраться — согласился бы. Но нет,Герман мне чужд, и потом, я не уверен в том, что, неопираясь на один костыль, смогу ударить другим:он же мне подает их по очереди.Герман вверяет меня в руки Семибрата. Михайидет рядом со мной, несет свое записывающее устройство.Ловлю удобное мгновение (я сам себе его создал:сделал вид, что споткнулся, а Михай наклонился поддержатьменя) и шепчу ему:— Вноси меня в список. Докладывай Цуркану,что я знаю, где скрывается Элизав.Меня, кажется, никто не услышал. Даже сам Михай.Пока я задерживаюсь у параши, он отходит отменя на пару шагов. Дощечку спрятал за спину.Не хочет, осёл. Значит, он сам еще полон гнили,у него обнаружились и другие маски под той, которуюон с себя уже сорвал. Не желает, потому что он ещеможет не желать, он еще в состоянии не желать, азначит — не перевоспитался. Ах! — он не желает,хотя до чего это было бы просто, никто бы не узнал,что это я его попросил, ведь дежурные за мной неприсматривают (нет, присматривают, но по-особому),потому как я являюсь собственностью господина Цуркану.Пусть Михай на меня накапал бы, как бы настучал;то есть я хочу сказать: пусть он передает ему нето, будто я что-то желаю или о чем-то прошу, а наоборот— будто ему кажется, что я боюсь, как бы до27
Цуркану не дошло то, что пока известно лишь мнеодному.Возвращаемся к кровати.— Впиши меня в список...— Заткнись, ты! Чеши... — отрезывает он мне ипо-глупому ухмыляется.— Вы о чем, о чем речь? — нас услышал Герман.— Он хочет и по-большому. Пусть подождет доповерки, — с блаженным видом поясняет ему Михай.Он соврал. Наврал Герману.— Ты ему наврал, я тебя разоблачу, если ты меняне впи...— Разоблачаю Василия Попа! — орет во всюглотку Дамаскин. — Он говорит с Семибратом! ч— Это я тебя, хрыщ, разоблачу! Кто тебе даетправо трогать добро господина Цуркану? — возражаетему Михай, и Дамаскин испаряется.Мы уже у кровати. Он хочет отобрать у менякостыли, но я не отдаю их: мне без них не сесть же,не приподнять ноги. Потом — кажется, он этого незамечает — я упираюсь ими крест-накрест в железныепрутья кровати, чуть повыше собственных подошв.Левый отодвигаю подальше (великолепные получилиськлещи, зажать бы его в них!), а на правыйуказываю головой:— Можешь забрать их.Семибрат берет один посередине. Молниеносноприжимаю его руку другим: все, она в капкане. Я сжимаюкостыли, из другой его руки падает на цементныйпол его дощечка, но Михай лишь кусает губы от болии приковывает меня взглядом. Его переносица побелела.— Впишешь меня в список?.. Впиши, Михай... —я его прошу, молю и сжимаю, сжимаю.Михай сползает на колени. На лбу у него выступиликрупные капли пота.— Мои пальцы, Василий... Мой рояль, Василий...28
Знаю, знаю: его рояль. Но если он не пообещаетмне помочь, то до рояля он больше не дотронется.Разве только для того, чтобы сыграть Равеля.— Впишешь? Почему ты не... Впишешь?Ну почему, почему бы ему не вписать меня? Почемубы ему не разоблачить меня? Почему он отказывается,он что — сильнее меня? Он, который раскололсяодним из первых?— Впишешь? Впишешь? Впишешь?.. — Я повторяюэто на одном дыхании, и оно будто вовсе не прерывается.— Ннн-е-е-ет! — кричит Семибрат и свободнойлевой с размаху ударяет меня промеж глаз.— Вы о чем, о чем там речь? — слышу голос Германа,потом его приближающиеся шаги.— Сказал тебе нет — значит, нет! По-большому— только во время поверки, перетерпишь!Осел. Свинья. Бандюга этот Семибрат. Я егоразоблачу, выдам!— Эй, вы! Вы и о чем-то другом тут болтали! —Герман переводит пристальный взгляд с меня на Семибрата,потом опять на меня...— Верно, — выговаривает Михай. — Этот ноет,чтобы я его вписал в список, чтоб его отправили всанчасть. В какую еще такую санчасть?Но Герман ему не верит. Сужает глаза.— Поэтому ты его ударил? Ты разве не знаешь,что Василий Поп — собственность господина Цуркану?— он приподнимаёт дубинку, но Михай вовремяотскакивает.— Ты погоди! Я тоже собственность господинаЦуркану, так что если...Цуркану, сам Цуркану его спасает — он как развходит. Рот у него до ушей:— Добро, христиане! Но какие же вы христиане?Сегодня же Страстная Пятница, а вы... Давайте-ка29
праздновать Страсти по всем правилам, как полагается!Семибрат! Подвинься-ка!Мы празднуем Страсти.Григораш, бывший студент-богослов, сидит настоле, в окружении двенадцати учеников. Ему набросилина плечи какую-то тряпку.Цуркану ударяет в ладони:— Всё, заткнитесь, христиане! Начинаем! Читаемот Матфея! — Потом, бросив взгляд на клочок бумаги,приказывает: — Глава 26-я, параграф 6-й, пошел,Семиевангелье!Михай, со спущенными штанами, встав на парашу,читает со своей дощечки:— «Когда же Иисус был в Вивании в доме Симонапрокаженного, приступила к Нему женщина с алавастровымсосудом мира драгоценного...»— Стоп! Пусть войдет баба с миррой! Пли дальше,эвангелист!— «...и возливала Ему возлежащему на голову».— Бабец, возливай свою мирру!Бэлан, гримасничая, покачивая бедрами, подходитк Григорашу, льет ему на голову полную мискунечистот из параши.— Браво, бабонька! А ты, Матфей, читай восьмойпараграф!— «Увидев это, ученики Его вознегодовали, и говорили...»— Вступи, ученик!— «...к чему такая трата? — пропел «ученик»Дамаскин. — Ибо можно было бы продать это говноза большую цену и дать нищим».— Браво, ученик! А теперь читаем от Матфеятам же, но дальше. Шпарь 26-й параграф!— «И когда они ели, Иисус взял говно и, благословив,переломил и, раздавая ученикам, сказал:..»— Вступи, Иисус, и говори!— «...примите, ядите, сие есть тело Мое».30
— Порядок, Иисус! А теперь всем причаститься!Пройди, Иисус, перед каждым и дай им отведать изтела твоего!«Женщина» разносит вновь наполненную миску.Иисус, загаженный с ног до головы, с застрявшиминечистотами в бровях, на лбу, на плечах и груди, начинаетпричастие. Опускает пальцы в миску и проводитими по губам христиан. Когда подходит моя очередь,я сторонюсь. Евангелист хватает меня и держитза голову, а Иисус щедро пачкает мои губы. Я ихсжал изо всех сил, сдерживаю дыхание. Иисус проходитдальше, но от ока Господнего не укрыться:— Да шо ты губы вытер, ай? Ты шо, от святогопричастия отказываешься? А ну-ка, Иисус, подложиему хорошенько еще разок от твоего святого и благовонноготела! В глотку ему всунь!Меня стелят на цемент, хватают за руки-ноги,приковывают. Дамаскин берет мою голову обеимируками, большими пальцами давит под ушами, покамой рот широко не открывается.— Васенька, не смей выплюнуть тело Господне!Это страшный грех, детка! — грозит мне пальцемЦуркану.И я не выплевываю. Остальные тоже послушны.— Добро, читаем дальше! Тоже от Матфея, главу27-ю, параграф 28. Шпарь, Семиматвей!«И, раздев Его, надели на Него багряницу.И, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову,и дали Ему в правую руку трость; и, становясь передНим на колени, насмехались над Ним, говоря: радуйся,Царь Иудейский!». Багряница на Иисусе не багряная, а белая, вернее,когда-то она была белой, но по ней к тому же щедроеще стекает причастие. Вместо венца на голове — опорожненнаямиска, сползшая на ухо. Трости у него нет,зато на груди его красуется на веревочке вылеплен-31
ный из куска мыла член: он напудрен дустом, намоченв параше.— Внимание, первая мизансцена: каждый проходитмимо Иисуса, преклоняет перед ним колено, целуетбатюшке подол. Ха-ха-хо! Потом встает и произносит:«Радуйся, Царь Иудейский!», и целует на егогруди крест! Начинаем, начинаем!.. Начинаешь ты,хромонога! Поцелуй крест, паралитик, авссь исцелишься!Хо-хо-хо!Итак, я первый. Но не могу встать на колени.Господь Бог, который все знает и понимает, в Своеймилости прощает меня, — одновременно что-то шепчетИисусу. Так что я лишь целую член в яйца и произношуто, что приказал Евангелист. Иисус отвечает:— Хватай ногами свою кровать и ходи на руках!Никак не пойму, что могло так развеселить ГосподаБога! Подумаешь, ходит человек на руках —неужели это так смешно!À праздник все продолжается, продолжается. Вкоридоре, за дверью, охранники толкаются перед нашимнамордником, ругаются за место.— Вторая мизансцена: строиться друг перед другомв две шеренги! Спой, Евангелист, главу 27, параграф30-й!— «И плевали на Него, и, взявши трость, билиЕго по голове».Проводим его через нашу шеренгу, обплевываем,колотим. Руками, ногами, тумаками. Это делают все,кроме меня. Нет-нет, в том смысле, что я не бью ногами.Переходим к Марку — читает другой бывшийвоспитанник духовной семинарии, некий македонец.Позже — к Луке, его Иисус духовного образованияили сана не имеет, да это и неважно. И наконец, четвертого(Корнелиу Попа) мы распяли. От Иоанна.Сперва на полу, на цементе. Потом на столе, чтобыего хорошо было видно. После того, как он испустил32
дух, мы его заворачиваем в «саван» и хороним в параше.Злее всех против мертвого — Григораш. Онего еще несколько раз окунает до дна, потом вынимаеттело из параши и бросает его на пол, предлагает:— Давай воскресим его, гос'дин Цуркану!И мы его воскрешаем. А потом хором поем:Христос воскресе из мертвых,Член болтается на груди Его-о-о-о!И тем, кто ему преклоняется,Он дарит свое говно-о-о-о-о!Нет, еще не конец. Отче Наш ставит другую мизансцену:— Эй, ты, лопоухий! Ты будешь ослом, на которомтот якобы на великий пост вошел в Иерусалим!Сюда давай, залезай на стол на четвереньках! Ты,там! Ты будешь Пресвятой Девой Марией — любовницейИисуса, — этих членов ты уже проглотил километрами— и мужских, и ослиных, по всем дырам илощинам, — теперь залезай под этого осла в позуРомула и Рема под волчицей, — и начнешь ему сосать,и высосешь! Другого ко мне! Ты, шоб тебя!Как тебя там, ты будешь Иосифом, Царем рогатых;жена у тебя есть, но не твоя она, так что разберись сней по собственному разумению, как у тебя на то башкаварит: берешь осла сзади! Эй, ты, который изображаешьблядищу — Деву Марию, — становишься передослом на карачках, закидываешь ляжки и отдаешьсяослу! Он твою девственность прохладит и там, гдетебе не лазили лишь рожденные после падения Константинополя!А теперь ты, Иисусе, делаешь то же,что делал всегда, когда поблизости не было ни единойМарии, ни Самаритянки, ни парализованной, ни прокаженной,ни хромой, ни слепой: твою мать сзадиберешь! Исполнять!Исполнение. Мне он не дал никакой роли. Я бысыграл Элизава. Но мне не хватает резкости в движе-33
ниях. Зато у меня имеются костыли. С нар дежурныхпытаюсь утащить тот, который кажется мне наиболеетяжелым. Надо держать его обеими руками и целитьсясзади, прямо в мозжечок! Я должен его прикончить!Но у Господа Бога глаз повсюду — действительнодаже на затылке: молниеносно поворачивается, и ОНСАМ бьет меня ботинком в самый корень ног.Вот это — другое дело. Тайный ужин по Цурканурассыпался со стола, и теперь все глазеют только намои страсти.Вот это да! Я спасен. Теперь Элизав уже не можетзапаздывать.— Такое мне! Шоб ты руку на меня подняд! Ты,которому я уготовил другую судьбу!.. — он почтипрослезился. — Меня убить, ай?.. Меня! Да меня жеЦуркану зовут, падла, ты шо, забыл?.. Еще не родилсяни тот человек, ни тот дьявол, ни тот ангел, которыйменя бы!.. Меня, ай?!..Который меня бы... тоже еще не родился. Пока,по крайней мере!— Ты, гнида, ты шо думаешь, падла, раз будешьмолчать, то тебя и пронесет? Раз пойдешь навстречуударам, значит избегнешь их? Раз ты не желаешь подохнуть,то и я тебе этого не желаю? Ошибаешься!Сдохнешь, падла, когда этого захочу Я! От той смертиподохнешь, которую Я тебе выберу!Это он ошибается. Уж раз меня не прикончилеще в Сибиу Дрэган со своими химическими карандашами,которыми он ковырял в моих ранах, своимипроволоками, которыми он ковырял в моих ноздрях,даже в мозгах, своей инсценировкой расстрела моейматери перед моими глазами, — так неужели же этомупридурку суждено сломить меня? Чем? — простойдубинкой? Чем-то там еще?— Ты, гнида, падла, ты думаешь, шо если выдержишьснаружи, то я не найду тебе концы изнутри?34
Эй, Семибрат! Давай сюда живо миску святого телаиз параши! Потяните-ка стол к середине камеры! Займите-касвои места и глазейте сюда, как мы здесь святоеобосрание проведем, хо-хо-хо!.. Эй, на стол его,живо! Теперь ты ляжешь на брюхо, приподымешьсяна руках и начнешь лакать, тер-пе-ли-вый, твою мать!Он силь-ный, ай?! Сожрешь! Всю миску схаваешь!Семибрат, ты проследи за ним! Если откажется, ёб...ему по затылку! Так-так! Жрешь, падла, жрешь!Жрешь, это же тело Христово, дух святой! Эй нет, нетак! Так дело не пойдет! Начинаешь сначала! Спервавылизываешь то, что выблюнул! Так вот, порядок!Все-все, шоб чистенько осталось! И больше на столты не гадишь, ясно? Вылижи-ка ешше там вон!Вылизываю, но он все же ошибается: я выдерживаюи изнутри. Пусть я и действую по принципу двашага-вперед-шаг-назад— по стопам Великого Ленина.Пусть и переворачиваются мои кишки, пусть я блюю,выблевываю все обратно в миску (да и на стол гажу,сам же его разгажу), начинаю сначала: вылизываюблевотину, и опять два-шага-вперед, шаг-назад, двашага-вперед,шаг-назад, — так нас учил Великий Ленин.— Ты шо, никак утешаешься страданиями других,ай? Случайно не об эвангельских страс-тях вспоминаешь?Те кретины, эвангелисты, прожившие до концасвоих дней в пустынях, выё... козы и питаясь мухами— да шо они знали о человеке? Ничего не знали! Ни оего плоти, ни о его духе! Это я напишу истинный НовыйЗавет! Завет от Цуркану! Если бы Иисус прошелбы через эти мои руки! О-го! Во веки веков ему нестать бы Христосом! И христианством бы на земленикогда не пахло бы.Может быть. Однако он опять ошибается: я неИисус. Я всего лишь Василий, брат Элизава.35
Юрий КублановскийИОРДАНЬЭти стихи — после обыска в предположеньепоследние, написанные в Россииареста—* **Автор, 7 октября 1982 г., WienР. Е.Где большие наволочки меткамипросолились беспричинных слёзи запястья красными браслеткамиунизал заботливо мороз,у сорок — сорочинская ярмаркаи, видать, немалый оборот.Но зачем задабривать подаркамидорогую с бровками вразлёт?За глухими елями и соснамив скрипкую предутреннюю раньподо льдами крепкими и коснымизакипает речка Иордань.Слабоумный Саша, бывший лодочник,пережегший за зиму гортань,ты, боярынька, и я, считай, колодочник— притечём креститься в Иордань.2. 2. 8236
* *Что делать нам в деревне?ПушкинI.Зимой в России делать нечего:по пояс снег — пол-шага в сторону.И мы с тобою опрометчивовлюбились солоно и поровну....Я за автобусные поручнихватаюсь голыми руками,ты долго машешь шапкой кроличьей.Под перистыми облакамидеревня, бор с его соцветьями,где сосны пышные, как пинии.И наши ласки с междометьями,оставившими лунки в инееокна. На заокольном кладбищеснега богаче, чем надгробья.На стёкла лавки испытующемужик косится исподлобья.Давай-ка тоже купим водочкиза войлочной скрипучей дверью!Ведь мне не в вашем околоточкесидеть, а где-нибудь под Пермьювсё вспоминать подушки с прошвоювдоль по крахмальному откосу,а главное, твою роскошнуюс утра уложенную косу,похожую на цитрус солнечныйво мгле среди хвои и снега,дающий знать душе невольничьей,что всё готово для побега.37
II.Сегодня стёкла в снежном хворосте,но мы сквозь них глядеть умеем —там ветра бег, лишенный скорости,так схож по густоте с елеем....Среди стволов темночешуйчатыхи блёсткой от мороза хвоинеузаконецы, невенчаны,пушкинианцы и изгои,о чём-то грезим днями целыми,переслоив вражду и ласку,и видим наяву с прицеламиприснившуюся Тане сказку.Я чувствую почти келейнуюсимволику её размаха,когда дышу на жилку шейнуютебе, трепещущей от страха.Знать, за серебряной дорогоютвоя усмирена бравада.Я и издалека потрогаю,достану, если будет надо.А лучше — обвяжись вкруг поясаплатком и в путь сама отправьсяс молитвой — в направленье к полюсу,вморожена в который явь вся.К колючей зоне за поляноюты подойди — я не поверю,и мельбу в руки кинь румянуюзаросшему седому зверю.
III.Ещё не все ночные полосырастаяли в пространстве белом.Ещё родная в косу волосыне заплетает между деломвозле окна с густой порошеюиль блеском льдистого фисташка,еще не лает на прохожегос плюмажиком хвоста дворняжка,— а я уж вместо благовестияшаги заслышал наудачуи жду: опять нагрянут бестии,начнут пытать — чего где прячу.Один с зализанной залысиной,следком бритья на подбородке,другой на шее с сыпью бисернойи хищным зобом посередке...Но полно, полно, не черниламитакие пишутся проклятья.Года с безвестными могиламиготов на откуп все отдать я.Пусть души сами поквитаютсяс другими, что сегодня в теле.Лишь там, где вместе собираютсяв одну великую — метели,я только что с другими поровнукайлом о лёд ворон покличу,чтобы слетались — с вами поновуделить привычную добычу.
IV.От тишины геройской горестной,прославленной похмельным Глинкой,так хочется живой колодезнойводы с трепещущею льдинкойсреди густой хвои кладбищенской.И россыпи алмазной пылив окне любой избушки нищенской...А говорят, что бедно жили.Ты, замечаю, тоже ленишься,гляди, чтоб не вошло в привычку,подставя, никуда не денешься,к берестяной растопке спичку....Я нашу страстную убогуюсудьбу со времени Петрова,огонь и шавку мохноногую,не понимавшую ни слова,хвою с заснеженными лапамив окне, прорубленном из сказки,— припомню в темноте «Столыпина»под визг и лязг колёс без смазки.Кажись, чего с тобой мы видели?Под вольнодумную ухмылкуи благовестие в обителине запрягали нам кобылку,и не сжимала ты под соболемруки псковского палладина,а пёхом мы вёрст семь оттопали,и солона у губ щетина
V.— но всё в бреду придётся в царскуюмне руку запускать солонкуи вспоминать густую вязкуюлазури вьюжную сгущенку.... А то и как ещё по осенишел в телогрейке нараспашку,топча щетинку свежей озимии плохо скошенную кашку,вот этой самою дорогою.Тут каждая деталь — подмога.Я и издалека потрогаютебя за сердце, недотрога.Об эту пору кофты байковойне следует снимать и ночью.Спи, убаюканная байками,которые наплёл воочью.Боярыни, бывало, прячутсяпо жарким теремам, что клушки.Но вот потешный полк ребячитсяи с кораблей стреляют пушки,волной распахивая форточкии перелистывая книги.Через ручей — по скользкой жёрдочкенесёт к Онегину топтыгинсвою добычу необычную.Но так строга твоя мамаша —что не даёт слизнуть брусничнуюиз шейной жилки каплю даже.41
II....На правом ли, на левом клиросе,иль прямо на алтарной створкев резьбе так много яблок выросло,как под припёком на пригорке.Так горячо и тесно на сердце,что солона под веком дужка.И всё-таки в лампаду маслицадолей, угрюмая старушка,глядящая на неугодного,как на подверженного сглазу.Ещё бы — столько греховодногово мне за год скопилось сразу!Теперь пора в дорогу чёрную.Уже стучат в ушах колёса.Не перегнуть судьбу упорную,так мощно выросшую косо,как будто кто-то воздух выстудилв неловком ожиданьи чуда.Зато теперь, скажу по истине,как ни мани мошной, Иуда,и больно руки ни выкручивай,а на колени не поставишь.Глядишь, за неименьем лучшегои я одна из Божьих клавиш.До слез вдыхаю мглу небесную,передметельную густую,и догрызая пайку пресную,всё благодарнее Кресту я.27-28. 2. 82
• **То реквиемом, то Осаннойночной переполнен массив,с живительной маннойкутейное брашно разбив.В лесных голубятняхпод сойками ветер упруг —им помнить о братьяхручных сизарях недосуг.Но веки смыкаяпри лампе, коптящей в метель,ты помнишь — какаятебя принимала купель.Какой Иорданьюомыта с мизинца до лба,когда к отпеваньюсудьбу обряжала судьба.Считай, что колодник,простившийся с домом родным,на дню, как народник,смеюсь над испугом твоими символом веры,в котором слова-сургучи.Но сердце от мерывсё глубже таится в ночи.Пусть снова забродитдыханье твое на вискемоём, где проходитглазная морщина в тоске.Мы долго моталиклубок, раскрутившийся в путь,пока не упалибессильно друг другу на грудь.28. 2. 8243
Потемневшая пижма, осенними срокаминевзначай принесённая в дом,даже в лучшие дни не богатая соками,спит в кувшине с мышиным душком.За окном снежнохвойное блёсткое месиво,у породистых галок полны закрома.Только пижме в угрюмом кувшине не весело,и жива ли — не знает сама.И товарка её, навсегда погребённаяна спрессованном дне снегового холма,что сказала б она, увидав удивлённаяэту нашу — не знает сама....Одиноки твои вечера с перестрелкамивеликанов алмазных кровей.Попадая под осыпи снега под белкамис напружиненных лап и ветвей,редкий гость забредёт за каким-нибудь рубликом,щёлкнет в горло небритое, дескать, уважь.В паз меж псковскою и новгородской республикойсунешь руку, достанешь, не хочешь — а дашь.И Господь за твою простоту изначальнуюна скоблёные доски положит тишкомс золотистою ленточкой свечку венчальнуювозле пижмы пожухшей с мышиным душком.31. 1.82
• *Ветер бьёт в лицо, что в стену,только соль из глаз.Ледяную гонит пенумутных туч на нас,и того гляди, задушит:дескать, костеней,будет, дескать, бить баклуши,тень среди теней!И откуда так кривлятьсяу тебя досуг,не пора ль за дело братьсяпопытаться, друг?Ну, когда такое дело,верно, лучше впрямь,воскресая, бросить телов ров, могилу, ямь,где исподнее, от стиркисделавшись мало,с семизначным шифром биркипо ночам бело,и всего скорей с порогагробовой тишина одну из пасек Богаперелёт души.1.2. 82Лог, Гдовщина45
В ВЕНЕВот и я, что падалка, свалилсяна землю чужую, не свою.Под чужой звездою притулился,никого не узнаю.За оконной ямой — заграница,толпы сч4стливых тетерь...Словно мания —дождаться очевидцау рязанского самоубийцы— у меня теперь.А ведь твёрдо помню: что-то было,что-то нас тогда вело,что-то нам тогда светилои больно голову нажгло.Октябрь, 82Hotel «Regina»
JI. ЕвгеньевСТИХИ И ПРОЗАГоворящаяветвьУ меня свободно растет плющ, падая двумя ветвями.И вдруг одна ветвь стала изгибаться под прямымуглом к падению. «Где же? Где же то, на что мнеопереться?» — как бы вопрошая в безмерном пространстве.У входаПеска лежит на асфальте, у входа в поликлинику.Разлегся прямо на асфальте — жарко! — ушами шевелит,смотрит на дверь. Когда хозяйка выйдет?Прошел человек, сумкой махнул. Песка облизнулся.Непутевый человек! Только сумкой махнул, лучшебросил бы что-нибудь.Песка дворняцкой породы, похож на овчарку, номельче. Ушки торчком. Лежит, задние лапы набок,передние прямо перед собой. Всем улыбается, оглядывается,дескать: «Я мирный! Зла никому не делаю!»Смотрит на дверь.Тьфу ты! Прошел пьяный, песку спугнул.Наверно, песка притворялся, что ждет хозяйку.Просто ему хотелось в компании побыть. Тут две скамейки,народу много. Вместе веселей.47
КрылышкиСыплются деревянно-зеленые крылышки в липовомсаду. Для чего эти крылышки? Ведь липовые семенане летают, как семена ясеня. Может, крылышкизащищают нежный липовый цветок от дождя?Сейчас засуха — и столько сыплется этих крылышек,весь засыпан липовый сад. Падают крылышки,одно щелкнуло о скамейку.Ну, прямо рябит в глазах от этих крылышек набольничной земле — зеленоватых, бананово-белых!Ну, кто там еще? Кто стукнул меня по плечу? Яоглянулся. Никого нет. Ах, это крылышко стукнулосьо плечо! Никого нет. Скоро три месяца друг мой вбольнице, и рядом со мной никого нет.Рождение стрижейВчера большая стая стрижей толкалась в небе.Сегодня смотрю — ни одного. Пустоватая дымка.Погоди, а вон там что? Соринка в глазу. Нет, стриж!Выплывает из небытия!В небе и рождается стриж. Недаром: небо-небытие.Вот точный смысл слбва «небо»: здесь-нет («не»);Там, где-то Там, в Огромном-есть («бО»). Пишется:«небо», а слышится: небО.Стриж необыкновенная птица (никогда не садитсяна землю), необыкновенная, небокновенная (небоокно).Я уверен, все стрижи рождаются в небе. Еслидолго смотреть в небо — обязательно рождается стриж.Попробуйте сами! И поэтому да здравствуют лентяи,тунеядцы и балбесы! Которые подолгу смотрят в небо.Ведь им наше небо обязано множеством птиц. Ведьвот какой иногда попадется лентяй — часами смотритв небо! Тут уж рождается острый, особо пронзи-48
тельный, чистый, счастливо быстрый, всенаирадостныйстриж! Да и песенка такого — как будто кто всвистулечку серебристую свистит.Мне кажется, и все мы в небе родились. Но обэтом нельзя говорить. Потому что над нами — тайна.И если в небесную тайну бездумно, грубо вторгаться— откроется только выжженный хаос, бесовская свистопляскапланет, смертобытие. Разве можно сказать,сколько сейчас времени, если путешествовать внутримеханизма часов?Я бы вам больше сказал: мне кажется, небо естьБог. Но об этом совсем уж нельзя говорить. И мык Богу, в небо идем, где просторно, светло. Вот и всянаша жизнь.Джо АзнавурСегодня еду в электричке. Народу мало. Прямопередо мной сидит мальчик лет пятнадцати — иностраннаякурточка, длинные патлы а ля Шарль Азнавурили Джо Дассэн. Джо Азнавур кушает крыжовник.Раскалывает ягоды, жует. Откусанные цветкискладывает в пакет.Очень жарко. Вся окрестность дымится. Как будтокто жарит на сковородке огромное количество котлет.Вот на откосе калины обвисли, подвернулись.Вошла огненно-рыжая, горделивая дама. Джо нахмурился.Вошел толстячок, в тонкой сетке у негобольшие батоны прекрасного хлеба по двадцать восемь.Вошла беременная, тяжело ступая. Глаза у нее узкиеот жары.Что это? Косино или нет? Остановки не объявляют.Подымается дым над лесом. Кажется, мы горим.Лысый в пижамной рубашке спит. В зеленой кофточкеспит. С белыми цветами спит. Трудовой ударникспит, выкатил руки на живот.49
Девка у окна много расстегнулась. Горбится в вырезелюбовная наличность.Джо раскалывает крыжовник. А крыжовник спелый,желтый. Сама кожица кислая. От кислого и влажнеетлицо. Джо полез в карман за платком. Откинулпатлы. Надо же, какой у него большой лоб!В зеленой кофточке спит. С белыми цветами спит.Двое по очереди из горлышка дуют портвейн.В дальнем конце вагона играет дешевая, отличнаямузыка. Господи! Спаси нас от глада, потопа, нашествияиноплеменных!Станция Люберцы! Следующая — Косино!* **Чистые крутятся, таютструи дождя на стекле.Это Мария рыдаето нашей земле.Жизнь есть вживание в жеванье.Пейзаж раздйлся и промок.О, славный колер свежеванья!И коксогазовый дымок.Господь простити в дождь мой дом укутает.Прохлада алая рябин.50
• *Как туго свернутое небоцветок цикорияперед дождем.* *Как славно сойти с ума!Сидеть у подъезда китайцем.Курить без атанды Беломор.* *критически и самокритическипроанализировали узловые проблемывытекающие из положения(цит. по: «Известия», 25/VIII-80.)• **Нет, не поеду! Горькое житьесумой убогою повешу за плечами.Здесь воздух мой. Рождение мое!Судьба моя пред Божьими очами.* **А хорошо бы раньше срока!В период следствия. Встаетзвезда высокая стоокои память вечную поет.51
О Пречистая, мира Покрове,правый путь укажисреди красныя крови,среди желтыя лжи!• **Ну, как сказать, когда сиренизеленоватые свинцыхолодноватые в апрелеи сладковатые сосцы!• *Темно.Чернила в ночьточь-в-точь!За поликлиникою детскойпросторно лает пес немецкий.• *В стране греха и смертной сениопять, как это было встарь,пылает Господу алтарьвсесожигаемой сирени!• *Когда же мы умрем,над пропастью кружа?52
В начально голубомпропали два стрижа.Назавтраоткроются вечныебелые ветви яблонь.* **Ах, какие в Москве медовые,ангельскиезолотые пылают луга!Мокрая травинка,ты жива?Так радуется солнцу!** **Огромную волною лесшумит:«Спасение в России!»Республика стрижейв жемчужныхсвежих облаках!
* • **Забудешь все: застенок тесныйи свист кнута, и крови вкус,когда на пажити небеснойтебя поднимет Иисус.* **Мои милые вы ивушки,трепетные, влажные!Ни за что, мои оливушки,никому вы не продажные!Ни огню вполнеба плещущему,ни дождю наотмашь хлещущему.Вот и мне бы так на крест взойтида серебряно воскреснути!* *Откуда? Ведь живу в Москве ж!Но ветер польски хулиганскинеслыханно варшавски свежи небо яростно по-гданьски!* **Мой Боже, возьми меня в дело!Да будет по воле Твоей!Чтоб каждая жилочка пеласвободу в неволе моей!54
Живи. Чего же проще?Редеющею рощейочнуться и nponâcTb.*Пока не тюкнули меня,вздымает горн горнист,играет сбор святого дня,и голубь с грохотом садится на карниз.* *В вагоне канут камушкомгода мои лихие.Россия, моя мамушка,окошечки глухие!Октябрь.Гончарные луга.Молчание.* **Ты дбма! Дома! Бог с тобой,где неба короб голубой,где на Даниловской бабуликолышат кроликовый пух,
где пляшут дымные рогулии дышит пончиковый дух!МИ-МИНОРЯ жил размеренно и сонно.Когда б не этот странный всхлип,когда б не скрипка Мендельсона,я б окончательно погиб.Так это было не похожена все, что музыка подчаснам говорит! Я слышал кожейпредвечный замысел о нас.* **Придет курносая в погонах,предъявит ордер на арест.И словно в дрогнувших вагонахкачнется видимость окрест.Ах, полно Вам, майор Копыткин,свои попытки продолжатьмой дух и солнечный, и прыткийжандармской шапкою прижать!* **Как страшно пустыри пусты!Здесь все покрыто смертной тенью.Но белоснежные мостызима возводит Воскресенью.
ДО-МАЖОРВ пределах малого мирка,освобожденная из пленатечет великая река,ничуть не повреждая стеныквартиры номер... глубока,избыточна, чиста, нетленнатечет великая река,звучит прелюдия Шопена.И смерти нет, и счастья нет,есть только небо, расступаясь.Несметною волною светвосходит в вечность, просыпаясь.СИЛЬНЫЙ СНЕГ, ВЕТЕРПрими, о Господи, уродца,приспособленца и враля!Я не могу совсем боротьсяс круговращеньем февраля!Когда сплошное полыханьемартофевраль, янваапрель!О, это Белое Дыханье!Еще ни гроб, ни колыбель.* *Покинув дольние юдоли,однажды, в ночь под выходной,впорхну снежинкою шальнойв Твои Ладони.1981-82 гг.
Ян Кшиштоф К е л ю сПЕСНИПеревод с польского Н. Горбачевской. Вступительнаязаметка Мирослава ХоецкогоВ начале 70-х годов на именинах, днях рожденья и другихвстречах в дружеских компаниях появлялись просто поэтыи поэты-исполнители песен, которые украшали приемы своимивыступлениями. К частому неудовольствию не всегда снисходительныхсоседей мы пели старые и новые сочинения, обычноне имевшие надежды быть одобренными цензурой. Однимиз самых известных исполнителей был Яцек Клейф, которыйпел много песен неизвестного мне тогда автора — ЯнаКелюса. В конце концов, не важно было, чей текст, кто сочинилмузыку. Важно, что пробуждавшаяся от сна молодаяпольская интеллигенция слушала не только Роллинг-Стонов, Битлов и родимых исполнителей биг-бита, — смагнитофонных лент звучали Владимир Высоцкий, ЮлийКим, Карел Крил.Яна Кшиштофа Келюса, автора многих текстов и музыки,звучавших в чужом исполнении, я никогда не видел сгитарой. Это самый скромный и самый камерный человек,какого я знаю. Его собственное исполнение, в принципе,можно услышать только в записи. Он никогда не выступаетпублично. Творчество его никогда не имело никакихшансов пройти через — даже прореженное после августа80-го — цензурное сито.Впервые такой шанс появился на первом Смотре Настоящей(или Правдивой — польское слово имеет оба значения.— Пер.) Песни в Гданьске в августе 1981 года. В течениенескольких дней «запрещенные песенки» перестали бытьзапрещенными. Сцену гданьского зала «Оливия», где проходилфестиваль, штурмовали и некоторые исполнители,которые прежде отнюдь не думали о какой-то деятельности,непохвальной с точки зрения властей. Когда обнаружилось,что несколько исполнителей принимают участие в фестивалеиз конъюнктурных соображений, Янек отказался. Он пред-58
почитал по-прежнему оставаться совершенно независимымхудожником, распространяющим свои произведения толькона магнитофонных лентах, записанных в частном порядке.Очередную запись он выпустил в апреле 1982 года.В первой передаче подпольного Радио Солидарность,продолжавшейся около четверти часа, была и песня в исполненииКелюса. Вскоре после этого он был интернирован итри месяца с лишним провел в лагере, который помещаетсяв тюрьме Бялолэнка под Варшавой. В конце июля былосвобожден.В тюрьму он сидел еще в 1969 году, по знаменитомуделу «татерников», группы лиц, перевозивших в Польшуэмигрантские издания через Татры. Он просидел около годацод следствием, затем был освобожден. В 1976 году, послерабочих волнений в Радоме и Урсусе, он ездил в Радом,оказывая помощь* репрессированным рабочим и их семьям.Многократно подвергался полицейским задержаниям. Он работалтогда как научный сотрудник на рубеже психологии,психиатрии и социальной политики. Когда акция помощирадомским рабочим закончилась, он практически покинулВаршаву, половину года проводя в северо-восточной Польшеи занимаясь пчеловодством.МирославХоецкийПЕСЕНКА О ТОМ, ЧТО БЕЛОГлянь, на белом снегемягких лапок след,сон прошел тропою — и к соснам.Может, то, что было,может, то, что есть,может, то, что будет,принес нам.А что еще бело — и творог, и мел,на черной копирке бумаги лист бел,под Краковом юрских предгорий известка,59
и Лешек был Белый 1 *, и свечка из воска,на картах истории белые пятна,и бел мой отец, когда в дверь позвонят нам.Приведи на памятьречную мглу и снег,цвет черемух, если не спится.Может, то, что было,может, то, что есть,может, то, что будет,приснится.И белый орел в королевской короне,и белая тундра, и Белое море,и белый погост без креста и лампады,и белы страницы несказанной правды,и обелены до сих пор преступленья,и белой бессонницы бело терпенье.Глянь, на бледном снегемягких лапок след,сон прошел тропою — и к соснам.Может, то, что было,может, то, что есть,может, то, что будет,принес нам.И белы, как бельма, кошмарные сны,и белые ночи, и яд белены,больничные койки и белые страхи,и смерть к нам является в белой рубахе,и белый прожектор над лагерной зоной,и белой бессонницы белые стоны.День мне скажет: «Здравствуй»,«Спи, милый», — скажет ночь,вечер: «Добрый вечер», а зорька —зорька отмолчится, вот сукивд дочь,наплела все это — и только.* Примечания ко всем песням см. в конце публикации — Переводчик.60
ПЕСЕНКА О ВТОРОЙ ПОЛЬШЕ 2Католики верят, что в партию нужно:жена, мол, ребенок, кредит и фиатик.Партийные ходят к причастию тайно,чтоб карточки были и в рай, и на сахар.Построим вторую, хоть первая, впрочем,с одними — как мать, а с другими — как отчим.Чтоб вырастала, чтоб вырастала в силуи чтоб мы жили, и чтоб мы жили лучше,бросим в работу резерв людского пота:кто-то — с лопатой, а кто-то — в комитете.Одно только слышишь, что нету ни шанса:под боком — Россия, с другого — германцы,евреи шуруют, поляки сачкуют,а кто не согнулся — видать, чеканулся.Построим вторую, хоть первая, впрочем,с одними — как мать, а с другими — как отчим.А когда станет, а когда станет силой,вот заживем-то, вот заживем-то лучше —всё те же лучше всех. И, что хочет, купиткто-то в «Березке», а кто — в сельпо, что будет.«Кто крайний? Что выбросили?» — каждодневнопо очередям наших женщин раденье.Мужчины — точь-в-точь как с плаката, что гневновзывает: «Он пьет — на народные деньги».Построим вторую, хоть первая, впрочем,с одними — как мать, а с другими — как отчим.А когда станет, а когда станет силой,вот заживем-то, вот заживем-то лучше —всё те же лучше всех. И, что хочет, купиткто-то в «Березке», а кто — в сельпо, что будет.Сидят старички в богадельнях и в вузах:то нету диплома, то стажу нехватка.В Стокгольм — заработать, а в Варну — на отдых,студкомовцы после второго инфаркта.61
Построим вторую, хоть первая, впрочем,с одними — как мать, а с другими — как отчим.Чтоб вырастала, чтоб вырастала в силуи чтоб мы жили, и чтоб мы жили лучше,бросим в работу резерв людского пота:кто-то — с лопатой, а кто-то — в комитете.А когда станет, а когда станет силой,вот заживем-то, вот заживем-то лучше —всё те же лучше всех. И, что хочет, купиткто-то в «Березке», а кто — в сельпо, что будет.НА АВТОБУСНОЙ СТОЯНКЕНа автобусной стоянке,еле найденной под вечер,песню так же, как скитанья,начинать, чем кончить, легче.В этой песне, пане Коэн 3 ,про Сусанн не будет — жаль, нов худсовете про такоеизрекли бы: «Подражанье».На автобусной стоянке,от больших шоссе в сторонке,с неоконченной) песнейты на пару на бетонке.Чего ты тревожишься, как выбираться,выйдя под вечер на эту бетонку?Чиркаешь спичку — сорвали табличку.Спокойно, не нервничай, стань в сторонку.От поэзии далече,на стоянке, на шоссейке,ты людей обычных встретишь,прямо как из песни Клейфа.«Тут скорее словишь, пане,трепака, а не попутку,
— уверял однажды пьяный, —на стоянку эту плюнь ты».«Постарела наша псина,морда стала вся седая,то ли это с вепрем помесь,то ли иней оседает»,— на автобусной стоянкечеловек промолвил этои не ведает, не знает,что минуту был поэтом.Припев.«Польша с Польшей и о Польше...»Пане Петшак 4 , ради Бога,раз смешить не разрешают,вы решили нас растрогать?«Эх, капуста кочаниста,— я за пафос этой стати, —не ложись под коммуниста,хоть они неплохо платят»,— братья наши так писаличерной сталинскою ночьюпо сортирам привокзальныммелом, и дерьмом, и кровью.Вот вам тот и этот пафос.Я уехал, снялся с места.Налегать ли нам на дрожжи,раз и так восходит тесто?Припев.Если в прессе заголовкиистекают черной злобой,как от злобы удержаться,как на ней не помешаться?Как не спрятаться в закутевечных тем и теплых буден?Быть ли эхом поколеньяили петь в кругу келейном?63
Без главлита и биг-бита,всё на те ж четыре такта,тот же голос эвримена,и аккорды неизменны.На краю избитых истин,на границе плагиата,то пытаясь что-то крикнуть,то пытаясь дошептаться.Далеко от пораженьяи далече от успеха,от конечного решеньядальше леса, ближе эха.От больших шоссе в сторонке,на бетонке неизвестной,на автобусной стоянкес неоконченною песней...БАЛЛАДА О ШОССЕ Е-7Я Красный Радом запомнил синим,как след дубинки по битым спинам.Ментами напрочь вокзал обложен,зато семеркой доехать можно.Испуг на лицах. «Тропа здоровья» 5отбила память у беззащитных.От пальцев пятна на приговорах.Письмо от зэка. Врач и защитник.Июнь застал нас вдали от дома,Варшава, осень, и ждал нас Конрад 6 .Как раз собрали немного денег,кому-то ехать — ну, значит, едем.И вправду ехать кому-то надо,и вправду занят вокзал ментами.Так автостопом чудное нашетуда-обратно пошло катанье.Я Красный Радом запомнил синим... и т. д.64
Я не поддался тогда надежде,что те поездки изменят что-то,скорее думал: опять, как прежде,мы приземлимся там, за решеткой.Сто километров — не за горами,и каждый мог быть хоть тем утешен,Могли бы хлопцы — так, между нами —горком спалить им в местечке Тешин 7 .Я Красный Радом запомнил синим... и т. д.А по субботам катила Куба,а возвращалась — как с того света.Ох, нету хуже, как ждать друг друга,уж лучше ехать, уж лучше это.Моя жена-то — такая кроха,когда и знаешь — едва поверишь,что отсидела в тюрьме подольше,чем эта дура Анджела Дэвис 8 .Шоссе Е-7, ты мне так знакомо,как на гитаре аккорды те же.Как долог вечер, покуда Кубадомой вернется с буханкой свежей.Такая раз ей пришла идея,когда филеры пошли за нею,за хлебом стала в очередину,а отстояла — и след их сгинул.Я Красный Радом запомнил синим... и т. д.А я, по чести, любил, наверно,лишь путь обратный, оставив Радом.Усталый профиль шофера слева.В шоссе ночное уставься взглядом.Блуждают фары, и разговоравитают клочья под гул мотора,и декораций тех дешевизнапридаст любому грош романтизма.И по какому шоссе ночамия бы ни ехал — припомню Радом,65
как только дворник полукругамипойдет сражаться с дождем и градом.Я Красный Радом запомнил синим... и т. д.«Теперь про Радом...» — глушилка воет —«... прочтет историк...» — опять глушенье.Мы снова, снова вдали от дома.А что там слышно у Ромашевских? 9Чего-то Куба там не дослышит,кому-то плохо у микрофона.Пять лет минуло, пять лет и с лишним.Мы снова, снова вдали от дома.И лишь не знаю: на зов тревогипущусь ли снова считать дорогиночам бессонным и тьме навстречу?«Где был ты?» — спросят. И что отвечу?ДЕКАБРЬСКАЯ ЭЛЕГИЯЧто ж, друзей твоих забрали, всех забрали среди ночи,а ты ночь проспал в вагоне, в поезде ты ночь ту прожил,и наутро, когда в город на вокзал пришел твой поезд,ты узнал, как забирали всех друзей твоих средь ночи.Значит, снова не вернемся мы домой к себе надолго.Это все уж было, было — неужели снова то же?Вновь произойдут убийства, а вчера друзей забрали,дома темные окошки, топтуны по подворотням.Вновь произойдут убийства, кровь прольется передшахтой,сообщит паяц в мундире, что опять погибли люди.Это все уж было, было — неужели снова то же?То, что кровь опять прольется, Декабрем опятьзовется 10 .66
Жаль, что кончится все снова, как в стихотвореньедруга,жаль, не обойтись без крови заскорузлой на спецовках.Что ж, опять напишем то же на камнях и на бумаге,что ж, кому-то надо гибнуть, чтобы жить другимдостойно.Неужели вновь стеклянный взгляд уткнуть в экранстеклянный?Жаль, что кончилось все так же, а могло бы быть иначе.Вздернут ли на фонари вас, или вас простить сумеют,или просто вновь стеклянный взгляд уткнут в экранстеклянный?..ПРИМЕЧАНИЯ ПЕРЕВОДЧИКА1. Лешек Белый — краковский князь, убит в 1227 в междуусобицах,2. «Выстроить вторую Польшу» — такой лозунг выдвинулогерековское руководство, придя к власти. Результаты этого известны:дорогостоящие, убыточные промышленные предприятия,многомиллиардные долги и полный развал экономики.3. Леонард Коэн — американский певец, по манере несколькоблизкий к Келюсу. «Про Сусанн» поется в одной из его песен.4. Станислав Петшак — автор известной патетической песни«Чтобы Польша была Польшей», которая, в частности, была лейтмотивомдля поддержки Польши в США — 31 января 1982 г. Вернувшисьв Польшу из-за границы весной 1982 г., Петшак принялсяискупать свой «пафос» и обвинил США в нарушении его авторскихправ и бесцеремонном использовании его песни без разрешения.Иронические слова Келюса написаны задолго до этого происшествия.5. «Тропинкой здоровья» в польском милицейском «юморе»окрещен прогон задержанных сквозь строй. Впервые это было широкоприменено при подавлении рабочих волнений в Радоме и Урсусев июне 1976 г.6. Конрад — Конрад Белинский, один из членов-учредителейКомитета защиты рабочих (КОР), созданного для помощи жертвампреследования после июньских событий 1976 г.7. Тешин — город на самом юге Польши, на границе с Чехословакией.67
8. Куба Келюсова, как и Ян, сидела под следствием по делу«татерников», затем неоднократно задерживалась в связи с акциейпомощи радомским рабочим.9. Збигнев Ромашевский — член-учредитель КОРа, физик.Вместе со своей женой Зофьей организовал Бюро Помощи КОРа.В настоящее время оба арестованы: Зофья — как диктор Радио Солидарность,Збигнев — как член подпольного руководства варшавской«Солидарности» и директор Радио.10. Говоря «Декабрь», поляки всегда имели в виду декабрь1970 г., кровавую расправу над рабочими восставшего БалтийскогоПобережья. Декабрь 1981 г. стал новым «Декабрем».Журнал «БЪДЕЩЕ»(«Будущее»)на болгарском языке, ежемесячник,издающийся в ПарижеЖурнал посвящает большое количество статейсовременному положению в Болгарии, условиямжизни и труда болгарского народа, борьбе заосвобождение его. В последнем номере журналаопубликован ряд материалов о сопротивленииболгарских писателей, о положении болгарскихкрестьян, рассказ о советских концентрационныхлагерях.Адрес редакции: 18 bis, Rue Brunei,75017 Paris, Tel. 380-57-64Годовая подписка: 120 Fr. (70 DM, 30 $Par avion: 50 $)68
Душан Ш и м к оВ ПАРИКМАХЕРСКОЙРассказПеревод со словацкого Ефима Фиилтейна«Ну и духотища — задохнуться можно!» — хотелбыло вставить Палкович, но тут парикмахер Надьвластно прижал его голову к своему выпуклому животику.Голова его была туго обернута махровым полотенцем.От полотенца валил пар, поднимаясь вверх крастрескавшемуся потолку парикмахерской.Палкович обожал этот миг блаженной расслабленностии позволял себе его раз в три недели. Быть подстриженным,вымытым и идеально выбритым. Намгновенье он обессилел и безвольно поаис в рукахпарикмахера. Через полотенце он ощущал приятноетепло, идущее от цирюльникова брюха. Он открылглаза и, удовлетворенный, наблюдал за парикмахером,который бросил мокрое полотенце на умывальники принялся быстрыми движениями осушать гривуПалковича. Палкович прокашлялся и начал: «На ЗолотыхПесках у Варны — вот где жара, так жара — нечета нашей. В полдень листок не шелохнется. Болгарднем с огнем не сыщешь. Все до единого после обедазаваливаются на боковую. Даже кошки, собаки и прочеезверье расползаются кто куда. У них это называется,господин Надь, сиеста».«Да-а, сиеста, — с уважением просипел парикмахер.— Какое там у нас — в Кошицах никогда небывает такого покоя, безветрия».Он намылил кисточку и стал с чувством наноситьпену на лицо Палковича. Начал он с двойногоподбородка. Полоску под носом и уголки губ осторожнообошел стороной. По щекам прошелся разма-69
шисто, замедляя аллюр, чтобы переброситься словомс Палковичем. Густая пена скапывала с кисточки в еголадонь, подставленную лодочкой. «Знаете Матейку?Того, что служит в Областном музее? Наш завсегдатай.Так вот, он рассказал мне, что весь наш город —это вроде сплошной ветряной канал. Представьте,как по-дурацки проложена улица Ленина. Я из-за этоговечно хожу с насморком. А доктор мне все долдонито какой-то особой аллергии».После второго намыливания последовал короткийперерыв, во время которого парикмахер усадил в кожаноекресло очередного клиента, пододвинув к егозатылку хромированный умывальник на высокой ножке.Установив умывальник на должной высоте, чон изжелтого резинового шланга налил в него теплой воды.Почесался под мышкой, утер руки о халат, сквозь которыйпросвечивали подтяжки, и вернулся к креслу, накотором восседал Палкович, чтобы вернуться к бритьюи начатому разговору.«Немудрено, что в такую жару нашего епископахватил Кондрат. Собор Святой Альжбеты был набитбитком — яблоку негде было упасть в толпе мужиков,заявившихся со всех окрестных хуторов. Слетелись,как мухи на мед. Говорят, покойник был личнознаком с папой римским Пием XII. Не знаю, не знаю,но что-то не верится. Hâni, пока жил, из Кошиц ни нашаг, а папа вечно торчит в Риме. Зато в молодые годынаш епископ умел красиво жить. Туфли носил толькозаказные, шитые в Мишкольце по размеру. А снародом говорил просто, понятно — оратор он былне особенный».«Зато теперь у нас ораторов — пруд пруди, —засмеялся Палкович. — Хороший оратор за ночь невырастет. Чего нам действительно не достает, такэто традиций. Не ругани и злобы, а хороших традиций».70
«Похоже, что так, — согласился парикмахер. —Без традиций нас продадут, как зулукафров».Палковичу было приятно согласие парикмахера,так как, будучи служащим облисполкома, он считалсебя знатоком людских забот. На службе он занималсяходатайствами граждан о получении разрешения настроительство. У него выработался определенныйтип философствования на общие темы, который позволялему возмущаться настырностью и несоразмернымивзятками ходатаев. В перерыв он никогда непокидал своего рабочего стола и в этом положительноотличался от остальных служащих, которые, с трудомдождавшись десяти, тут же исчезали в ближайшейкофейне. Он же, прочистив замшевым лоскуткомочки, вылавливал в недрах стола бутылку кошицкогодвенадцатиградусного пивка и чинно доверхунаполнял кружку. Из бутылки он не пил никогда. «Восточнословацкуюгазету» он любил располагать напишущей машинке, которая служила ему чем-то вродечитательского пюпитра. Он принадлежал к редкойпороде читателей передовиц — это у него было какдурная привычка. В прошлом кустарь-одиночка, онеще в Прешове в 48-м вступил в партию. По недоразуменцю,как поговаривали в его отделе, и со временемв это поверил и сам референт Палкович. Его семейнаяжизнь была гармоничной, ибо наигранная глухотапредохраняла его от множества домашних свар и катастроф.Его гордостью было смородинное вино собственногоизготовления. Он держал его в большойоплетенной бутыли в пивном погребе своего дома, утруб центрального отопления.«Только и слышишь, что болтовню о демократии.У каждой уборщицы вдруг ума палата. Как высчитаете, господин Надь?».«Я знал, что этим кончится — придут танки.Я все эти месяцы про себя удивлялся: куда это ведет?Многие вели себя как малые дети».71
«Министры, конечно, те себе могут позволитьчто угодно. Помните, когда они вернулись из Москвы,повытаскивали их из машин и — валяйте, краснобайствуйте!»«Где это видано?!» — он издал прихлебывающийзвук, словно ел лапшу с маком.«Дать бы им как следует, прошу прощения, пожопе! — рассудительно заметил парикмахер. — Политика— это сплошное свинство, господин Палкович.Нечего и удивляться, что они пришли».Оба выразительно помолчали, что еще более заинтриговалоклиентов в очереди, которые отложилииллюстрированные журналы на стеклянный столик всалоне.«Были среди них и венгерские ребята. Тех мне былоособенно жалко. Русским не привыкать к такойработе. Впрочем, венгры — ослы».Парикмахер сжал ладонями лицо Палковича и началвтирать ему в кожу дешевый одеколон. Он такдолго массировал его лицо подушечками пальцев,пока у того общая вялость не уступила место чувствусобственного достоинства.«Это, господин Палкович, не моя забота. Я целыйБожий день на людях. Чего я буду совать нос вто, что не моего ума дело? Готово, господин Палкович!»Уже стоя у кассы, Палкович сунул в карман парикмахерскогохалата неизменные две кроны и доверительноспросил: «Фининспектора Бартоша не видали?Не заходил к вам на прошлой неделе? Мы уговаривалисьсъездить в Гамры на рыбалку».Услышав имя фининспектора, парикмахер подумал:«Этот до получки носу не покажет, — но вслухсказал: — Ко мне не заходил, и в городе его тожечто-то не видать».Палкович кивком головы попрощался с людьми,ждущими своей очереди. «В таком виде буду непре-72
менно иметь успех у наших конторщиц», — ив приятномрасположении он покинул парикмахерскую черезвечно приоткрытые двери, привязанные шпагатом квешалке.Фининспектор ходил в парикмахерскую, по возможности,в субботу. Это был великий день. В субботусотни женщин дефилировали мимо дверей парикмахерской,за которыми томилось избранное общество,спаянное общими страстями на манер братства.Были это, в основном, обладатели абонемента— синей бумажки, обычно засунутой под ремешокчасов или торчащей из кармашка пиджака.Парикмахеру Надю приходилось часто прерыватьпроцесс облагораживания голов избранной публики.Он рассеянно вытирал ножницы или бритву тыльнойстороной руки и клал их в карман. «Ишь, уставились,выкатили шары, как слепые щенята! Что тут говорить,у кошицких девчат классные задницы! Увесистые»,— длинной, костлявой рукой он очертил в воздухеблагородную параболу и покосился на клиентуру.Потом обширным, как простыня, носовым платком вцветочках утер пот, струйками стекавший ему за воротник.Поутру, когда Надь еще только поднимал шторына дверях своего заведения, на улице появлялись первыеселянки, поспешающие на рынок. Их путь лежалмимо парикмахерской, расположенной как раз напротивДоминиканской площади, где был разбит рынок.Крестьяне торговали там фруктами и овощами сосвоих огородов и приусадебных участков. МужиковНадь, в общем, обделял вниманием, но когда мимопарикмахерской проходила какая-нибудь молоденькаяпейзаночка в короткой цветастой юбке и бархатнойдушегрейке, тут он поворачивался ей вслед, примеряясьвзглядом к ее статным бедрам, пока не терял ееиз виду в затемнении низкой подворотни, ведущейна площадь. Крестьянки шли в большинстве широко-73
плечие, коренастые, таща на себе огромных размеровзаплечные мешки, уравновешенные спереди плетенымикорзинками. Двигались они импозантно и неуклюже,как дредноуты.В садике у театра какой-то малый драил кафельу входа в общественный туалет. Расставив ноги в резиновыхсапогах, он что-то насвистывал, опершись натракторный прицеп, провожая глазами молодух.Случалось, появлялся и Маросси, оформительвитрин из упргорхоза; тогда они вместе с парикмахеромтоптались у витрины, которую Маросси долженбыл украсить лозунгом и портретами вождей, и очарованноглазели в сторону католического костела. Передсобором святой Альжбеты была остановка трамвая,который регулярно изрыгал всё новые партии домохозяекс авоськами и кошелками, и они галдящей стайкойустремлялись на рынок.Маросси многозначительно начал: «На днях мнепришло на ум: почему это мне всё снятся безлюдныегорода? А просто мозги устают от вечного глазеньяна баб, и по ночам клетки просят отдыха. Примешькружку пива сверх нормы — а пиво напиток мочегонный,— насмотришься всласть, и голова отключается.В результате имеешь беспокойную ночь».Надь потряхивал связкой ключей, спрятанной вгорсти.«Ну, ты-то еще молод и в силе. Тебе б не приключенийискать — тебе хорошую жену искать нужно.Ты посмотри на меня. Который год ищу себе подругуи все без толку. А знаешь почему, Маросси? Я —не Казанова, да тот и не перенес бы нашей кошицкойпыли. Казанова был что-то вроде тропического растения— ему тоже, чтоб влажности было вдоволь ичтобы земля, как следует, прогрелась. Погляди наэтих бедолаг, что с высунутым языком бегают заюбками. В такой ситуации поможет только огород:окопка, прополка, заливка, прокладка дорожек. Се-74
годня это стало всенародным хобби. Но ты, Маросси,для этого еще слишком молод. Живи в свое удовольствие,пока живется!».К полудню мимо парикмахерской промчалисьмедички на велосипедах, ожесточенно крутя педали. Усветофора они слезли с сидений. Их белые халаты изанатомического зала были аккуратно свернуты и вместес учебниками анатомии защемлены на багажнике.«Господи Исусе, до чего ж аппетитные!» — вздохнулаголова, наполовину в мыльной пене, принадлежащаягосподину Воскобойникову, учителю музыки вгосударственной консерватории и гордому обладателюабсолютного слуха. Его отлично знали все театральныебилетерши, так как он обычно заявлялся в театрбез билетов, но зато в сопровождении девочек.Билетерши смеялись: «Ох, уж 3ïa забывчивость,господин профессор !.. »На «Пиковой даме» он досидел до драматическойсцены столкновения между Германом и старой графиней.Затем с грохотом встал и оставил свою юнуюнапарницу одну в опустевшей ложе.«Да, уважаемые, то, что мы видим, это ужас ичудо природы! Раздобыть себе приличную жену —это вам не бумажную розочку сострелить в тире наярмарке. Сколько их, бедных, вянет в девках: медсестры,телефонистки, продавщицы, проводницы. Затошлюхи повыскакивают замуж, а готовить так и неумеют», — подал голос добровольный дружинникТоно Кизек, дожидавшийся среди прочих своей очереди.В субботу Надь обслуживал его в порядке исключения,хоть он и не записывался загодя.«Недавно пригласила меня одна — кстати, хорошенькая,зараза! — работала в заводской столовойна шахте-магнезитке. Я на бедра ее клюнул — мол,таким супцом меня накормит, какого и граф Эстергазине едал. Вот на такую неприличную наживку я и попался.Ну, сели рядышком, как положено, а она мне,75
мол, в ее жилах течет греческая кровь, ей-Богу, невру — жуть! Наполовину гречанка. Отца ее везли взапломбированном скотном вагоне до самых словацкихграниц. Левую руку оставил в Македонии. И посейчастоскует, чудак. Греки едят не как мы, рубаютвсе подряд, подчистую, — нажрутся овощного гарнира,мяса и все заедают хлебом, а не картошкой, каку нас. Ну и, конечно, пропустят стаканчик-другой винаили, на худой конец, запьют водой. Все это она успеламне расписать. В голове у меня гул, миска с супом настоле, красная свеча чадит, комнатенка маленькая,уютная... Я и забыл почти, что мы в общежитии.В голове все вертелось: давай, Тоно, пока прет! Сижуи чуть не плачу: нашел-таки родную душу! Я уж ееза ручку держал. И вдруг начинает, падла, выдумывать.У них на шахте есть заводской психолог. Этотсопляк нагородил ей какую-то чушь, а наш брат отдувайся.Я хоть и не жлоб, но и у меня есть предел терпения.После ужина она достала книжку и на тебе:а не почитаете ли вы мне стихи? Тут во мне как ножомотрезало, вся охота пропала. Я отказался, а унее голос дрожал от обиды, когда читала. Стишатазатянулись... А все эта сволочь-психолог с магнезитки— такой вечер испортил».Парикмахер кашлянул и осмотрел работу ученицы,трудившейся над головой юриста Миклошика.Юриста не занимали излияния стукаческой души, затоон с большим интересом рассматривал Воскобойникова,о котором был наслышан. Для части кошицкоймолодежи Воскобойников был своего рода ангеломАзраилом, который безвкусно, злорадно, но при всемпри том завидно соблазнял консерватористок. За спинойВоскобойникова был различимо слышен шорохопадающей листвы фиговых деревьев, под которымиобнимались наши прародители Адам и Ева. До войныВоскобойников считался первым красавцем в городе;когда он прогуливался по главной улице, дамы обо-76
рачивались за ним и застывали, забыв закрыть рот.Когда, придя в себя, они продолжали свой путь, ихпоходка была неверной и посрамленной. Крестныйотец Миклошика был тому свидетелем и часто рассказывалоб этом. Он любил водить крестника в забегаловку«Левочский дом». Крестный заказывал себе«ерша» — пиво с ромом, а Миклошику лимонад. Тамже, в «Левочском доме», крестный однажды указалему на учителя музыки в сопровождении некой пероксиднойблондинки. Крестный сдувал пивную пену скружки, предохраняя рукой свежевыглаженную белоснежнуюрубаху. После прогулки они отправлялисьв дом крестного. Крестный закрывался в комнате,которую называли не иначе, как «курильня», а школьникМиклошик валялся на полу за диваном, листаяальбом с фотографиями голых девиц. Альбом принадлежалкрестному, который прятал его в библиотекеза стеной морально незапятнанных книжных переплетов.В углах открыток была пропечатана фирма дореволюционногофотографа: «Сакач Борош, Мишкольц».Школьник Миклошик склонялся низко надповерхностью пожелтевших фотографий. Желто-бурыеразводы придавали увековеченным телесам умопомрачительнуюкривизну линий. В эти минуты, проведенныенад эротиконом крестного отца, формировалсяморальный облик будущего юриста. Порой онбыл рад, что он не один в комнате: присутствие двоюроднойсестры или брата спасало его на время оттайного порока. К исповеди ему приходилось отправлятьсяв сопровождении крестной матери. После исповедион преклонял колени и, опустив стриженую голову,молился, как. ему казалось, с внутренним жаром:«О Господи, добрый и милосердный! СпасибоТебе, что Ты отпустил грехи мои устами ксендза, Своегонаместника. Обещаю Тебе, что буду избегать любого,даже самого незначительного греха! Хочу быть77
Твоим верным, послушным и богобоязненным сыном!»— при этом он смотрел на свои бесстыжие,во всем виноватые руки, которые совершали над еготелом это жалостно упоительное насилие.Прошли годы, и комсомолец Миклошик забылэто детское нытье своей перепуганной души. Его застарелыйинтерес к женщинам получил конкретныеочертания, размах и надлежащий шик.«Вам что — не нравится ваша прическа?» — испуганныйвопрос ученицы пробудил размечтавшегосяюриста. Он сконфуженно кивнул в знак полного одобрениясвоей новой прически. Ученица смахнула простынюс его плеч и принялась щеткой обметать егоспину. В эту субботу Миклошик был последним клиентом.Парикмахер Надь уже переодевался за ширмой,и оттуда прозвучало: «Всего хорошего, товарищМиклошик!». Ученица, прижав к груди заляпаннуюпростыню, долго провожала взглядом бодро вышагивающегоюриста, взявшего курс на госпрокуратуру.78
Анатолий КопейкинПОЭМА ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙПрологДержу в уме Москву, такой огромный город.Пустых кафе две штуки. Про себяОдну постель пустую все штудирую; другую —Полупустую.Держу в уме пивные и бульвары,Мосты, аллеи, парки, этажи,Держу в уме московские таланты,Их гонорары, межи, рубежи.Москва, Москва, такой огромный город.И кирхи все, от всех пяти веков.Держу детей, детей детей знакомых,А также приболевших стариков,Которых навестить бы и хотелось,Но тысяча причин меня отводит прочь.Держу в уме троллейбусы, что прочьНесутся. И готовлю мелочь.Москву в уме держу и выражаю,Как будто бы прокажаю.Держу пари, что этот город весел,Что вымысел идет ему к лицу,И многое другое, чуть не всё.18. 8.8179
Часть первая1. У изголовьяПоблизости от Спаса на ПескахТянулась арка, медленно, как ода.Бела, как стих, узка, как страх.Она плыла полузатылком свода.Украдкою с Арбата тени ли,Подвешиваясь к самой середине,Размешиваясь, будто в бодегоне,В средине арки — диумом погони —В столи... в столи... в столи...В Москве. В Москве.Всему начало было. Голос был.(Затем, что раньше было подголосье.)И, как свеча горит у изголовья,Так этот город гордо в поголовьеПлыл.Затенькают капели во дворе,Затихнут ли проходы городские,Проснутся ль парикмахеры мужскиеИли встрепенутся галки на заре —У города на все ответ готов.И кто проснулся не в своей постели,И тот, кто старый, ходит еле-еле,И тот, кому для самовара дровНабрать — душа, она покоя ищет, —Всем город искомый ответ отыщет.И скажет. И шатнется: будь здоров.О город — голос! Мерзкая обитель,Ответь, — я обитатель, Божий житель,Притихни и ответь! (Пусти...)
2. ТЕНИ...Они крадутся,Как в русском сне, пяти мастей,Как все сокровища ВадуцаИ как снега России всей.Игра, игра. И в снежном жале,Пока не ждешь, плохого нет.Пора, пора. (И уезжали,Как из того — на этот свет.)О, мир преобразует меткость.(И то, что следует за ней.)Лишь сунуть пальчик в эту ветхостьИ отойти, еще стройней.Ему порукой служит слово,А ненароком на снегуЛожится тень того засова,Что я — не ты — открыть смогу.И там поэт, и тут. И этот,И я, и ты, когда пропет.Ах, снежный ком ничем не метод,Когда является Prophet.3. ЗАКЛЯТИЕ ГОРОЖАНИНА«Проклинаю вас, города и пророки!Заклинаю вас, смиренные тени:Стойте!Не спешите, пожалуйста, на пороги.Прокляните со мною пророков и город.Умыкните кого-нибудь, тени и боги!Чтобы не было диума, дыма, курений,Как клопов, тараканов, мышей, изменений.Чтобы не было их, городов и пророков,Как пороков! Как вредных зверей и растений!»81
4. БОТИНОК МАНДЕЛЬШТАМА. (1931 год)Тогда из лавок исчезлиПоследние апельсины,Как выходят из модыГалстуки и канотье.И вот, задуматься если,Годы сменяют годы,А люди глаголят людямО платье и о житье.Ни слова об апельсинах.Держу в уме, что нынче 31-й.О. МандельштамНо надо пожить сначала,И надо дожить сначалаДо праздника всех апельсинов,Не говоря про то,Что сами-то апельсиныВ Россию-то не придут.Что сами-то апельсиныРогов и ног не имут.Так что понять несложно:Импорт, возня, кредиты,Рынок и конъюнктура,Цены, валюта, спрос, —SOS!Вот и осталось людямВидеть то, как бандитыМежду собой шевелятсяМесивом тараканьимИ в потасовках не видятНи апельсинов, ни грез.
Жил апельсйн в России.Звали его беднягой.(И, верно, поэтому звалиПапу его — Эмиль.)Только о керосине!Ни слова об апельсинах!Можно: о копоти, похоти,О желтизне керосиннойИли о том, как с ботинкаЩеткой сметают пыль.Вот бы все апельсины,Все апельсинное племя,Меж собой сговорившись,Вдруг бы пришли к нему!Он бы сказал: «Ну что же,Рад я вам, апельсины.Рад, что меня навестилиИ прикатились к ногам.Как там вдали поживаютВаши друзья мандарины?И наши друзья лимоныКак поживают там?»Ни слова об апельсинах,Ни заметки в газете.Нельзя! И уж там, как видно,Знают цену вещам.Поди, не думал об этомВ этом году воспетом,Еще не таком старинном,Доверчивый Мандельштам.
НИГИЛИСТ. «С ДНЕМ РОЖДЕНЬЯ, ЛЕНОЧКА!»Я ныне славным бесом обуян.О. МандельштамАх, нынче девятнадцатое марта,Я нынче, как за партой ученик.Я поздравлять сажусь не без азарта,И не без завтра, и не без небес.Мне этот бес полезности наскучил.Он, прагма бес, совсем не главный бес.Совсем не главный бес, давай заучимИ не поручим ничего ему.(18. 3. 81)6. PETPOCPE3. ПО ЭТУ СТОРОНУАТЛАНТИЧЕСКОГО ПАКТА. (1945/49/56)Но где мой дом и где рассудок мой?А. АхматоваМногие места Москвы представляютсобой места расставаний.Расстались, расстались на вечное диво.Осталось, осталось, как полдень, «спасибо».На вечное диво, на странное диво.Осталась запинка, былинка-не-надо.Стелилась тропинка от рая на диво,На вечное диво, на странное диво;О, было свиданье в значеньи: «спасибо».(?)
Остатки, остатки. С плеча, хохоча,Стряхали остатки, остатки с плеча.Монатки, монатки. Монетки, счета.Исчислить последки. Но — нет ни черта!Вокзалы, посадки, отсидки.А в дырочках — желтые нитки.Блестят, шелестят галуныВо имя Победы Страны,Победою над Сатаны.(А стоны глухи и стройны,А стены — бухи и тайны.Где векам закрыться — навеки —Тех, чьи нумера — имяреки?)7. ОПТИМИСТЫ. (1956 — 1981 гг.)Не нашими стихами хефты полнятся.Да нашими теламиЗаполнены трамваи,Автобусы, троллейбусы и иногда такси.Я позабыл, куда идти хотел,И я остался дома.И вскоре позабыл, что я остался.И я поднялся. Вот листва в окно.И в небо. В крышу. Вдоль по переулку, слышу,Листва, листва, листва.Как в сне шизоидном, живаИ очень зелена.Жива, как огненный прокат.Но лишь нежнее во сто кратИ потому живее.85
Часть втораяОБУХ ПО ГОЛОВЕА:«За этой мексиканкой я б подалсяХоть на тот свет, вернее, наДругую сторону Земли.И был бы ладным кабальероИль как там.Что ж, хоть земля там кое-где и скуповата,Но мексиканцы сами веселы,А женщины нежны и нелукавы.И знать не знают, что есть рокИ мистика. Однако шифр небесСекут получше нас.Чу, живы ль им?И нет дурных объективаций,Поскольку их язык окаменел,И каждый знает хорошо,Как надо выражаться.Вот изыск!»Б.:«Ты рассудителен, дружок.Но знай: переступив порог,Уже в Россию не вернешьсяИ не дождешься встречи с нейВдругорядь».А.:«Знаю.Но больно хочется мне выпитьЧужой стихии естество.
Как тянет к родине, узнатьХоть по ее примеру.Да и как знать, кто больше знает меру:Я — тот, что был,Иль тот, что будет».КОПЕЙКИН Анатолий Александрович 25-летний московскийисторик, работает в художественном музее. Пишет стихи и прозу,публикуется впервые.87
Вадим ДелонНЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМОДантес, мне интересен этот час,Я комкаю рассвет, как одеяло,Я медлю над строкой на этот раз,Хотя уж мне-то медлить не пристало.Ну вот, осталось только разрешить,Кто ловче, кто удачливей стреляет,Кому еще чуть-чуть осталось жить,Кого поземка с жизнью развенчает.Сегодня, как мне кажется, четверг,А может, вторник, я, наверно, спутал,И на дворе такой блестящий снег,Что пачкать кровью как-то неуютно.Из-за любви стреляться в этот час...Зима зимой, а солнце вон к восходу.В угоду сплетням, нет, скорей в угодуТщеславью, что всего превыше в нас.Да, глупо, что мы ближе не сошлись,Вот разведут на выстрел секунданты,Вон пес завыл, хоть прямо счас крестись,Не от обиды тяжко — от таланта.Я помню острословов всех веков,Друзья мои на каторге, в Сибири.Я не был подрывателем основ,Они меня об этом не просили.Я сожалею, право, виноват...Стреляться за республику глупее,
Чем так, как мы, а что до портупеи,То в каждой одинаковый заряд.Был на приеме как-то у царя,Ну царь, как царь — к чему такая буча,Я возразил, что, дескать, вешать зря,Веревка ничему их не обучит.Мне лень заняться собственной душой,А вам души моей заняться тенью...Как пахнет ельник влагою густой!И что считать от чести отступленьем...Париж, 1981 г.89
РУССКИЕ1[
У нас в гостяхЛитература русской АмерикиАлексей ЛосевДЕСЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙНЕЛЕТНАЯ ПОГОДАГде некий храм струился в небеса,теперь там головешки, кучки калаи узкая канала полоса,где Вытегра когда-то вытекалаиз озера. Тихонечко бася,ползет буксир. Накрапывает дрема.Последняя на область колбасаповисла на шесте аэродрома.Пилот уже с утра залил глазаи дрыхнет, завернувшись в плащ-палатку.Сегодня нам не улететь. Козаобщипывает взлетную площадку.Спроси пилота, ну зачем он пьет,он ничего ответить не сумеет.Ну, дождик. Отменяется полет.Ну, дождик сеет. Ну, коза не блеет.Коза молчит и думает свое,и взглядом пожелтелым от люцерныона низводит наземь воронье,освобождая небеса от скверны,и тут же превращает птичью ратьв немытых пэтэушников команду.91
Их тянет на пожарище пожрать,пожарить девок, потравить баланду.Как много их шагает сквозь туман,бутылки под шинелками припрятав,как много среди юных россиянстрадающих поносом геростратов.Кто в этом нас посмеет укорить —что погорели, не дойдя до цели.Пилот проснулся. Хочется курить.Есть беломор. Но спички отсырели.* **1.Земную жизнь пройдя до середины,я был доставлен в длинный коридор.В нелепом платье бледные мужчинывели какой-то смутный разговор.Стучали кости. Испускались газы,и в воздухе подвешенный топоругрюмо обрубал слова и фразы:все ху да ху, да е мае, да бля —печальны были грешников рассказы.Один заметил, что за три рублясегодня ночью он кому-то вдует,но некто, грудь мохнатую скобля,ему сказал, что не рекомендует,а третий, с искривленной головой,воскликнул, чтоб окно закрыли, — дует.
В ответ ему раздался гнусный вой,развратный, негодующий, унылый,но в грязных робах тут вошел конвой,и я был унесен нечистой силой.Наморща лобик, я лежал в углу.Несло мочой, карболкой и могилой.В меня втыкали толстую иглу,меня поили горечью полынной.К холодному железному столупотом меня доской прижали длинной,и было мне дышать запрещеново мраке этой комнаты пустынной.И хриплый голос произнес: «Кино».В ответ визгливый: «Любоваться нечем».А тот: «Возьми и сердце заодно».А та: «Сейчас, сперва закончу печень».И мой фосфоресцировал скелет,обломан, обезличен, обесцвечен,Корявый остов тридцати трех лет.2.От этого, должно быть, меж ресництакая образовывалась линза,что девушка дрожала в ней, и шприц,как червячок, и рос и шевелился.Вытягивалась кверху, как свеча,и вниз катилась, горяча, больница.
(То, что коснулось левого плеча,напоминало птицу или ветку,толчок звезды, зачатие луча,укол крыла, проклюнувшего клетку,пославший самописку ЭКГи вкривь и вкось перекарябать сеткумиллиметровки.) Голос: «Эк его».Другой в ответ: «Взгляни на пот ладоней».Они звучали плохо, роково,но, вместе с тем, все глуше, отдаленней,уже и вовсе слышные едва —не разберешь, чего они долдонят.Я возлетал. Кружилась голова.Мелькали облака, неуследимы.И я впервые обретал слова,земную жизнь пройдя до середины.3.Ты что же так забрался высоко,Отец? сияет имя на табличке:«...в чьем ведении Земля, Вода и К 0 ...»И что еще? Не разберу без спички.День изо дня. Да, да. День изо дняТы крошишь нам, а мы клюем, как птички.Я знаю, что не стребуешь с меняДолгов (как я не вспомню ведь про трешку,Что занял друг), не бросишь, отгоня
Пустого гостя. Просит на дорожкуХоть посошок... Вот чёрт! Куда ни кинь...За эту бесконечную матрешку,Где в Царстве Сила, в Силе Слава...ПОСЛЕДНИЙ РОМАНСЮзу АлеьиковскомуНе слышно шума городского,Над невской башней тишина... и т. д.Над невской башней тишина.Она опять позолотела.Вот едет женщина одна.Она опять подзалетела.Всё отражает лунный лик,воспетый сонмищем поэтов, —не только часового штык,но много колющих предметов.Блеснет Адмиралтейства шприц,и местная анестезиявмиг проморозит до границто место, где была Россия.Окоченение к лицуне только в чреве недоноску,но и его недоотцу,с утра упившемуся в доску.Подходит недорождество,мертво от недостатка ёлок.95
В стране пустых небес и полокуж не родится ничего.Мелькает мертвый Летний сад.Вот едет женщина назад.Её искусаны уста.И башня невская пуста.*Мы наблюдаем при солнца восходекруговорот алкоголя в природе.Полно сидеть пучеглазой совойздесь, на плече у Паллады Афины —где-то баллады звенят и графины,что бы такое нам сделать с собой?То ли тряхнуть словарем, как мошноюто ли отделаться рифмой смешною,то ли веревочкой горе завить?Юмор, гармония, воображенье,выходки водки и пива броженье,жажда и жар и желанье запить —как это в сущности все изоморфно!Пташка пропела свое и замолкла.Пташечка! Ты не одна ли из технеисчислимых вчерашних рюмашек,как эта скатерть июньских ромашекв пятнах коньячных вчерашних утех.Знаю, когда отключимся с похмелья,нас, забулдыг, запихнут в подземелье,так утрамбуют, что будь здоров.
Там уж рассыплемся, там протрезвеем.Только созреем опять и прозреемдля бесконечных грядущих пиров.ДОКУМЕНТАЛЬНОЕАх, в старом фильме (в старой фильме)в окопе бреется солдат,вокруг другие простофилисвое беззвучное галдят,ногами шустро ковыляют,руками быстро ковыряюти храбро в объектив глядят.Там, на неведомых дорожкахследы гаубичных батарей,мечтающий о курьих ножкахна дрожках беженец еврей,там день идет таким манеромпод флагом черно-бело-серым,что с каждой серией — серей.Там русский царь в вагоне чахнет,играет в чику и в буру.Там лишь порой беззвучно ахнетшестидюймовка на юру.Там за Олыитынской котловинойСамсонов с деловитой минойрасстегивает кобуру.В том мире сереньком и тихомлежит Иван — шинель, ружье.За ним Франсуа, страдая тиком,в беззвучном катится пежо.
Еще раздастся рев ужасный,еще мы кровь увидим красной,еще насмотримся ужо.ПБГ*Далеко, в Стране Негодяеви неясных, но страстных жестов,жили-были Булгаков, Бердяев,Розанов, Гершензон и Шестов.Бородою в античных сплетнях,верещал о вещах последнихВячеслав. Голосок доносилсядо мохнатых ушей Гершензона:«Маловато дионисийства,буйства, эроса, пляски, озона.Пыль Палермо в нашем закате».(Пьяный Блок отдыхал на Кате,и, достав медальон украдкой,воздыхал Кузмин, привереда,над беспомощной русой прядкойс мускулистой груди правоведа,а Бурлюк гулял по столице,как утюг, и с брюквой в петлице.)Да, в закате над градом Петровымрыжеватая примесь Мессины,и под этим багровым покровомсобираются красные силы,и во всем недостача, нехватка:с мостовых исчезает брусчатка,* Петербург, т. е. зашифрованный герой «/7оэмы без героя» Ахматовой.98
чаю спросишь в трактире—несладко,в «Речи» что ни строка — опечатка,и вина не купить без осадка,и трамвай не ходит, двадцатка,и трава выползает из трещинсиллурийского тротуара.Но еще это сонмище женщини мужчин пило, флиртовало,а за столиком, рядом с эсеромМандельштам волхвовал надэклером.А эсер глядел деловито,как босая танцорка скакала,и витал запашок динамитанад прелестной чашкой какао.СТИХИ О РОМАНЕ1.Знаем эти толстовские штучки:с бородою, окованной льдом,из недельной московской отлучкиворотиться в нетопленный дом.«Затопите камин в кабинете.Вороному задайте пшена.Принесите мне рюмку вина.Разбудите меня на рассвете».Погляжу на морозный тумани засяду за длинный роман.Будет холодно в этом романе,будут главы кончаться «как вдруг»,99
будет кто-то сидеть на диванеи посасывать длинный чубук,будут ели стоять, угловаты,как стоят мужики на дворе,и, как мост, небольшое тиресвяжет две недалёкие датыв эпилоге (когда старикина кладбище придут у реки).Достоевский ещё молоденек,только в нем что-то есть, что-то есть.«Мало денег, — кричит, — мало денег.Выиграть тысяч бы пять или шесть.Мы заплатим долги, и в итогебудет водка, цыгане, икра.Ах, какая начнётся игра!После старец нам бухнется в ногии прочтёт в наших робких сердцахслово СТРАХ, слово КРАХ, слово ПРАХ.Грусть-тоска. Пой, Агаша. Пей, Саша.Хорошо, что под сердцем сосёт...»Только нас описанье пейзажаот такого запоя спасёт.«Красный шар догорал за лесами,и крепчал, безусловно, мороз,но овёс на окошке пророс...»Ничего, мы и сами с усами.Нас не схимник спасёт, нелюдим,лучше в зеркало мы поглядим.2.Я неизменный Карл Иваныч.Я ваших чад целую на ночь.Их географии учу.
Порой, одышлив и неряшлив,я вас бужу, в ночи закашляв,молясь и дуя на свечу.Конечно, не большая птица,но я имею, чем гордиться:я не блудил, не лгал, не крал,не убивал — помилуй Боже, —я не убийца, нет, но всё же,ах, что же ты краснеешь, Карл?Был в нашем крае некто Шиллер,он талер у меня зажилил.Была дуэль. Тюрьма. Побег.Забыв о Шиллере проклятом,verflüchte fatum — стал солдатом —сражений дым и гром побед.Там пели, там «ура» вопили,под липами там пиво пили,там клали в пряники имбирь.А здесь, как печень от цирроза,разбухли брёвна от мороза,на окнах вечная Сибирь.Гуляет ветер по подклетям.На именины вашим детямя клею домик (ни колаты не имеешь, старый комик,и сам не прочь бы в этот домик).Прошу, взгляните, Nicolas.Мы внутрь картона вставим свечкуи осторожно чиркнем спичку,и окон нежная слюдазасветится тепло и смутно,101
уютно станет и гемютно,и это важно, господа!О, я привью германский генийк стволам российских сих растений.Фольга сияет наобум.Как это славно и толково,кажись, и младший понял, Лёва,хоть увалень и тугодум.НА РОЖДЕСТВОЯ лягу, взгляд расфокусирую,звезду в окошке раздвоюи вдруг увижу местность сирую,сырую родину свою.Во власти оптика-любителяне только что раздвой — и сдвой,а сдвой Сатурна и Юпитерачреват Рождественской звездой.Вослед за этой, быстро вытекшейи высохшей, еще скорейвсходи над Волховом и Вытегройзвезда волхвов, звезда царей.Звезда взойдет над зданьем станциии радио в окне сельпопрограмму по заявкам с танцамипрервет растерянно и, помедливмалость, как замолитсяо пастухах, волхвах, царях,
о коммунистах с комсомольцами,о сброде пьяниц и нерях.Слепцы, пророки говорливые,отцы, привыкшие к кресту,как эти строки торопливые,идут по белому листу,закатом наскоро промокнуты,бредут далекой сторонойи открывают двери в комнаты,давно покинутые мной.ТРАМВАЙНа Обводном канале,где я детство отбыл,мы жестянку гоняли —называлось: футбол.Этот звук жестяноймне охоту отбилк коллективной игрепод кирпичной стеной.Блещут мутные перлытреть столетья назад.Извержения спермыв протяжённый мазут.Как мешочки медуз,по каналу ползутэти лузы любви,упустившие груз.Нитяной пуповинойв Обводный канал,нефтяною лавиной —на фабричный сигнал,
предрассветный гудокподгонял, подгонялкаждый сон, каждый взгляд,каждый чаю глоток.Позабыт, позамученс молодых юных лет.Вон в траве, замазучен,мой трамвайный билет,ни поднять, ни поддать(сырость, кости болят).Цифры: тройка, семёрка.Остальных не видать.Этот стих меня тащит,как набитый трамвай,под дождем дребезжащийнад пожухлой травой;надо мне выходитьбыло раньше строфой;ничего, не беда,посижу взапертисо счастливым билетомво взмокшей горсти.МАРШЗа оркестра вздыхающей тубою,под белесой овчинкой небес,притворившись афишною тумбою,ветерком в подворотне, не безхолодка по спине,наяву, как во сне,пройти с опаской,
где пахнет краскойи стынет студень на окне.Освещён маловаттною лампоюстарый лёв на столетнем посту,под чугунной облупленной лапоюя записку найду и прочту:«Иди туда, не знаю куда,принеси то, не знаю что,и аккуратновернись обратнолет через десять или сто».И пошёл, и сносил свою головуи, вернувшись, задрал высоко:мойка окон, мелькание голого,синька неба и синька трико,пена плещется вниз,вышел кот на карниз,ужасен голод,но вот он, голубь...Кис-кис-кис-кис, кис-кис, кис-кис!(кис-кис, кис-кис!)Возле старого здания жёлтогов чёрной шляпе и в чёрном пальтос полной кружкой чего-то тяжёлогонедоверчиво смотрит Никто.Прислонился себек водосточной трубе,и постепеннохмельная пенадрожит и тает на губе.Дал нам Бог наконец наводнение,град и трус, и струи дождя.
Отсырелое недоумениепроступило на морде вождя.Лишь гвардии георгин,Александр Александрович Басаргин,у здания клуба,где мокнет клумба,с похмелья высится один(совсем один!).Вздыхает туба.Промокла тумба.Во всех театрах карантин.
Александр Сук о ни кГОСТИНИЦАМоя память, увы, клочкообразна. В ложные минутызависти чужим способностям я пытаюсь статьпрофессионалом и, как некрасивая, но профессиональнаякокетка, пытаюсь сгладить дело, скрыть провалыи пустоты за искусной драпировкой, гладко скроеннымплатьем, зашпаклевать, заштукатурить, напопридумыватьчего-то.Пустое занятие, которое все равно выдаст: платьепрорвется, штукатурка отпадет.Вот помню, например, из детства кусочек сказкибез начала и конца и вообще без видимого смысла.Голубой рыцарь наверху горной тропы охраняет подходк зачарованному замку. Я лечу, приближаюсь крыцарю с замиранием сердца, заглядываю под шлеми вижу, что нет никакого рыцаря! Что под латамипустота! Но грозно, тем не менее, поднимается копье,и твердо держит щит согнутая стальная рука...Вот и все. Какая же сказка, усмехнется любой, сонэто, а не сказка. Но я твердо возражу, потому чтопомню, что сказка, что были начало и конец, толькоисчезли из памяти. И я морщу лоб, тщетно пытаясьих вспомнить. Но, может, и не следует помнить? Вотоно в чем штука. Может, для того и исчезли одни детали,чтобы сильнее вспыхнуть другим? И тогда думаешь:почему рыцарь голубой? Ага, наверное, потому,что вижу его ночью, отсвечивают звезды и лунана вороненых латах голубым блеском. Почему ночью?Потому что скорей всего днем и вообще нет смысланападать на рыцаря, ночью удобнее подкрасться. Теперьглавное: почему пустой? Вот этого-то я как раз немогу точно объяснить, только неясная догадка, будторыцарь так давно и напряженно стоит, что иссох, вы-107
сох, но не улетучился, а как волшебной пылью изнутрипокрыл собой латы и придал им только добавочнуюсилу. Или ни фига не придал?Вот что подтолкнуло начать сегодняшние записки.Стоял со старым приятелем-эмигрантом около входав Мэдисон Сквер Гарден. Придвинулись сумерки,зажглись огни вывесок, реклам. Осветился двойнымрядом лампочек параллелепипед навеса, на которомиздалека манящие буквы: «Мэдисон Сквер Гарден».Первая ошибка была вообще останавливаться здесь.Вторая — начинать разговор о спорте.Ошибки, согласно моему теперешнему жизненномуплану, — уточняю.— Сегодня эти «Рэйнджерс» играют, — сообщилмой приятель, раздвигая бороду в ухмылке. И заглянулискательно мне в глаза. — Там у них этот пареньФил Эспозито-Изя Меценат. Точно Изя Меценат: таже рожа, тот же хриплый одесский голос! А! Откудаон взялся: Фил Эспозито! — (выговаривая отдельно,выделяя каждую букву). — Я его люблю, он колоссальныйигрок!Я понимаю приятеля с полуслова, действительноФил Эспозито — вылитый Изя Меценат! Ха, ха, былтакой спортяга в Одессе (откуда мы оба с приятелемродом), первый разряд по баскетболу, потом сталмясником, рубал мясо на «Новом базаре», ходили кнему отовариваться. Фамилия не Меценат, а Финкельштейн.Но как-то на именинах у приятеля (учились водной школе) уставился на приезжего из Москвы интеллигентикаи спросил: «А этот меценат кто?Ха, ха, есть какое-то своеобразное волшебство вустановлении неожиданных связей прошлого с настоящим,в перекличке человеческих ипостасей через «как»,не правда ли? Мы все этим занимаемся, каждый всилу своих способностей, — так оживляется и расцвечиваетсякрасками «под жизнь» мир теней, в которыймы спустились, не правда ли?108
Но при этом ох как важно не поддаваться иллюзии,не принимать желаемого за действительное, незабывать, где находишься и как в соответствии с этимдолжен себя вести. А мой приятель как раз не умеетэтого. Он говорит про Эспозито: «Я его люблю, онколоссальный игрок», — брр, фальшь, может быть, итрогательная, но раздражающая. Мой приятель никогдав своей жизни не был на хоккейной игре, виделнесколько раз по телевизору, там, в Одессе, а здесь итого меньше. Увы, он, как и я, лишен своей истиннойстрасти, футбола, и потому пытается трансформировать,перенести страсть, хочет сказать: «Я долженбыл бы его полюбить, он несомненно колоссальныйигрок». Эмиграция — жестокая шутка, ах, если быприятель знал, как выдают его маленькие местоиме^ния «эти Тэйнджерс 4 », «этот Эспозито», то есть еслибы мог произносить их сознательно-подчеркнуто иронично!Но нет, ему очень хочется всерьез и полностьюощутить себя своим в этом мире, знаете, в которомэти американцы ходят вокруг, улыбаются, жуютжвачку, подходят к кассе, покупают билеты на игру...И когда ощутит себя своим, тогда исчезнет местоимение...только оно никогда не исчезнет.— Слушай, может пойдем на игру? — предложилприятель, заглядывая мне в глаза. — Вот так просто,возьмем билеты и пойдем? А что, подумаешь!Мол, вот так, спонтанно. Как беззаботные людипоступают. Как свободные люди. Как американцы.Подумаешь, билеты дорогие!У меня как раз были в кармане джинсов деньги:десятка и четыре по одному. Ну, и мелочь, и два сабвейныхжетона. Пойти в Мэдисон Сквер Гарден наигру: Бог мой! Мгновенно воображение все точно рисует:поднимаемся по широким ступенькам входавместе с жидкой еще толпой болельщиков, проходимогромным остекленным залом, из которого эскалаторыувозят под землю к Пэн-Стейшен, с потолков сви-109
сают флаги и вымпелы, впереди ожидают первые служителив красной форме, а вот еще один вход, в самоеуже помещение, где кассы и макеты спортивного залас разметкой, где плакаты и объявления ближайшихсобытий, концертов рок-н-ролла, боксерских поединков,баскетбольных и хоккейных матчей, легкоатлетическихвстреч... и здесь толпится больше народа, ипродавец программ громко зазывает, и, касаясь ладонямихолодных металлических поручней, ведущих ккассе, выстаиваешь очередь, вполоборота перебрасываешьсясловами с приятелем, а сам с замираниемсердца думаешь, не кончились бы семидолларовые билеты,но не дрейфь, в этом году «Рэйнджерс» играютпосредственно, и потому билеты не распродаются заранее,и вот, с цветными кусочками картона в руке,вверх по лестнице, вверх, вверх (как когда-то — сколькораз в жизни — сначала в цирке, потом во ДворцеСпорта), пока, наконец, достигнув указанного уровня,через узкий провал-вход по крутой лестнице поперекрядов — вниз, в поиске мест, но захватывающий душумомент перехода из коридорного будничного преддверьяв тонущую в голубоватой сигаретной дымкеогромную чашу зала, шумящую, бурлящую, кричащуюна всевозможные голоса чашу, дно которой волшебносверкает голубым льдом, и тут врываются налед хоккеисты в белом, красном, желтом, синем... э-э,да что говорить.— У меня нет денег, — сухо сказал я.Вот она, разница между мной и моим приятелем.Для него факт, что чувства спортивного болельщикамогут возродиться в самом чужом из чужих миров,звучит надеждой, и он уже готов таким образом попытатьсяотворить хотя бы форточку, если не окошко,в мир новых страстей и жизни. Для меня же этотфакт сигналит опасность, фальшивую и карикатурнуючастность, выпадающую из некоей гармонии,общего замысла судьбы. А я больше всего люблю110
гармонию, порядок, замысел, а вы разве нет? То естьмы сами-то любим бунтовать и нарушать порядок,это дело другое. Но вокруг нас должен существоватьпорядок, который мы подразумеваем для себя. Иронияже эмигрантской жизни, пожалуй, как раз в том исостоит, что нам больше не до бунта, нам бы сладитьс бунтом вокруг нас. То есть с тем, что порядок мира,который мы себе воображали, когда начинали бунт,чем дальше, тем больше ускользает, и буйствуем немы более, не мы атакуем, увы, но окружающая настак называемая действительность.Но это опять-таки иллюзия. Я не занимаюсь гегельянствоми не проповедую покорность субъектаобъективным силам реальности. Если бы проповедовалпокорность, то сказал бы: «Давай, пошли наигру», — и попытался бы слиться с массой. Но достаточноувидеть себя со стороны в спортивном зале...смогу ли хоть на мгновенье истинно отрешитьсяот словечка «эти», избавиться от отстраненностисравнений, забыть, насколько толпа вокруг меня иностраннасвоей психологией и насколько (и как долго) яприучаю себя стать болельщиком команды, о которойдо преклонного возраста и слыхом не слыхивал?И если уговорю себя, что забыл, и начну орать,размахивать руками в забытьи боления, то не увижули опять-таки, насколько получается вздернуто, наигранно,нелепо и самообман, как если бы начать подражатьс нашим славянским акцентом негритянскомупроизношению? Конечно, если подражать акценту,если орать и размахивать руками, актерствуя, тогдадело другое. Но спортивное боление не актерство, о,нет. Тут если начнешь наигрывать, то только чтобыобмануть самого себя, а не изобразить маску с самогосебя, уж я знаю.А потому что знаю, гляжу на приятеля с раздражением:вот от кого исходит опасность! Вот кто втягиваетв хаос слепых и глупых страстей! И потому111
нахожу повод, чтобы расстаться, и через несколькоминут бредем в разные стороны. Но за эти несколькоминут он успел-таки выложить ту рутинную бодягу,которую тысячу раз от него слышал. Он художник иникак не может примириться с тем, почему если некаждый десятый, то хотя бы каждый сотый или тысячныйамериканский миллионер не купит у него картину.А так как и миллионный миллионер не покупает,то мой друг поносит Америку целиком и в частностях.Весьма возможно, что он прав, только слово «ненавижу»имеет ту же детскую ценность в его устах, чтои «люблю». Все люди делятся на две категории: те,кто покупает его картины или, по крайней мере, хвалит,и те, кто не покупает и не обращает внимг|ния.И мгновенно, в соответствии с ситуацией, меняютсяместа. Такой подход понятен, художник не обязанбыть философом, но я-то тут при чем? То есть такойподход, такая недостойная степень разума тащит-вытаскивает,как фокусник из ящика, связанные друг захвостик друга следствия, которые — поддайся имтолько, ого-го! Вот, например, пунктик моего приятеля:открывать великую тайну, какое бы мы занималиположение, чем бы владели, если бы родились вАмерике. Мы прогуливаемся по улицам, приглянулсяему, скажем, дом (ему, обратите внимание, не мне), итут же начинается: «Вот этот дом мне нравится! Родисьмы здесь, и у нас такие дома были бы... А тебе?Иногда они понимают, что делают! Какой-то человек,видимо, со вкусом... А может быть, европеец... Я тебескажу, скорей всего европеец! Хочешь пари, вот пойдеми спросим? Вот видишь оконный проем и лепку накарнизе? Американцу такое просто не пришло бы вголову, просто вкуса не хватило бы!.. Вкуса, ха, ха!Будто здесь вообще есть такое понятие: вкус!.. Тц-тц,наверху все застеклено, я бы там устроил мастерскую!А что ты думаешь? Никогда не знаешь. Слушай, тыбы непрочь был бы жить в таком доме? И район хо-112
роший, я этот район люблю. Подумаешь, никогда незнаешь, как жизнь повернется. Вдруг случится так,что продам несколько картин, а потом пойдет. В одинмомент все может измениться! Я уже не говорю отом, что, если бы мы родились здесь, тогда проблемвообще не было бы! Да ты понимаешь, что тогда унас были бы еще и не такие дома!»Вот как говорит-проповедует мой приятель... илиговорит-заговаривает... И борода его раздвигается вширокой теплой улыбке, ни дать ни взять Дед Морозволшебный мешок раскрывает. О опасный человек!Добродушный и опасный дурак на мою голову! Знаете,к чему он сам непрерывно готов и вас уговариваетприготовиться? При случае повторить уже прожитуюжизнь, вот что! Худшей иллюзии и не придумать.Худшего отхода от предназначенной гармонии и невообразить!Хотя, конечно, какая тут гармония, возразите вы,если никто не признает и картин не покупает... Правда...То есть нет, неправда, именно потому и не покупают,быть может, что ты не нашел свой пунктик,свою формулу, свою уникальность, как вы думаете, а?(Я только так, наметку, я не то, чтобы формулу-определениена приятелеву живопись наложить: пфи, знаюсуемудрость и несостоятельность подобного дела.Формулы рассыпаются в прах, картины остаются...А все-таки?)Но как бы то ни было, оставим моего приятеляна время в покое: ведь я сказал, что избавился от него,повернул лицом к Восточной стороне, перешел 7-юавеню. Ладно, перешел-то перешел, а навстречу внезапновход в отель Стратон. То есть не то чтобы внезапно...Ха, глупость, конечно: он здесь и раньшестоял, и я прекрасно мимо него проходил десяткираз... Но то ли история (ошибка) остановки возлеМэдисон Сквер Гардена, то ли разговор с приятелемвыбили меня из колеи... И вот навстречу — вход вИЗ
отель Стратон, освещенный всеми огнями мира! Этовам не мерзкое тараканье прибежище, которых здесьтак много, которые все мы так хорошо знаем, ибо сними связана эмигрантская судьба — как и судьба дешевыхпроституток, кстати. Это знаете что? Это,это... феллиниевский теплоход-мечта из «Амаркорда»для меня!Помните, в фильме жители городишка выходятночью в море в лодках, чтобы увидеть проходящуюмимо мечту-символ некоей иной, воображаемой большойкрасивой жизни — огромный океанский лайнер?У каждого из нас есть в душе образ такого лайнера,и он в образе Некоего Отеля, или Гостиницы, еслихотите, все равно. Это — с детства и еще больше изюности: в Одессе была гостиница «Лондонская» набульваре, а в гостинице ресторан, тот самый недосягаемо-аристократическийресторан, в котором на столикахлежали накрахмаленные скатерти и прислуживалипожилые молчаливо-важные официанты. Но«Лондонская» была только прелюдия, и позже, когдая с матерью приехал в Москву... Впрочем, подробностив сторону, достаточно сказать: образ Гостиницы,вот и все.И потому, когда иду по Нью-Йорку, особенно незамечаю «хилтоны» и «плазы» и прочее. Так, царапнутуголок глаза, не более того. И любопытно: дотого не вижу их, что несколько погодя удручаюсь неприятнымпровалом памяти. Меня спросят, знаю литакое-то и такое-то место, ну, рядом с отелем «Американа»,неужели не знаешь отель «Американа», внем недавно останавливался президент? А я как будтотрогаю языком пустоту между зубами, где положенобыть нижнему левому резцу — ан, нет его.Вот какова крепость защитной реакции человека.Впрочем, образ с зубами неточен, он должен бытьперевернут, как перевернута наша жизнь. Идет речь нео натуральных зубах, которые давным-давно выпали114
(с этого началось), а уже о вставных, появлявшихсякак бы постепенно. В первые месяцы после приезда вАмерику я жил на 29-й улице и ходил довольно частов какое-то агентство по трудоустройству при фордовскомфонде, если не ошибаюсь, на 46-ю улицу. И приэтом миновал комплекс ООН, и взглядывал на негопустыми глазами, и не узнавал. (Когда-то между темрассматривал с восхищением нарядные, как из будущеговека, фотографии: вот это мир, вот это жизнь!)Но кто-то обратил внимание, что это и есть тот самыйООН, и что же? Ничуть это меня не тронуло, ненашел ничего общего с фотографиями, вернее, с чувствами,которые эти фотографии вызывали.Еще совсем беззубый, открываешь рот — навстречурозовые, блестящие, как муляж в кабинете протезника,голые десны. Еще совсем мертвый душой.А потом постепенно начинаешь насаждать протезы:тут витрина магазина понравилась, там зданиепроизвело впечатление. Но это уже, конечно, нечтопринципиально иное, процесс от ума, насильственныйпроцесс: не жевать оставшуюся жизнь одними деснами!Приложишь усилие и видишь: действительно, вотон, комплекс ООН. Существует, приходится признать.И на той же реке стоит, которая на фотографиях.Ведь на реке, не правда ли? Река это вода, да? Жидкаясубстанция, которая течет и в которой отражаютсяпредметы? Вот ООН и отражается, совсем как нафотографиях. Ладно, успокойся и признай, что отглянцованныецветные открытки всегда нарядней и кукольнейжизни. Что касается Ист Ривер, то у тебя простонервное расстройство, если ты с таким отвращениеми брезгливостью объявляешь ее мутной и грязноймассой воды: подумаешь, Москва-река чище была,как же. Опять же насчет ООН: архитектурно, то естьпо форме, здесь все совершенно так, как и на фотографиях.Никто не виноват, если ты вносишь в объективностьпейзажа субъективность ивоих чувств. То есть115
никто не виноват, кроме тебя. Ну ладно, чего тамговорить, признайся, что, когда проходил здесь первыйраз, поразился собранию знаменитых «бэг-леди»,которые облюбовали чисто подметенный участок Первойавеню в качестве временной резиденции. Тебяможно понять: с первого разу, с налету упершисьвзглядом в некую леди, сварганившую платье-кокон изплотного слоя газет, и сине-опухшие, все в треснутойкоже ноги, и всклокоченные, годами немытые волосыи при этом ярчайше наманикюренные ногти, — можноудивиться, даже поразиться. Можно даже испугаться,как пугаешься, увидев в центре Манхэттена дома-развалки,но признайся, что это ты пугаешься и, можетбыть, больше никто. По крайней мере, если разлагающиеся,гниющие нищенки живут на скамейках илитротуарах рядом с ООН, кто сказал, что их следуетвключать в архитектурный ансамбль?И так далее и так далее. Вот пример искусственногооживления души посредством ума. Душа жемертва вовсе не потому, что страдание по американскойнищенке ее убило. Я вспоминаю, как когда-тоДостоевский описал промышленный Лондон, вот онужаснулся и испугался! И такую апокалипсическуюкартину изобразил, какой для Петербурга не находил.А думаете, Лондон действительно страшней выглядел,чем Петербург? Нет, конечно, просто другое было, ивыставлялось, бросалось в глаза кожными, наглымина поверхности язвами. Положительное же нутро-утробажизни каждой страны — замкнутая тайна, известнаятолько своим. Не по американской нищенке моядуша умирает, а по самой себе, заброшенной в чужоймир.Теперь в отношении той самой Гостиницы каксимвола иной жизни. Тут я должен быть осторожен:семь раз отмерю, прежде чем вставлю протез упомянутоголевого резца... или не вставлю. Одно делоумственным способом научить себя любоваться витри-116
нами на Пятой Авеню, отдавать им эстетическое должное:прищуриваться от наслажденья на неожиданнуювиньеточную вычурность чудовищно дорогого «Бегфордаи Гудмэна», понимать, насколько точно высчитанаего мещанская экстравагантность; смешиваться столпой в «Блумингдейле», манекенной напоказ толпой,не с иголочки, но с картинки; разглядывать ее,подмигивая самому себе, угадывая секретарочек отбогатых еврейских дочек; бродить вечером по ГринвичВилледж в окружении молодых людей, что в одиночку,парочками или компаниями тоже бродят, сидят витальянских кафе, восточных ресторанчиках, и не раздражатьсястереотипности их лиц, движений, а напротив,стараться примириться и оценить... Короче говоря,одно дело любоваться этим иным миром с холоднымсторонним любопытством и через обостреннуюработу ума — вот это я принимаю, это достойно,это наша судьба, — одно дело скалиться в искусственнойулыбке, ничуть не забывая, насколько она искусственнаблагодаря вставным зубам (о, тут еще и простордля щекотки иронии), другое дело — забыться взаходе глупого смеха и вдруг выплюнуть на потехучестному люду всю свою пластмассовую красоту.Тогда уж лучше вообще...Но, погодите, зачем я вообще заговорил о некоемсимволе «инности», мол, возрождать его или не возрождать,если я, как и остальные братья-эмигранты,этой «инности» достиг в буквальном смысле, прямопосреди нее нахожусь? Признаюсь: не потому ли ещеозираюсь порой, сжав желваки и сощурив глаза, ощущаясебя, как загнанное животное, что осознаю конецпути? Что закончился тот нескончаемый для когдатошнегоромантического героя (гейневского и прочих)путь, по которому вела звезда... вел пучок сена, венокволшебных слов: «там хорошо, где нас нет», и образпревратился в реальность, мечта в действительность,сказка в быль («мы рождены, чтоб сказку сделать117
былью»)? Да — конечно. То есть, да — конечно, кончено.Ну и что? Так и должно было быть, в том-тои любопытность судьбы: предназначено было постепенноизбавляться от романтических иллюзий, сдиратьс себя, как с луковицы, один слой розовых иллюзийза другим, пока не останешься в чем мать-трезвость-земля-природародила. В конце концов, я ведьне здесь, в Нью-Йорке, оказался в первый раз в реальностимечтаемого мира. Помните, упоминал гостиницу«Лондонскую» в Одессе как тренировку, намек,подготовку ко встрече с символической Гостиницей?Ну и что ж, встретился с ней в городе-столице нашейРодины Москве.Когда-то восемнадцатилетним мальчиком (то естьмаменькиным сынком, если угодно, но настаиваю наслове мальчиком, позже разъясню, почему), я приехалс матерью в Москву — в награду за успешно пройденныйпервый семестр в институте, — и мы остановились,то есть нам по самым высоким каналам блатаустроили номер, в гостинице «Москва». Вот это былода! Столь полного очарования благами цивилизации яникогда уже больше не испытывал. Большой гостиничныйномер, хрустящее белье, окна на улицу Горького,горячая вода из крана, душ, ванна, уборная (ещемного лет после этого я продолжал жить в коммунальнойквартире, в которой не только ванны илидуша не было и не только горячей воды, но частенькопросто — воды, а что касается уборной... утреннихочередей в уборную, именно по утрам вода перестаетидти, сливной бачок пуст... брр, лучше не вспоминать).Роскошная нега моих московских каникул могласравниться только и именно с возлежанием в горячейароматно-пенной ванне, с полным ощущением расслабленности,ощущением, что окутывающая, обволакивающаятебя среда полностью о тебе позаботится.Только в раннем детстве такое ощущение, когда в118
постельке, а над тобой склоняются любящие лица.(Или еще раньше — в утробе матери?)Однако в Москве среда позаботилась обо мне нетолько чисто физически, материально, и потому яиспытал отнюдь не только негу и расслабленность.Номер с ванной можно было и в «Лондонской» снять,к примеру. В Москве же я очутился посреди той «инности»,о которой в наших местах рассказывали сзавистью и благоговением, к которой все стремилисьи о которой я только до сих пор догадывался и мечтал.Тут сходились: и самый размер вещей, то есть,что все вещи, предметы были больше: дома выше,улицы шире, проспекты длинней, даже троллейбусы ите сдвоенные гармошкой, и разнообразие вещей, событий,людей, захватывающая дух огромность разнообразиятех самых благ цивилизации, которые я упоминалраньше и которые включают в себя в равнойстепени обед в ресторане «Арагви» и концерт ВсесоюзногоГосударственного оркестра в зале Чайковского.Разве мог я представить себе до того, как звучитнастоящий оркестр? Разве мог вообразить, что«Лондонская» — просто унылая столовка по сравнениюс «Арагви»? А какова была толпа в холле гостиницы,именно холеная толпа, — избранники цивилизациипохаживали в импортных костюмах, с кожанымипортфелями в руках, женщины в вечерних туалетахи шубах, мной еще не виданных!..Таково чисто юношеское, полное жизнью и надеждойна будущее восприятие мира вокруг себя. Я, кажется,упоминал гармонию? Тут-то самая гармония иесть, недаром я поставил в один ряд зал Чайковскогои ресторан «Арагви». А если объясняться при помощиобраза, то жизнь предстает перед тобой в образе красивойженщины, в которой все исполнено изящного ичувственного обаяния, начиная от щиколотки и кончаялицом. Гордо посаженная голова венчает собой то,что подводит к ней, поддерживает ее. Несколько лет119
спустя я прочитал Михаила Булгакова и ощутил в егобрызжущем, прорывающемся изнутри оптимизме, вего готовности, несмотря ни на* какие внешние, умственные,буквально «ужасные» события сюжета,наклонить голову, прищуриться, потянуть носом,ну-ка, где это балычком пахнет, потереть руки в предвкушениипервоклассной закуски — и все в безукоризненномблагородстве движений, изяществе жестов —ту самую гармонию, которую жизненные испытанияне смогли разбить.Что касается меня, то, увы, подобная гармонияоказалась не для меня. Последующие годы после «душистойванны» я только отдалялся от нее, и когда летчерез двадцать вошел в вестибюль «Москвы», то увиделтам людей, которые меня не привлекали, с которымиу меня не было в лучшем случае ничего общего:партийные нувориши, чиновники министерств, бабынуворишей и чиновников, махинаторы, подпольныеделяги — весь этот враждебный мне мир тупости,ограниченности, скуки, агрессивного невежества, чванства,беспринципности, трусости и жестокости. Однибыли над законом, другие — под, но большого значенияэто не имело, при случае они поменялись бы местами,только и всего. То есть поменялись бы где-тотам, где выдают социальные определения и позиции,но в вестибюле «Москвы» все осталось бы неизменно.А как же Михаил Булгаков? То есть как та прекраснаяженщина, в образе которой, я уверен, представлялсяему мир? Мне-то самому достаточно былобы образа самого Булгакова (поглядите на фотографию),он настолько достоен и изящен, как только иможет быть самый «дар культуры», конечный и утонченныйрезультат, эманирующий слова, равно как исобственную физическую ипостась (филармоническийконцерт и ресторан). Но для Булгакова другой Булгаковвряд ли нашелся бы, и потому возвращаюсь кженщине... Попытаюсь проникнуть за словесный сте-120
реотип, которым зафиксировал на бумаге мелькнувшеехоть неясно, а все равно сугубо конкретно, впечатление...То есть в каком окружении увидел женщину, вкаком движении? Была ли знакомая какая-нибудь?Или хотя бы особа, столь же достоверная, как и средавокруг нее, — например, продавщица в магазине, водительтроллейбуса, медсестра, секретарша в учреждении?Нет, нет, что-то другое было, и внезапно,скользя глазом по лодыжке вверх, отдавая должноеточеной форме колена, линии всей ноги, выставившейся,как в повороте танца, из распахнувшегося разрезаэлегантного платья, замечая покоренным взглядомруки, что кокетливо перекрещивают на груди дивнуюмеховую накидку, и тут же сталкиваясь взглядом сподведенными глазами на пол-лица, чуть слишкомнарочито подведенными и нарочито же глядящими натебя исподлобья, эдак, ведьмой, я осознаю, что смотрюна (имею в виду) картинку из журнала мод! Ха,ха, ведь я оживляю картинку, является мне искуснаякрасавица-модельерша, предстает мимолетными видениями,поворачиваясь то так, то эдак, принимая однуза другой поражающие в самое сердце позы.Что за наваждение, что за подноготная!Так вот какой представляется мне муза Булгакова,или я это по зловредности? Нет, нет, уверяю вас,модельерши всегда для меня мимолетные виденья,желаемые и недостижимые, еще и потому, что вверхуна помосте, а я безнадежно внизу. И думать нечегозавладеть сердцем такой красавицы, которой самоеамплуа, то есть самая красота ее — в изменении и перемене,как ветер мая! Хлоп, вздул ветерок невесомуюматерию и вынес на помост создание в белой пеневечернего туалета, хлоп, и оказалась она в бикини(или шубе, или шароварах, или сарафане, право, неважно в чем). Тут вся соль в отстраненности, внеличности— мечта, фантазия — какое же может быть121
зловредство, напротив, я бы все отдал, чтобы такоесоздание снизошло до меня!Ну вот и вру! Конечно, зависть, по крайней мере,если не зловредство. Ведь не в кокетливой фразе «я бывсе отдал, чтобы такое создание снизошло до меня»загвоздка. Когда-то приятель из этой самой области,не то администратор-устроитель показов мод, не топросто хлыщ с пухлой записной книжкой, в которойтелефоны девочек, за обед в ресторане ВТО обещалпривести девочку-модельершу, и привел, а пока ониприближались к столику, глазам не верилось и духзахватывало: ну и класс! Но стоило ей приземлитьсяна стул, стоило произнести некое суждение в адреспублики, обводя глазами зал и поправляя прическу,как дымом развеялись-разлетелись мечты. В продолжениивсего обеда я проникался фактом, что подобногоманерного, ручного, механического создания ещене встречал! То есть буквально ничего живого! В полнойбезнадеге привез я ее все-таки домой, и тут оназавершила вечер: легла на диван и, задрав ноги, заявиладеловито: «Ну, вынимай свой полумертвый и берименя!»Вот вам и снизошло мимолетное видение.Я впал в прострацию. Даже не хватило юморасказать что-нибудь вроде: «Во-первых, у меня не полумертвый...»,и подмигнуть шутливо, разбить ситуацию.Меня подкосило четкое понимание закономерностипроисходящего. Каждый, как бабочка, летит наогонь своей специальности, и моя модельерша в своейотрешенной специальности, где за несколько минутона должна сыграть столько элегантно-банальныхролей, отрешенных от всего, что называется жизнью,просто обязана быть в жизни тем, чем была. А я долженбыл принять ее во всей муке противоречия иливообще никак не принимать. Я должен был ощутить,что здесь, в такой, может быть, несправедливой крайностипредстает передо мной дилемма женской ипо-122
стаси вообще и что моя модельерша легла, как легла,и сказала то, что сказала, потому что в свою очередьзнала, что мне не подобрать ключик, не открыть в ней(и вообще в женщине) живое существо.Но это уже другая проблема и о ней отдельныйразговор, а сейчас я хочу сказать, что не могу одобритьв качестве музы, в качестве эквивалента такназываемой мировой гармонии (существует ли она?)образ прекрасной женщины. По той причине, что никогдане мог соединить благополучно и уравновешенноресторан «Арагви» и зал Чайковского, балычок и Бетховена.Не верю я эдаким благополучно уравновешеннымгурманам, которые умеют наслаждаться такназываемыми всеми красками жизни — женщинами,вином и Рембрандтом, скажем. Не верю я господам,коих достаточно навидался как среди литературныхперсонажей, так и в жизни: эдакий продукт культуры,обычно состоятельный, или скорей просто богатый,привыкший к «душистой ванне» как к чему-то самособой разумеющемуся,... добрый человек, то есть,как правило, либерал, гуманист, отзывчивая душа,умеющий помочь людям в беде и при этом истинныйспециалист в своей области и еще при этом истинныйпониматель Рембрандта. Эдакий фейхтвангеровскийОппенгеймер (из литературы) или наш Лев Копелев(из жизни). Все это фигня, таких людей нет, а еслиесть — тем хуже, потому что они — самая пошлость.Не верю я людям, которые доживают до седых волос,сохраняя «юность души», и никакой усушки, никакойтрещины (как на пятке, в глубину, в боль).Никакой трещины? Никакого ущерба?Никакой боли? Никакого ущерба?Но если плоть мира вокруг, самая его материяпринимается за конечность и самоцель, то — как калейдоскопперед завороженным глазом ребенка, какмодельерши, сменяющиеся на помосте, — и можноневинно радоваться переливающейся цветами радуги123
материи до конца дней. Я это знаю, потому что самбыл ребенком. И это знаю, потому что если бы непереступил бы какое-то «чувство», не щелкнуло бы,сорвалось что-то в середке, то сохранил бы навечнообраз Гостиницы, а с ней и способность наслаждатьсяплотью жизни. И, может быть, благополучней былобы... но щелкнуло.Помните, описывая приезд в Москву, назвал себявосемнадцатилетним — с разрядкой — мальчиком?Южная провинциальная жизнь особенно лелеет подобныеслова, называют друг друга игриво мальчиками идевочками полысевшие брюхатые кавалеры и их временныетяжеловесные подруги (я приведу своего мальчика,не возражаете? Сегодня мы наколем девочек,будьте уверены). Южная игривая жизнь тяготеет кмолодости, ценит молодость, не желает расставатьсяс молодостью. Одновременно она устремляется вкульт еды, культ одежды, культ эроса. Но я со школьныхлет чувствовал себя чужаком в Одессе, и чем дальше,тем больше. Как и советская власть, так Одесса —обе брали с разных сторон за горло, и чем дальше,тем больше. Вы возразите, в огороде бузина, а в Киеведядька, советчина — это стынь пустого гастронома,это серокожая, одрябшая рожа неопределенного возраста,пустыми глазами глядящая мимо вас, мимочеловека, — что общего с одесской теплотой, хитрованствомволи от пуза и для пуза? И тем не менее,есть общее, и оно в том, что и та и другая мудро хотятоставить тебя инфантильным недоразвитком, любойценой удержать от «щелкнуло». Потому что знают— если щелкнет, тогда начнет зудить: схватитьсябы за топор, раскроить бы плоти-материи самуюбашку (а не пятку, видите? видите, до чего доходит?),добраться бы до мозжечка-центра, откуда суть боли.И тогда — прощай гармоничный, добрый человек,который если не так, то эдак, а все равно человек общества,свой человек... Боль? Какая боль?! У-у, как124
меня раздражало знаменитое одесское хохмачество,которым всякому одесситу положено гордиться и котороеесть игра упругим мячиком об непробиваемыйасфальт хитрого тупологовья: чем упруже и вышеотскок, тем веселей и доказательней, что плоть ипошлость непробиваемы. Возможность человеческойоткровенности, диалога тем самым отрицались накорню. Существовало одно словечко, которое употреблялосьв Одессе с особенным ударением, в неговкладывался особенный смысл. Слово это — наивность.«Он (или она) наивный (или наивная), разве выне знали?» — произносит кто-нибудь с усмешкой, ивсем все ясно. Дурачок, дурочка. Вообще слабоумный.Ничего не стоит (и следует) обвести вокруг пальца, апотом с презрением тыкать пальцем и хохмить поповоду. Вот лежал перед вами большой приморскийгород Одесса, приветливо залитый солнцем, вы выходилина улицу, и мимо вас шествовали жители города,пожилые и молодые, спешащие куда-то и прогуливающиеся,и через некоторое время вы замечали, чтовсе они несколько на одно лицо, то есть лица сохраняютпечать одинакового выражения — и если выдоброжелательный турист, давно уже слышавший чудесапро этот особенный город, в котором говорят наязыке полуграмотных и образных шуток, вы с предвкушениемотносили это выражение лиц на счет затаеннойготовности разразиться остротой по любомуповоду, и, с одной стороны, вы были правы, но с другой,знайте, что сия мясистая одинаковая сонностьфизиономий отражала одинаковость борьбы с одинаковымдля всех врагом: собственной наивностью.Происходила грандиозная духовная борьба и также соревнование:ну-ка, кто сумеет поглубже свою наивностьзагнать? Так, чтобы никто не узнал, где могилкаее, то ли в Черном море утопили, то ли в «Чумке» закопали?125
Только Одесса может сравниться с советской властьюв деле борьбы с наивностью, читай, вопрошением,идеей, духовностью. И я дитя обеих. Но неверное,взбунтовавшееся (на свою голову) дитя. Толькотеплая, нерусская, телесная Одесса и холодная русскаясоветская Москва могут сравниться в своем бессознательномумении — каждая на свой лад — обработатькультуру и искусство таким образом, чтобы кастрироватьдуховное и оставить эстетическое — и тогданавсегда удовлетворенность балычком и модельершей;и тогда-то свой. Но не всегда срабатывало —срывалось, сощелкивало.Культура же действительно камень преткновения.Ни книги, ни театры, ни концерты не призваны ч привнестив жизнь гармонию материи и духа, но напротив,иссушить душу противоречиями между материейи духом, уверяю вас. Вот послушайте: был я когда-топримерным одесским мальчиком, хотя уже и тут впадалв крайность: до того придавал значение одежде,что превратился в «стилягу» — кто помнит словцо. Настиляг благополучная жлобская, утесовская Одесса всоединении с советской властью высылала «легкуюкавалерию», и меня ловили на улице, резали ножницамиштаны-дудочки, стригли под машинку. Однако чемдальше в жизнь, то есть в постижение культуры, темменьше я оказывался способным держаться на уровнемоды, ощущать моду. Меня это удивляло и даже угнетало:как же так, ведь, с одной стороны, я научилсякуда лучше понимать живопись, изобразительные искусства,а с другой — потерял милое, безошибочноеощущение, что вот эта вещичка — последний крик,а та — нет. Я потерял милое юношеское ощущение,придававшее столько внутренней уверенности и снобизма,когда смешиваешься с толпой, идешь в толпе,вместе с толпой, и взгляд ловит, выделяет единомышленников,высевает крупицы золота из гор песка иглины. Теперь же я вообще терял ощущение и связь с126
толпой, не было более личных, интимных претензийподобного рода, и совсем другого рода счеты становилисьсо жлобней.Теряешь юность, и вот изготовленная человеком,дразнящая плоть-драпировка жизни перестает очаровывать,перестает останавливать глаз, и тогда королипрорезаются нагишом, и право же, ничего веселогои оптимистичного. Теряешь Гостиницу-Теплоход, нуи что ж, значит, такова цена приближения к иной гармонии,на которую я намекал в начале заметок. Даздравствует же и тем не менее иная гармония! Которая,быть может, и не гармония, а что-то совсеминое!..Так говорю я, сидя в нью-йоркской комнате, именуемой«студия-аппартмент», в верхотурьем бедномрайоне Манхэттена, именуемом Вашингтон-Хайтс.Моя комната отвратительна неровными, после многослойныходна на другую побелок-покрасок, стенами ипотолком: угнетающие признаки нищеты и опущенности,тупости и безразличия. Стены как бы вспухли,углы расплылись. В такой комнате хорошо кончатьс собой, но не жить. Когда-то, после того, как удалосьудрать из Одессы, я жил в подобной же комнате,только еще в коммунальной квартире, в Москве, навошЪчем (от бензина) Садовом кольце. За год, помню,потерял тогда десять килограммов веса.Но если в Москве особого выбора никто мне непредоставлял, то здесь можно было бы и лучше устроиться.Но я не устраиваюсь, потому что мог бы устроитьсяеще в Одессе, если с такой точки зрения подходить.Но я нарезал из Одессы в Москву, а из Москвыв Нью-Йорк... и как-то получалось, что по дорогематериальная оболочка все более разрежалась, прохужалась.То есть, конечно, несравнимая разница вуровне жизни Америки и России дает себя знать, а всеравно, никогда еще не чувствовал себя таким нищим,как здесь. А раз так, следовательно, так и должно127
быть. Следовательно, что-то есть в этом, понимаете?Странно сказать, я нахожу своеобразное удовольствиев материальном обнищании, своеобразное успокоение:все вначале приобретенные связи с сильными мирасего я растерял, и теперь предпочитаю общаться сэмигрантской (той самой жлобской, молдаванской,которую там презирал) братией или — в неменьшейстепени — с испанской беднотой. Последний раз я былна светском «парти», если не ошибаюсь, года полтораназад: усадьба в районе миллионеров на Лонг-Айленде,теннисный корт, бассейн, зеленая лужайка, на которойустановлены крикетные воротца. Я предпочелкрикет, так как не играю в теннис и не догадался прихватитьплавки. Крикет оказался хорош тем, чтр, покрайней мере, можно было не поддерживать беседу(о светские американские беседы!) и хоть чем-то заинтересоваться— впрочем, вяленько, вяленько, тожемне детская игра в крикет. Но когда дело дошло дообеда, за которым прислуживал «батлер», я окончательноувял, напало на меня отупение. Ко мне обращалисьс вопросами, спрашивали мое мнение, я жевякал междометиями, переспрашивал, опаздывал,обрывал слова. Ко всему, единственный человек, скоторым я-таки попытался завести беседу, был батлер,тот самый батлер, на которого вежливо не обращалосьвнимания! Короче говоря, я вел себя совершеннонелепо, чуть ли не валясь со стула, впадая всомнамбулическое состояние. Но мне и вправду былонеловко! Чрезмерность материальной роскоши вокругугнетала меня, не хотел я никакого батлера, ни чертане чувствовал я утонченного вкуса еды и питья. Еслибы в юности, когда папочка и мамочка... когда Одесса-мама...но теперь слишком поздно было.Между тем, на мое состояние действовала нетолько роскошь, а и люди вокруг. Их улыбающиеся,приветливые лица. Замечательно и совершенно типичноулыбающиеся приветливые лица нью-йоркского128
интеллектуально-делового сословья, среди которыхмогут оказаться врачи, адвокаты, владельцы туристическихагентств, архитекторы, рестораторы, издателиизвестных (или неизвестных) журналов, университетскиепрофессора, просто люди умалчиваемых (за отсутствиемтаковых?) профессий — короче говоря,сборная солянка, да не совсем: есть одно условие —лица должны быть приветливы и готовы к мгновеннойдоброжелательности, эдакая искристость в них —а в чем тут дело? Да, конечно, во всеобщей, объединяющей,нерушимой вере в доброту, доброе в человеке,и потому желании сочувствовать чужим невзгодам,и не просто желании, но и действиях, подтверждающихэто сочувствие, да, да, это вам не русскаябезвольная, бесхарактерная говорильня, и вот они голосуют,поддерживают проекты помощи бедным,жертвуют на либеральных политических кандидатов(особенно если деньги с налога нужно списать), создаютфонды, проводят кампании... Единственное, чегоне делают, это не раздают свое богатство бедным илидаже просто не жертвуют из рук в руки, так сказать...Но ведь двадцатый век на дворе, подобная экстравагантностьнелепа и чрезмерна!Видите, что отделяет меня от этих американцев?Не только, что они богатые, а я бедный. Они добрые,а я недобрый. Зачем всунул насчет налогов? Ведьэто намек на цинизм, а я отлично знаю, что и намекана цинизм нет в них. Манипулируют деньгами, какзаведено манипулировать, как само собой разумеется— здоровые, добрые люди. Ха, ха, если бы в этих людяхбыл цинизм, если бы умели рефлектировать, тогда,быть может, и не тянуло бы на сон в их компании!(Опять злость, проявление недоброты.) Зачемупомянул насчет раздачи денег? Разве я, если бы разбогател,раздал бы деньги другим? Держи карманши..., а впрочем, кто знает. Но вся штука, что такие,как я, не богатеют. (Если бы мне привалили бы вне-129
запно деньги, то, убежден, пропал бы, и потому судьбаохраняет.) Но если бы были деньги и не роздал бы,то хватило бы ума и совести заткнуться... и опять жене в том дело, а в улыбках и в детской ясности лиц.Ко мне обращаются с приветливыми речами, доброжелательностьюво взоре, а я косноязычно мямлю вответ и отвожу глаза: нехорошо ведь, а? Странно инепонятно. Снобизм во мне взыгрывает? Чувство превосходства?Но мои усталость, сонливость отнюдь непризнаки снобизма, а куда скорей отупения и утерижизненных сил... Да, да, к чему обманывать себя:когда брожу по замусоренным авеню «ай» или «би»,захожу в пуэрториканскую бакалейную лавочку, покупаюбутылку пива «Миллер», наблюдаю маловыразительныефизиономии испанской бедноты (почему-то кним льну больше всего: как южный человек к южному?эмигрант к эмигранту?), бреду дальше, выхожуна Первую авеню, рассеянно перебираю поношенныешмутки на прилавке магазина, именуемого «Разнообразие»,мной владеет особенное чувство расслабленнойуспокоенности, даже умиленности. Что в своюочередь означает, что мной овладевает опущенность.Ну да, вполне можно сказать, что я чувствую себясвоим среди людей, которые отнюдь не ровня мне вделе сражений и полировки умов и прочей жизненнойборьбы. Ну и что же, во-первых, мы из земли восстали,в землю с течением времени должны опускаться —процесс естественный (и потому старики «опускаются»),а во-вторых, жизнь не только из одного соревнованиясостоит с посторонними тебе лицами, но еще вовглядывании в эти лица, и тут-то загвоздка: лица беднотыв чем угодно обвинишь, только не в детской сиятельности,напротив, и дети тут выглядят озабоченнейи взрослей.Ха, ха, так что, видите, я еще не совсем ослаб иуспокоился: ненависть к определенным вещам не оставитменя до последнего дыхания. К бодрым улыбкам,130
к оптимистической детскости, к доброте — посколькудавно растерял их и поскольку знаю, что за ними стоит,и потому ненавижу. Потому что их здешние улыбкии доброта сулят то же, что было в моей жизни и отчего бежал. Добраться до конца земли, остаться в одиночестве,умереть душой — и только для того, чтобыобнаружить, что попал в американскую Одессу?! Давы что! Если хотите, то — да, чувство превосходства,какое у старика, изжившего порывы чувств на знание,перед несмышленной, невежественной ребятней.Первичные и непосредственные чувства покинули меня,пали иллюзорные одежды, и таков оказался мойпуть к постижению сути культуры и становлениючеловеком. Культура когда-то предала меня, и родилсяя в государстве, в котором все — бессловесные дитяти,и вот я прибываю в город-эпицентр мировойкультуры, и что же: нахожу его дитять, послушно,как автоматы, лопочущих не словами уже, но целымистраницами брошюр по психоанализу и статей из «Нью-Йорк Тайме». И хотите, чтобы смирился и в унисонзаулыбался с ними? Как бы не так. Отринуть когда-топо собственной воле гостиницу «Москва», чтобы пастьглупой жертвой гостиницы «Плаза»? Что?Теперь вы поймете, почему не могу допуститьтого, что слу... то есть того, что могло бы случиться:поворачиваясь спиной к «Мэдисон Сквер Гардену»,перехожу улицу, и вдруг в глаза мне — «Стратон»,сверкающий всеми огнями мира. Отель, Гостиница,Океанский Лайнер, Мечта... Литые цельные стекла,медные поручни, крутящаяся дверь, портье в ливреях,хрустальные люстры, движение толпы... какой толпы!От чего-то такого, от слабости человеческой, от одиночества,от неспособности исполнить долг, я вдругвсе это вижу, и ведь что там говорить, как «Лондонская»по сравнению с «Москвой» была потешнымпровинциальным закутком, так и «Москва» по сравнениюс нью-йоркским «Стратоном» или другой го-131
станицей... О очарование богатства, одежды богатства!Видите, что может случиться? И что хорошего,если случится: представьте, срывается что-то во мне,забываются умственные построения, взревает, взываетжелание хоть на мгновенье—туда! и я толкаю дверь ивбегаю... То есть, конечно, не вбегаю (литературныйштамп), а куда скорей стараюсь обыденно, не привлекаявнимания портье, войти и смешаться с толпой,ну а дальше что? А дальше я уже подыгрываю, угождаювсем вокруг, стараюсь скрыть чувства и выглядетьскромно, незаметно, достойно, прячу рвущийсянаружу отчаянный крик: «Я тоже так хочу! Я тожемогу быть одним из вас! Я был бы одним из вас, еслибы не судьба!»И замечательно, что здесь как бы двойная ирония.Во-первых, стоило отрекаться от «Москвы»,чтобы сдаться «Стратону». Во-вторых, откуда я знаю,что если бы вырос здесь, то не отверг бы точно также «Стратон», как «Москву»? Скорее всего так бы ислучилось ведь! Понимаете? Несомненно так и былобы, потому что нашлось бы более важное и интересноев жизни, чем заняться, и потому что если т а м вкакой-то момент усох и потерял улыбку, то и здесьтоже самое бы было бы.То есть, спрашиваю еще раз, понимаете, наскольконедопустимо поддаться описанной выше слабости?Какое же выйдет несравнимое ни с чем чудовищное,жалкое и гротескное духовное падение? Я немедленновпаду в детство — другого выхода нет — затопочу ногами,завизжу, брызжа слюной, требуя немыслимойигрушки: «Хочу отель «Стратон»! Хочу, чтобы отель«Стратон» принадлежал мне! Хочу, чтобы я принадлежалотелю «Стратон»! Хочу, чтобы мы друг другупринадлежали!» (Как непрерывно кричит мой приятель-неудачник.)132
Вот еще, как бы не так. Вот еще: ну-ка, попытайся.Если бы я там, в Советском Союзе, завопил, топосле серии унижений, компромиссов и предательств,получил бы обратно «Москву», почему же нет, какслуга, как раб, а все-таки получил бы. Но здесь — тонкакишка. Какой-нибудь скучняга-болван запротестует:иди деньги заработай и получишь все! Не знаешь, чтоли, что в Америке только деньги нужны, и тогда почет,красный ковер и прочие поцелуи в задницу? Увыскучняге, который никогда и не был ребенком и потомуне знает ощущения цельности мира. Он думает,что мир складывается арифметически из зарплаты,костюма-тройки, коктейля в баре, девочек и так далее.И вот небрежно кидаешь зелененькие официанту,и вот уже — как все здесь — американец.Чёрта с два. Если бы я позволил себе «увидеть'Стратой'» и после этого превратился бы в одного изописанных раньше веселых добряков, то это был быкомпромисс, это была бы печальная уступка пошлости,но все-таки хоть рациональное действие. Какая-тологическая компенсация хоть.Но я ни в кого не превращусь, и никто в меня(даже за мои несуществующие миллиарды) не превратится.Водой (слезами) можно сухарь размочить,но не камень. Мы слишком разны. Поздно.Что-то утеряно в совпадении времен. То есть еслимне и было суждено вбежать с замиранием сердца в«Стратон», то это должно было случиться в другоймомент времени, и другие люди оказались бы вокруг...и они ожидали, но я не появился... (я же входил тогдав гостиницу «Москва»).Ну и что, если стану удачливым страховым агентомили компьютерщиком? Если даже дельцом? Ну,сниму самый лучший номер, наполню ванну шампанским,суну туда красотку, а дальше что? Не деньгиили другие арифметические слагаемые создают единствомира, принадлежность людей друг другу, но зна-133
ние, что можешь эти слагаемые, этих людей от себяотвергнуть. То есть можешь позволить себеотвергнуть. То есть можешь отвергнуть людей, связьс людьми, и это вызовет резонанс, оборванность связибудет ощущена взаимно, ты испытаешь боль, но ипричинишь боль. А что случится, если я вытащу красоткуиз ванны и велю убираться? Лишь бы заплатилей, вот и все. Что случится, если попытаюсь испытать,принадлежит ли мне «Стратон», кардинальными банальным способом, устрою пьяный дебош? Наменя посмотрят непонимающими глазами и отвернутся,только и дел. В крайнем случае, пожмут плечами,скажут: «Сумасшедший русский!» — есть здесь такойстереотип, который осуществляет максимум человеческоймежду нами связи. Наденут на человека-невидимкукафтан стереотипа, аккуратненько заключат встеклянный шар елочной игрушки, станут разглядывать,поворачивая то так, то эдак, передавая из рук вруки: «А вот еще один сувенир к Рождеству, русскийсумасшедший». Какое уж тут отвержение.Отвергнуть можно только тот мир, внутри которогонаходишься. Там, в советской России, посколькувырос там, я был настолько в своем мире, что могцеликом его отвергнуть. То есть дело, конечно, субъективное,но мы все были уверены, что если бубнимистерически что-то в своих квартирах, то кремлевскиедеятели нас все равно слышат. А как же иначе?Разумеется, слышат, иначе откуда такая враждебность?Психушки, лагеря, КГБ?Но здесь, в этом мире, единственное, что я могуотвергнуть, это елочный шарик, до которого ужалсямой мир. Самого себя, иначе говоря. Вот мысль, ха,ха, — горькая и ненужная — но в какой момент приходящая?— именно в момент слабости перед «Стратоном».А не вбежал бы я в «Стратон»... то есть нестал бы рассуждать о том, что случилось бы, если бывбежал в «Стратон», то и не пришел бы на ум елоч-134
ный шарик... Видите, как я был прав? А то получится,что жалуюсь, что отверг прежний мир... нет, нет, всебыло правильно! Разумеется, следовало отвергнуть,чтобы стать человеком, и даже более того, следовалоуехать, именно так, уехать, именно так. (И именно вдоказательство последнего пункта пишу свои записки.)Но не следует вбегать в «Стратон», потому что есливбежал, то — поглядите на меня: стою, согнувшись,обхватив руками живот, будто желудочную резь хочууспокоить, будто стараюсь не дать глупым страстямнаружу вырваться. В этот момент я весь во властитех самых первичных чувств, которые, казалось бы,давно покинули меня и которым нет ни малейшегошанса быть удовлетворенными. И если бы только чувства— то конец, пропал бы. Но все-таки происходитво мне борьба чувств с мыслью, то есть сейчас я мысльненавижу, сую ей с презрением: что ты, иссушенная,искусственная кикимора, стоишь по сравнению с миромкрасок и плоти, что ты знаешь об истинных, первичныхвещах! Зачем поддался тебе на удочку, погубилжизнь, пошел не по тому пути?И хотя изничтожаю ее таким образом, постепеннонапряжение моего бунта начинает стихать. Мысль жебудто стоит в стороне и молчит, спокойно ожидаяконца недостойной, с ее точки зрения, истерики. Знает,что рано или поздно я приду в себя, то есть приду кней в прежнее подчинение. Вот интересно: чувстваизнутри приходят, мысль — снаружи? Человек, одержимыйстрастями, как дикобраз, как окружившийсебя непрерывным огнем орудий линкор, а мысль торпеднымкатером, камикадзе пытается пробиться сквозь,посланная откуда-то снаружи, извне? Черта с два камикадзе,впрочем, мысль неразрушима. Атакует потустороннимилучами, и если хоть один проникнет...тогда успокоит, утихомирит, как лоботомия, и чембольше лобешник, тем шире цель, ха... Но я неправ,несправедлив. Это еще моя враждебность (нисходя-135
щая). В конце концов все, что я сейчас пишу, бытьможет, приходит мне в голову, пока стою в холле«Стратона», и самый факт, что способен придуматьинтересную мысль, вселяет чувство уверенности и независимости,и вот я снова превращаюсь из ребенкаво взрослые. И оглядываюсь спокойно, и потухаетинтерес к материальной шелухе, мол, вы мне очарованиеплоти под нос, а я в ответ — свои мыслительныеспособности (то есть уже забыл, что только чтооборонялся, воевал с мыслью), вы мне «Стратон», ая вам самого себя, каков есть. И оглянувшись напоследокравнодушно, покойно и независимо выхожучерез вертящуюся дверь на улицу, ха, ха, долой ложныесоблазны, засунув руки в карманы, умиротворение.На улице между тем совсем стемнело. «Рэйнджерс»начали игру, со ступеней входа в «МэдисонСквер Гарден» исчезли перепродавцы билетов. Я неторопясь иду к своему сабвею. О нью-йоркский сабвей,я еще воспою тебя, и вот мгновенное колебание,которое испытываешь всякий раз, прежде чем вступишьна твою первую ступеньку, ведущую вниз. Ха,ха, помню, когда только приехал в Америку, шел по5-й авеню, где-то в районе 20-х улиц, и вдруг увиделпосреди улицы трубу, торчащую прямо из асфальта,и из трубы густой пар. Был разгар лета, жара, невыносимаявлажность воздуха, сирены полицейских машин,грохот, клацанье огромных грузовиков, и посредиэтого надземного кипящего котла жизни видимыйи несомненный знак, что истинные, подземные,адские котлы совсем недалеко, прямо под ногами.Откуда было знать, что таким образом, допотопнонаивными по-американски прямолинейным, вентилируетсясабвей? Но знак был послан и принят, и когдая в первый раз попал в расписанный, разукрашенныйогромными замысловатой формы буквами вагон подземки(знаменитые «графитти»), когда затрясло, закачалона неровной колее, загрохотало так, будто сунули136
тебя в середину камнемолотилки, когда увидел вокругсебя белые, черные, желтые лица, смоляные волосы,заплетенные косичками или пробритые вдольчерепа параллельными полосами, бусы, продетыечерез уши или через нос, голые по пояс тела и экстравагантныешляпы на головах, когда вдохнул вонь,исходящую от гниющего на угловом сидении «бэгмена»(пропорция: на каждые десять вагонов один«бэгмен»), когда заскользил неуклюже по полу, густоперестеленному грязными обрывками газет, когдауслышал мгновенный вскрик, мельтешенье, суету,мелькнула в воздухе смуглая рука, блеснуло что-то, ивот топот убегающих ног, тело на грязном полу, кровь,полицейский выхватывает револьвер, тогда понял коечтонасчет трубы и пара и не слишком удивился.Ступаешь на первую ступеньку, сбрасывая толикубалласта душевной беспечности (если осталась душевнаябеспечность), потому что тут все чуть резче, буквальней,настоящей, если угодно — как в джунглях.О великие джунгли Нью-Йорка, вас я тоже обязуюсьвоспеть. Я вспоминаю свое первое ощущение от Нью-Йорка: совершенно неожиданное, ударившее совсем сдругой стороны. Я предощущал Америку символоммодерности — небоскребы, темп жизни, автомобильныедороги, последние течения абстрактного искусства(то есть, иными словами, я нес в себе некоепонятие, некий образ, определяемый словом «модерность»),и вдруг оказалось, что это было опять науровне фотографии, той самой миллионно размноженнойфотографии захватывающего дух силуэта небоскребовМанхэттена на фоне зеленоватого (от плохойпечати) неба. Попав же в середку, вовнутрь, я совершеннорастерялся: Нью-Йорк оказался для меня неуклюжейстаромодностью. Пропутешествовав черезВену, Рим, Венецию, Флоренцию, я оперировал принципомфотографии, и он полностью оправдывался.Все эти необыкновенные места отнюдь не входили в137
противоречие с картинными изображениями самихсебя, разве только оказывались еще более прекрасными.Австрийские ли цветными аппликациями деревушкииз окна поезда, мощные ли полотна Рима —все равно, единый, внутренний метод познания не изменялсяи не подпадал под сомнение. Метод же этотбыл — эстетическое познание в целом. В целом, яподчеркиваю, поскольку целое подразумевает гармоническоесочетание частностей, а это так важно в эстетике!Здания, улицы, деревья, площади, дворцы, соборы,фонтаны — в непрерывном сочетании друг с другом,одни переходящие в другие, одни признающиесоседство других по цвету ли, по форме ли, по историческомуконтрасту или единству, и ты ощущаещь сублаготворением, что тебя окружают Красота и История,нашедшие общий язык, выразившиеся друг черездруга. Все, что я видел вокруг себя, по сути дела совершенносовпадало с описаниями путеводителей:«По левую сторону от дворца Веккио расположензнаменитый фонтан Нептуна, сооруженный БартоломеоАмманатти... По правую сторону дворца Веккио...»,«От площади святого Марка мы сворачиваемвправо, по виа Кавой, где под номером 69 находитсяуникальное сооружение 16-го века, именуемое Клойстер...»Даже неприглядные бедные районы не нарушалиобщего порядка, потому что, во-первых, какбы знали свое место, отнюдь не вкрапливались хаотическимиязвами по соседству с виа Венето, а во-вторых,несли на себе пусть бледный, но все равно гордыйи благородный отпечаток похожести... на что?— то в той детали, то в этой... то той деталью, тоэтой: пропорцией оконного проема, керамической облицовкой,формой балкона, планировкой квартиры...выявляли тайное, в крови заключенное знание некоейобщей формулы красоты, золотого сечения — золотогоключика, которыми все открывается. Золотоесечение, это ведь не более, как соотношение, не прав-138
да ли? И, следовательно, согласование, соподчинение?Таков золотой ключик к визуальному ритму мира,цивилизации, культуры. И здесь есть одно ограничение,маленькое, ма-люсенькое, поначалу не замечаемое...а то и вовсе, быть может, способное сыгратьневидимку, если бы не попасть мне в Нью-Йорк. Такоеограничение, то есть такой вопрос: ну а как человекв подобном визуальном окружении? На фоне него?Ну что же, так и есть, соответственно — в окружении,на фоне, в соотношении, в соподчинении, гармонии.Итальянцы в своей Италии, австрийцы — в Австрии.Совершенно так же, как и здания, деревья, мостовые,аллеи, фонтаны, дворцы, башни, заборы, парки, баллюстрады,соборы — все эти неподвижные вещи,как мы раньше определили, человек воспринимаетсяна их фоне визуально тоже хоть немножко, а как вещь.Человек, который создал эти вещи — по каким-тосвоим сложным соображениям. Именно благодарятому, что создал их и уже неотрывен от них. Он движетсяна фоне неподвижных вещей: элегантной ли сиголочки обтянутой фигурой вдоль виа Венето, озабоченнойли каждодневностью работящей по улицамОстии, склоняется ли мешкообразно в коленопреклоненииперед распятием в прохладном сумрачном соборе,выступает ли жуликовато вдруг из темноты подъездана одной из улочек, прилегающих к «Термини», иначинает с ленивым жаром уговаривать вас купитьчасы «Омега», которые только что «нашел», мчитсяли, юркий и юный, на мотороллере в кожанке на голоетело... Помню, мой приятель-художник, которогоупоминал вначале, все ходил по Риму и поносил современногоитальянца за то, что тот, оказалось, «не тянет»в соседстве с величием прошлого и с человекомпрошлого. Это случалось в конкретном столкновениис человеческой узостью, тупостью, необразованностью,равнодушием ко всему, кроме маячащих перед139
носом нескольких лир. Но, пораженный вдруг красотойженщины или мелькнувшим неповторимым попластике жестом, который дан во всем мире толькоитальянскому мужчине, внезапно воспевал восторженнохвалу латинянам. Для художника правомерен такойподход к человеку, художник — орудие визуальноговосприятия мира... Что касается нас, грешных мирасего, имеем ли мы право? И даже не по жесту и непо чертам лица, а по проявлению характера, в которомугадываются симпатичные нам национальныечерты, которые мы все равно неизбежно свяжем, постараемсясгармонировать с тем, что было созданоили создается человеком, с теми самыми национальнымивещами?Я бы никогда и не стал бы задумываться над чемнибудьподобным, если бы не попал в Нью-Йорк.В Нью-Йорке меня поразили две вещи. Первая, то,что я уже назвал его «старомодностью», вторая же— то, что я впервые с момента, когда покинул Москву,увидел людей такими же, какими видел их в Москве.Вот это второе страшно поддержало меня, и тогдая задним числом сообразил с презрением, насколькотолпа европейских городов, которыми пронесла менясудьба, излишне декоративна, незначительна, туристична,а главное однообразна — нет, может быть,даже не лицами, но выражением лиц.Нью-Йорк был уродлив, душен, страшен своимиразвалками, неуютен кирпичными домами, как бы нарочновыставившими наружу кости ржавых пожарныхлестниц, грязные маленькие окна. Но люди, что шлимне навстречу, люди, которым необходимо быложить в этом городе, люди, которые и не думали убежатьот судьбы, скрыться в каком-нибудь венецианскомдворце, альпийской деревушке, — они несли насебе печать напряжения переднего края борьбы сжизнью, друг с другом, с самими собой. Эта печатьузнается мгновенно и безошибочно, она признак лю-140
дей, населяющих Вавилон. Она признак людей, населяющихСтолицу. Она включает в себя, как ни странно(а чуть позже я докажу, что и совсем не странно),антиэстетизм: небрежную, помятую одежду, или нелепощегольскую одежду, или вообще такую одежду,на которую не обращено внимание. За одеждой следуютпредметы быта, обихода, мебель, убранствоквартир, автомобили, дома, улицы, районы, города,метрополисы: главный ключик ко всему, что нет никакогоключика к гармонии, напротив же и только —к противоречию. Человек Столицы несет на своемлице печать озабоченности, как совладать с жизнью,как бороться с жизнью. Такова кардинальная разницаего с человеком нестолицы, человеком Провинции.Ибо на человеке Столицы безошибочная печать признаниянепостижимости жизни. В то время как человекПровинции жизнь постиг. Человек Столицы незнаег, как жить. Человек Провинции знает.Такова разница между противоречием и гармонией.Я выбираю противоречие. Я выбираю столицу.Я говорил о двух столицах. Сначала Москва, потомНью-Йорк. Москва и Нью-Йорк, остальное несчитается. Ха, ха, когда я покидал Россию — по разнообразнымпричинам, — одна из причин была: ткнутьпальцем в ее нарастающую безобразность, которая,конечно же, имеет тайное соотношение с безобразностью,с той без красоты жизнью, которая есть нетолько следствие советской нищеты и фальшивойморали, но и давнишней слабоватостью России в делахчисто эстетических. То есть, конечно, когда-то,мол, была великая иконопись, так ведь еще до того,как Россия стала идеологическим государством... Было,что-то такое и в начале этого века, и Россия изсебя, искорежившись, исторгла, выкинула на Запад,выплюнула нежеланный плод: чистая эстетика не можетзанять должное место в стране, дух которой естьи пребудет идеология. А между тем, именно как вер-141
ный духу своей страны сын, я растерянно вопрошал(поскольку видел, как все идет не в ту сторону, в которуюдолжно было бы идти): «А как же быть с пророчествомвеликого Духовидца: «Красота спасетмир»? Не сумели последовать пророчеству, не выдержалииспытания, не сумели вознестись, чтобы художественномуотдать художественное! И вот результат!»...И манили-звали заманчиво фотографии-открытки:он, мир, достойный тебя, мир, в котором ты найдешьпонимание и внимание, мир, в котором расцветешьна почве гармонии-красоты!..(Ну да, какой же сын России [с еврейским ли, срусским ли штампом в паспорте] мог позволить себеэмигрировать по конкретно личным, мелким cooèpaжениям— а не по сформулированным и разработаннымвысокоидейным?) uИ вдруг — Нью-Йорк. И вдруг такая безобразность,которая даст форы хрущобам. Вдруг уродство,основанное на особой, агрессивной уже безвкусицелюдей, населяющих этот город, эту страну, акроме того, на агрессивности их индивидуализма, ивот кто-то красит свой дом в зеленый цвет, а сосед —в оранжевый, а еще сосед — в голубой. Казалось бы,свобода индивида, ан, по соображении, не так. Я сказал,что Нью-Йорк поразил меня своей старомодностью,но что я имел в виду под этим? Сумму какихвпечатлений «с первого взгляда» (то есть самых чтони есть примитивно-чувственных впечатлений, которыетем и драгоценны)? Неуклюжие, будто из прошлоговека, пожарные машины и пожарники в старинныхшлемах (я вырос, часами глазея на пожарнуюкоманду, что располагалась напротив окон моего дома,и только из раннего детства помню такие шлемы);тяжелая, невиданная еще американская мебель; огромныетакси-кэбы, «чеккеры», изготовленные по, наверное,тридцатилетней давности форме... Но это все142
детали, поверхность, синоним — и отнюдь не старинныхвещей или мод. (Кто же назовет старомоднымдворец 17-го века, уставленный 17-го же века мебелью?Фрески на потолке, расписанные Рафаэлем? Мраморныйпол, выложенный тончайшими мастерами-неаполитанцами?).Синоним старомодного —- это безвкусица,на ослином хвосте инерции, или традиции,или «нам не до того», притащивщийся из прошлого.Во Франции или Италии полным-полно старинныхзданий, дворцов, замков, но пожарные машины тамновейшей обтекаемой конструкции. Модерные, чёртпобери. Модерное модерному, чёрт побери. Провинции— гармонию, чёрт побери. Одна моя знакомаяговорит, например, что основной принцип, по которомуамериканцы изготовляют предметы быта, этобезэстетическое удобство, утилитарность. Вот, говорит,какая бегемотья мебель, а как удобно сидеть илилежать на ней. Или, говорит, джинсы и кеды — символамериканской одежды. С одной стороны, она права,моя знакомая, но как ни развалится небрежно американецв своем кресле, в каких ни проношенных кедах,истертых джинсах ни явится изумленному взоручопорного русского эмигранта на спектакле в Метрополитэн-опера,меня ему не обмануть. Как впрочем,от себя не убежать: не исхитриться ускользнуть отвнутреннего беспокойства, напряжения, которые всегонят, гонят, а куда? — в погоне за Счастьем и Деньгами,Деньгами и Счастьем, в погоне за двумя фетишами,один из которых стар (Деньги), другой нов(дитя века психоанализа, заменившее Долг, Вину, Стыди прочие пуританские безрадостные фетиши, чистой,голубой, несбыточной воды Счастье). С первого мгновеньяв Нью-Йорке все эти новейшие сооружения всотни этажей из металла, железобетона и стекла, именуемыенебоскребами, «вещи», которые человек создаетпо своему образу и подобию, верней по образу иподобию своей сути, — я сразу поглядел на них бель-143
мом умершей души и распознал их хаотическую, мятущуюся,неумелую, сиречь «старомодную» суть —то, что скрывалось за металлом и стеклом, неуютные,кое-как приспособленные клетушки-офисы, кабинетыдля боссов, хоть и просторные, но все равно неуютные,стандартно оборудованные. Здания толпились,теснили друг друга, не замечая друг друга, ну совсемкак люди, их построившие. Помню, в одном из первыхписем друзьям, оставшимся в Москве, я написал:«В Америке все муляжно-мертво, что неподвижно,зато все, что движется, — живо!» Я не совсем верновыразил себя, но понимаю, что хотел сказать. Следовалобы сказать: «В Америке нет неподвижных вещей!»,— имея в виду, что все то прекрасное, созданноечеловеком из дерева, камня, бетона, металла,стекла, неподвижно, успокоено и именно этимкачеством приносит благородное успокоение мятущемусясвоему создателю. «Подумать только, в этой варварскойстране нет еще неподвижных вещей!» — долженбыл воскликнуть я с изумлением, ужасом, отчаянием.А затем я должен был немедленно бежать. Ха,ха, а ведь бежать было некуда. Бежать нужно былоиз страны, в которой самые фундаментальные зданиявсе равно явно служили всего лишь утилитарно и мимоходом,как коридоры, как лабиринтовы проходы,как (в лучшем случае) дома-трейлеры, фургоны первыхпереселенцев. И так же утилитарно мимоходомбыло все остальное: мебель, джинсы, кеды, но — нечтобы скрасить, окомфортабить жизнь, а сделать ееминимально выносимой, пока гонишься за... пока впогоне, ну да.Но ведь и я в погоне? Но об этом дальше.144
Людмила ШтернВАСИЛЬКОВОЕ ПОЛЕКаждый вечер Юлий Нисон, русский эмигрант,в прошлом кинокритик, а ныне швейцар в отеле «Плаза»,проводил за стойкой бара в ожидании чуда. Отостального мира его отделяли две банки «Бадвайзера»и блюдце с орехами и прочей дребеденью. Мысль онеизбежности чуда пришла Юлию в голову после ряданеобъяснимых явлений, произошедших с ним в последнеевремя. Заключались они в том, что, когда Юлийприближался к телефону в чужом доме или проходилмимо уличных автоматов, они начинали звонить. Вто же время его собственный телефон не звонил никогда,что, впрочем, не относилось к разряду чудес, аобъяснялось отсутствием у Юлия каких бы то ни былознакомых.Юлий поселился в Бостоне недавно. Вся предыдущаяего жизнь протекала в Старопименовском переулке,в обшарпанной московской квартире, которую,то ли по недомыслию властей, то ли по счастливойпревратности судьбы, забыли превратить в коммуналку.У Юлия собирались толпы не преуспевшей, но интеллектуальнойэлиты, и среди них он обрел белокуруюжену, знакомую с произведениями Кьеркегора;друга-художника, рисовавшего, как Мондриан; однулюбовницу, погруженную в оккультизм, и другую —йога. В кругу этих людей, много пивших, сплетничавшихи поругивавших власти, безболезненно пролетелипервые сорок лет его жизни.И вдруг все пошло прахом. Первым уехал в Израильхудожник Васька Крутов. Но, разочарованныйв не имеющей к нему отношения исторической родинестоль же внезапно, сколь и ослепленный ею, перебрал-145
ся в Париж, рассорился с соотечественниками, покуролесилв Германии, не приобрел там ни славы, ни богатстваи, по слухам, пришвартовался в Нью-Йорке.Затем сгинула любовница-оккультистка и осела в качествебухгалтера в Калифорнии. Один за другим исчезалидрузья и, разбрасываемые некой центробежнойсилой, оказывались в немыслимо далеких уголках свободногомира. А Юлий Нисон сидел в своем переулке,взвешивал «за» и «против», пока его мать не умерлаот инфаркта, а жена Виктория (кажется, именно такзвали белокурую Лорелею) с пятилетней дочерью Нинкойне отдали свою судьбу в руки инженера Канторовича,который и увез их в город Милуоки. Наконец,Москва обезлюдела, и только тогда Юлий решился...И вот он в Бостоне, в пурпурной ливрее, в отеле«Плаза». Строго говоря, Бостон нельзя назвать Аравийскойпустыней: русских эмигрантов там, что зеркальныхкарпов, выпущенных в благодатный пруд.Но Юлий не считал возможным искать знакомства ссоотечественниками. В его сознании русские бостонцыделились на две категории: вельможных и вульгарных.Первых он, естественно, презирал, вторых — стыдился.Он причислял себя к поверженной в прах элите. Вкачестве кинокритика он больше не существовал, вкачестве швейцара представляться не хотел, а фигурироватьв качестве человека ему просто не приходило вголову... Впрочем, в штате Висконсин жила его бывшаясемья, и неделю назад Юлий получил от Нинки,уже американской школьницы, первое письмо. Начиналосьоно так: «Hi, daddy! Guess, what mommy gaveme for my birthday?» Юлий выбросил письмо в мусорныйбак, и весь день у него было ощущение, будтоего, как рыбу, разделывает тупой и неумелый нож.Вечером он перевернул бак вверх дном, нашел письмо,уже заляпанное какой-то дрянью, проплакал, сочиняяответ, в котором таились изощренные оскорблениябывшей супруге, понес письмо на почту, по дороге146
разорвал в клочья, и истратил недельный заработокна неслыханной красоты пушистую лягушку, которуюи послал дочке Нине вместо ответа.Поселился Юлий Нисон в конуре с изысканнымназванием «Studio-apartment». Она представляла собойпространство, замкнутое шестью стенами. В двухлишних углах размещались элементы ванной комнатыи кухни.Эта шестиугольная форма дала Юлию основаниеименовать свое жилище Гексаэдр. И был он там неодин. Бог послал ему дворнягу Ифигению. Однаждыбездомная Ифигения, или, в просторечьи, Фига, болталасьоколо «плазы», когда Юлий выходил последежурства. Лил дождь. Зонта у него, разумеется, небыло, автомобиля — тоже.—- Если я сейчас не возьму такси, то буду презиратьсебя до конца жизни, — пробормотал Юлий иостановил машину. Откуда-то сбоку глядели на негокруглые темно-желтые глаза.— Ты, небось, в такси никогда не каталась, —сказал собаке Юлий, — давай-ка прокачу. Какая теберазница, в какой части Бостона не иметь дома?Юлий свистнул, и собака, вздымая брызги, ринуласьв машину и прижалась мокрым боком к его ноге...Двор'нягина судьба решилась: в Гексаэдр они вошливместе.Если кто-нибудь в этом мире боготворил ЮлияНисона, если кто-нибудь видел в нем ВЫСШЕЕ существо— так это Фига, лохматая сосиска, взъерошенныйкомок нежности и любви. Она достигла апогеясвоего счастья и утвердилась на вершине, иначе говоря,на матрасе Юлия Нисона, блаженствуя и ликуя, вто время, как ее божество, лежа рядом, с переполненнойпепельницей на животе, часами глядело в потолок,выискивая в рисунке трещин каббалистические знаки.«Какого сюрприза ты ждешь от жизни? Любви,понимания, привязанности?.. Все перепуталось в твоей147
голове на старости лет. Помнишь, на днях показывалишоу «Family Feud». Участники игры должны былиотвечать на миллион идиотских вопросов, и, если ихответы совпадали с загорающимися на табло, ониполучали очки, приближающие их к выигрышу 10тысяч долларов. — Какие чувства ОШИБОЧНО принимаютза любовь? — спросил рефери. Команды наперебойвыкрикивали ответы. Правильными ответами,то есть ошибочными чувствами, оказались: 1) дружба,2) сексуальное влечение, 3) понимание, 4) привязанность.Всю жизнь, значит, ты блуждал в невежестве ипотемках, принимая за любовь какую-то ерунду. Сдругой стороны, за что или вопреки чему тебя должнылюбить? Тебя — перепуганного, косноязычного эмигранта.Итак, забудь. А что ты думаешь о карьере?Блестящей карьере в стране чужих неограниченныхвозможностей. Известно, что все дороги здесь открыты...Гоу, как говорится, эхэд! Что является пределомтвоих мечтаний? Стать менаджером в «Плазе», преподаватьнаш великий и могучий язык в Монтеррее или,собрав мозги в кулак, окончить курсы программистов,вооружиться коболом и влиться в армию строителейтехнического прогресса? Перспективы — одна другойкраше.О чем годами, долгими ночами, вы толковали сдрузьями за бутылкой «Столичной»? «Мы будем свободны!Читай любые книги, смотри любые фильмы,болтайся по свету... вольность и покой будут тебезаменой счастья!» Ну-с, по порядку. И что ты прочелза это время, кроме двух романов Джона Jle Kappe?Может быть, ты, наконец, углубился в фундаментальныетруды русских философов? Доступных теперьБердяева, Леонтьева, Шестова? Ни черта подобного.Ты с трудом осилил одно произведение господинаЗиновьева, и его мысли, ползущие, как фарш из мясорубки,в строгом соответствии с законами логики,148
навеяли на тебя непроходимую скуку. А что являетсясегодня Монбланом западной киноиндустрии? «Обыкновенныелюди» и «Крамер против Крамера». Запустиих в Москве, и цензоры, несомненно, утонули бы вслезах и присудили создателям и сталинские и ленинскиепремии. Ведь наградил же растроганный ГолливудМоскву, которая слезам не верит....Вы собирались свободно выражать свои мысли.И какие же мысли ты имеешь выразить? Что в этоммире осталось невыраженным?Было бы недурно написать бестселлер. Тут тебеи слава, и богатство. О чем? О страданиях и одиночествеэмигрантского интеллектуала, или, вернее,интеллектуального эмигранта. О страшной его судьбев замызганных недрах отелей и ресторанов, тех самых,в которые ты был рожден входить под ликующийгрохот «Увертюры 1812 года». И тут ты припозднился,дружок. Обошел тебя на повороте прыткийЛимонов... Остались путешествия. Сафари в Африке,фиеста в Испании (из произведений забытого всемиХемингуэя). О, этого сколько угодно. Любая девчонкаиз любого бюро путешествий пошлет тебя на Азоры,Багамы, Гаваи... В обществе голубоволосых вдов врозовых шортах, с сорока пятью безупречными жемчужнымизубами. Имей там фан и енжой там лайф!Не забывай и о круизах... Вот входишь ты по трапу набелый нарядный корабль. Тебя встречают: лысыйкапитан, застенчивый доктор, барышня-культработники черный остряк-бармен. Они провожают тебя вкаюту, а справа и слева поселяются очаровательные,одинокие, состоятельные дамы. Сперва, не разобравшись,ты флиртуешь с дамой справа, но по законамжанра именно дама слева особенно глубоко прониклав лабиринты твоей души. В конце недельного путешествиявсе становится на свои места, и, после веселойпутаницы между коктейлем и прощальным обедом,ты с левой дамой, обнявшись, сходишь по трапу в149
новую счастливую жизнь. Вам машут и провожаютлукавыми улыбками лысый капитан, застенчивыйдоктор, ну, и так далее. О, сладостные грезы, навеваемыетелекомпанией ABC!...И вообще, почему я здесь? Почему не в Мельбурне,не в Осло, не в деревне Пленишник Вологодскойобласти? Какое отношение имеют ко мне стриженныегазоны, баптистская церковь, агентство попродаже недвижимости?»Юлий слезал с матраса и подходил к окну. За пределамиГексаэдра вставало солнце. Под окнами расстилалосьвоплощение сталинской мечты — слияниегорода и деревни. Вдоль домов еще дремали автомобили.Некоторые выглядели нарядно, у других быливмяты бока, оторваны крылья и выбиты зубы. Затемпоявлялись владельцы — точная копия своих машин.Кто подтянутый, в деловом костюме, а кто взлохмаченный,в джинсах и кедах. С ошеломляющей быстротойулица опустевала. Ни Юлий, ни Фига не вливалисьв скоростной поток американской жизни. Они отправлялисьгулять, и, пока Фига утверждала на тротуаресвою индивидуальность, Юлий покупал местную газетенкуи пытался проникнуть в тайны локальной жизни....Мистер Покриц баллотируется на должностьконстебля... Резиденты государственного дома дляпрестарелых возражают против строительства рядомс их бассейном государственного дома для малоимущих...Мисс Кирпатрик, 89 лет, выезжая задним ходомиз гаража, задавила свою сестру, мисс Кирпатрик,92 лет. Ей предъявлено обвинение в непредумышленномубийстве... А это что? Знакомое имя — ДжоГримпсон. Хозяин бара «Ржавый гвоздь», того самого,в который захаживал Юлий, сетовал на исчезновениеДжо Гримпсона. Этот Джо, опустившийся старыйирландец, нигде не работал, забывал получать чекисоциального страхования и, по-видимому, не имел150
ни одной близкой души на свете. Ночевал он в подвалезаброшенного дома, днем болтался неизвестно где, новечерами исправно просиживал в «Ржавом гвозде».Выпивку ему отпускали в кредит, и он время от временидаже расплачивался за нее, Бог знает, из какихсредств. И вот уже месяц, как старина Джо не показывалсяв баре. А на днях пришли ломать дом и нашлигорстку его барахла... «Славный был парень, безвредныйи веселый, и знал кучу забавных историй. Гдеон сейчас? Боюсь, не стал ли он частью бетонных конструкцийМистик Бридж?» — так заканчивалась заметкаоб исчезнувшем Джо Гримпсоне.Юлий-то мог рассказать о Джо Гримпсоне гораздобольше. Как-то он поставил старику двойное виски, иДжо поведал ему историю своей жизни... Он выросв католической семье бостонского адвоката... Во времявторой мировой войны воевал и встретил победу вПариже, окончил Принстон, получил диплом архитектораи отправился возводить нечто грандиозное вПуэрто-Рико. Там он встретил датчанку Сейму, художницу,эссеистку и собирательницу испанскогофольклора. После двух посещений кино и трех коктейлейДжо сделал ей предложение, и они поженились.Через год появился сын Питер, а потом дочь Сюзанна.— Поверьте, это были необыкновенные, совершенноособенные дети, — говорил Джо, не спускаяс Юлия бледно-голубых глаз. — Питер — словно сотканиз музыки и света, Су — изящная, как косуля...Мы могли быть так счастливы!.. Но Сейма... Я невстречал более властного и ревнивого существа. Однаждыя купил детям птицу, золотистого попугая невероятнойкрасоты. Весь вечер мы возились с ним:устраивали жилье и кормушку, бегали за семечками,придумывали ему имя. Дети были так счастливы ивозбуждены, что их невозможно было загнать в постель.Утром они проснулись чуть свет и помчались кклетке. Боже! Я никогда не слышал таких рыданий151
и не видел такого отчаяния. Попугай валялся со свернутойшеей... И это сделала Сейма. «Они забыли поцеловатьменя и пожелать спокойной ночи», — объяснилаона. Вы не поверите, но дети ее простили. Онаимела над ними какую-то странную власть. А я послеэтого не мог к ней прикоснуться. Я перебрался спать вкабинет, и мы встречались только за обедом. «Передай,пожалуйста, соль, не хочешь ли еще кусочек мяса?»— вот и все, о чем мы могли говорить. Однаждыприехала к нам из Бостона моя сестра. В первый вечерпосле обеда мы стояли с ней на террасе, любуясь заходомсолнца. Вошла Сейма, неся чашки, печенье, сливки...в общем, полный поднос. Она увидела, что мыс сестрой стоим обнявшись, грохнула посуду об пол иушла к себе. Сестра ночевать у нас не осталась, поехалав отель, а на утро улетела домой. Больше я ее невидел, она умерла через два месяца от рака груди. Ейне было еще и тридцати... Она знала, что смертельнобольна, и приехала попрощаться.Мне остался в наследство дом, коллекция картин,в общем, все родительское состояние. И я решил возвращатьсяв Бостон. Сейма тоже твердила, что ейосточертели пальмы, да и дети радовались предстоящимпеременам. Казалось, все наладится. И, правда,первые месяцы мы выглядели нормальной семьей. Апотом началось сначала — ревность, злоба, откровеннаяненависть. Как-то она заявила, что не может кускапроглотить в моем присутствии, боится, что я отравлюее. Господи! Какой я был идиот! После девяти летжизни с ней я думал, что у нее просто скверный характер,а бедняжка, оказывается, была тяжело больна.Сейчас это называется вялотекущей шизофренией. Нотогда я жалел только себя, каждый день уходил издома, чтобы не видеть ее, и до глубокой ночи просиживалв барах... И вот однажды меня в баре, кстати,в этом же «Ржавом гвозде», разыскала полиция. УСеймы случился приступ буйного помешательства.152
Она плеснула на Питера кипяток из кастрюли, искромсалакартины. Оба были в госпитале. А Сюзанну взялина ночь соседи. От шока она начала заикаться...Питер, слава Богу, легко отделался. Через месяц япривез Сейму из госпиталя. Ее до отвала напичкалилекарствами, она стала кроткая, боялась машин, невыходила из дома. Я с головой погрузился в работуи приходил домой только ночевать. Дети росли самипо себе... В семнадцать лет Питер кончил школу иукатил в Калифорнию. Обещал вернуться через год,но я никогда его больше не видел. Первое время приходилиот него открытки к Рождеству: всегда без обратногоадреса. Он писал, что играет на гитаре в какой-торок-группе. Но вот уже лет десять, как следыего утеряны... А Сюзанна и школы не кончила. В одинпрекрасный день исчезла из дома, прихватив Сейминыбриллианты. Кто-то видел ее в Нью-Йорке, в ГринвичВилладже... Но это было очень давно.По-моему, Сейма не замечала отсутствия детей.Бродила по дому в разодранном халате, иногда из еекомнаты доносились пение и голоса. Однажды онапожаловалась, что кто-то вмонтировал ей в затылокприемник и она не знает, как его отключить. Я позвалпсихиатра, но она заперлась в спальне и не пустилаего... Так мы и жили. А однажды зимой... Лет семьтому назад я вернулся из бара за полночь... и нашел еемертвой в кухне на полу. Газ был открыт. Так и неизвестно,отравилась ли она нарочно или это был несчастныйслучай...Джо Гримпсон допил свое виски: — Простите,милый юноша, что заморочил вам голову. Не каждыйсогласится выслушать такую длинную историю...Он улыбнулся, приподнял замусленную шляпу ивышел из бара....Прочтя газетную заметку, Юлий помчался в«Ржавый Гвоздь», чтобы предложить свои услугидобровольца в поисках несчастного Джо. Однако бар-153
мен, пожилой грек с прагматической душой, охладилего пыл.— Я уже наводил справки. Безнадежное это дело.Полиция отказывается начать розыски без официальногозапроса родственников. А где их взять? Не былои нет у старика никаких родствеников.— Неправда, есть! У Джо есть дети! Он сам мнеговорил!Бармен только рукой махнул: — Слушал бы ты,парень, больше. Старина Джо был мастер на всякиевыдумки. Он и не такое мог наплести. Его подпоить,так и кино никакого не надо. И дипломатом в Боливиион служил, и главарем мафии на Корсике, и иностраннымагентом... Враки все это. Так что, ты волну-тоне поднимай, а помолись лучше за его душу, сынок....В два часа дня Юлий заступал на дежурство.Как это ни странно, но часы работы в «Плазе» бывалинаименее мучительными в его жизни. Стоило ЮлиюНисону напялить пурпурную ливрею, как Некто великодушныйи всесильный делал его душе инъекциюновокаина. Лицо его автоматически освещалось приветливойулыбкой, рука легко принимала чаевые, и оннаучился любезно и без труда произносить самые популярныев этом полушарии слова: «How are you today?»и «Isn't it a little chilly, is it?» Чемоданы и кофры,которые он таскал от лифта к такси и обратно,бывали не слишком тяжелы, постояльцы «Плазы»тоже, как правило, не вызывали возражений. Элегантноодетые, благоуханные, с несколько утрированнымвыражением равенства и братства на холеных лицах.От всего их облика веяло суровой школой теннисныхкортов и гольфовых полей. Юлий, как личность, естественно,не существовал для них, а принадлежал кроскошному антуражу гостиничного холла. Юлий Нисонтакже не подозревал о существовании у постояльцев«Плазы» души, человеческих слабостей и жизненныхтрагедий. Пока на его пути не встретился Айзек154
Гринблат. А познакомились они так. Мистер Гринблат,приехавший в Бостон на совещание, забыл вхолле портфель с документами, и Юлий отнес его кнему в номер. Мистер Гринблат растрогался и совершилнетипичный для себя поступок, а именно: далЮлию на чай десять долларов. В свою очередь, Юлийтоже совершил нетипичный поступок, а именно: отказалсяих принять. Вознаграждение показалось емучрезмерным. Айзек Гринблат был поражен и уловилна Юлином лице признаки мыслей, не свойственныешвейцару. Он задал Юлию несколько не слишком банальныхвопросов. И вдруг Юлия прорвало:— Я эмигрант, и я здесь совершенно один. Наверно,вам трудно представить себе, что это значит.— Юлий почувствовал, как в его горле нарастает ком.— Отчего же, у меня богатое воображение, —возразил Айзек Гринблат, — к тому же имеется коекакойличный опыт... Личный опыт мистера Гринблатазаключался в том, что семья его погибла в Дахау,а он хоть и спасся, но пережил все, что полагаетсяпережить еврею, выходцу из Германии, скрывавшемусяот немцев. Не будь Юлий так сосредоточен на себе,он бы заметил, что история Европы конца тридцатых— начала сороковых годов отпечаталась на бесстрастномлице мистера Гринблата сетью глубоких морщин.Пережитый шок лишил Айзека возможности иметьженщин, и последние сорок лет он прожил один вНью-Йорке в окружении многотомных томов своихлюбимых немецких мыслителей, работал в банке исобирался подать в отставку в ближайшее время. Ондавно перестал испытывать к людям сострадание ибыл немало удивлен, почувствовав к этому рохле (такон окрестил про себя Юлия Нисона) какую-то страннуюсмесь жалости и нежности. Во всяком случае,уезжая, он оставил Юлию визитную карточку с ньюйоркскимадресом и телефоном...И вот однажды, когда жизнь в очередной раз по-155
казалась Юлию невыносимой и лишенной какого бы тони было смысла, он решил прокатиться в Нью-Йорк.Он позвонил мистеру Гринблату и попросил разрешенияостановиться у него на два дня. И Айзек так обрадовалсяи с таким жаром пригласил его, что у Юлиявпервые закралось сомнение в исключительности своегоодиночества. Он насыпал Фиге кучу собачьих деликатесов,разрешил делать в Гексаэдре все, что ей вздумается,и укатил на выходной.Был конец августа. Сексуальная кухня 42-й улицыобдала его жаром, запахом пыли, прачечных и попкорна.Сухой ветер метнул ему под ноги обрывки газети бумажные стаканы. Посреди тротуара слепой негрвыводил на саксофоне нечто бесконечно печальное,у его ног дремала пыльная собака-поводырь. Вокругиграли в очко, продавали бусы и страусовые перья,мимо Юлия промчался на велосипеде раввин с привязаннойк багажнику хупой, двое грациозных, как гепарды,негров, выписывали, обнявшись, восьмеркина роликах, из всех щелей его манили, зазывали, обольщали.Вот мимо проковылял горбатый старик снацепленным на шею плакатом: «Аборты — это убийство!»Около какого-то подъезда прямо на асфальтесидела старуха и вязала шарф, зажав между ухом иплечом телефонную трубку. Шнур был протянут вокно первого этажа, на подоконнике притаилась кошкаи норовила лапой подцепить шнур. Старуха отрываласьот беседы и вязанья и осыпала кошку проклятиями...Юлию показалось, что он бывал здесь в прошлойи позапрошлой жизни, что все это он уже видел, знали любил. Он почувствовал поразительную легкость,которую второпях охарактеризовал как счастье.Дом мистера Гринблата Юлий нашел без труда.Айзек жил на 85-й улице, в двух шагах от Центральногопарка. Очевидно, что он готовился к Юлиному приезду,потому что на столе розовела лососина и ветчи-156
на, благоухал целый парад сыров от «Зэйбара» и тортиз кафе «Эклер». Юлий, разумеется, не подозревал,что этот жест является актом величайшего расположения,во-первых, потому, что понятия не имел о существовании«Зэйбара» и его репутации, а во-вторых,не знал, что мистер Гринблат в высшей степени остороженс деньгами и питается обычно из соседнегосупермаркета. Но это не все. Для Юлия была приготовленацелая программа развлечений, включающихпосещение Метрополитен-музея, Метрополитен-оперы,Фрик Коллекшн, Гугенхайма и Музея СовременногоИскусства. Иначе говоря, мистер Гринблат собиралсяпоказать Юлию Нисону СВОЙ Нью-Йорк. Желаясделать новому приятелю сюрприз, Айзек ни словомне обмолвился о своих планах до конца завтрака.Не обмолвился он и после, потому что, не успев допитьчай с шоколадным тортом, Юий попросил телефоннуюкнигу.— Я хочу разыскать своего друга, художника изМосквы. Мне говорили, что он где-то в Нью-Йорке.Мистер Гринблат достал справочник, и через минутуВаська Крутов был найден в Сохо. Стараясь невслушиваться в ликующие вопли на незнакомом языке,которые Юлий исторгал в телефонную трубку, Айзеквышел в соседнюю комнату, достал из письменногостола два билета на «Севильского цирюльника» иаккуратно порвал их на четыре части. Затем нашелплан нью-йоркского метро и запасной комплект ключей.Он объяснил Юлию, как добраться до Сохо, извинился,что ввиду ужасной занятости не может уделитьему больше времени, и показал особенности дверныхзамков. Юлий гарцевал от нетерпения, второпях забылпоблагодарить мистера Гринблата и в величайшемвозбуждении скатился с лестницы.Васька Крутов оказался обладателем лофта наГрин-стрит. После часа блужданий в недрах прокопченныхулиц Юлий отыскал подъезд, забаррикадиро-157
ванный мусорными баками и полиэтиленовыми мешками.Один был разодран, и в нем копалось трясущеесясоздание в отрепьях с колтуном на голове. На ступенькахразвалились два черных подростка, над ниминависло облако марихуаны. Юлий перешагнул черезпереплетенные ноги и забарабанил в дверь. Художникпредстал перед ним в лиловой робе и чалме. Праваяполовина его бороды была абсолютно седая, левая жеотливала всеми цветами спектра, что означало, что ееобладатель воспринял «панк» в полном объеме и буквально.— Привет, Васёк, — сказал Юлий и уткнулся другув плечо. Художник крепко его обнял, и они минутупростояли молча. А над ними кружились, плшли иструились искаженные временем и неверной памятьюарбатские переулки, хаши в «Арагви», мастерская наСретенке и вся их угарная беспомощная юность...Лофт был заставлен гигантскими черными полотнами,на которых бесновались нестерпимо яркие сполохи.— Ого, Васька, ты работаешь в новой манере?— Да не-ет... Просто возвращаюсь к реализму...Это уже наступает.— Что именно? — за время общения с персоналом«Плазы» Юлий отвык от бреющег, полета мыслисвоего друга.— Страшный Суд... Неплохой я придумал гиммик?Юлий не решился спросить, что значит слово«гиммик», и стал рассматривать другие картины.— Да не гляди ты на этот коммерческий хлам! —Художник раздраженно повернул к стене натюрмортыс битой птицей, серебряными чашами, увядшими хризантемамии истекающими соком гранатами. По мнениюЮлия, натюрморты не уступали ни малым, нибольшим голландцам.Васёк достал из холодильника бутылку водки,158
круг сыра «бри» и частик в томате — символ неутихающейностальгии. Затем скинул со стола эскизыСтрашного Суда и разлил водку в бумажные стаканы.— Садись, где стоишь, и рассказывай...Они выпили по первой, и Юлия охватило смутноеволнение, знаменующее начало задушевной беседы.Этакий трепет, знакомый только истинно русскойдуше.— Знаешь, Васька, что погубит эту страну? —вдохновенно начал Юлий. — Эту страну погубит отсутствиемистицизма... Мистицизма, который спасетРоссию.— Старик, ты неисправим, — засмеялся ВаськаКрутов. — От этих мыслей развивается в организмерак... Возьми салфетки на этажерке у телефона.Юлий подошел к этажерке с телефоном, и он зазвонил.— Хэлло, — сказал Юлий, но в трубке стоялатишина. Он вернулся к столу, но телефон зазвонилопять.— Погоди, я подойду, — сказал художник. — Тоникакая сволочь неделями не вспомнит, а то раззвонились...— Но в трубке снова молчали. Васёк выдернулиз аппарата шнур, и они выпили по второй.— Ну, с мистицизмом мы разобрались... А самтоты как? Акклимался в мире капитала?Юлий покачал головой: — Представь себе, что ссамолетов на землю сбросили без парашютов тысячикошек. Одни пискнули от страха, но приземлилисьудачно на все четыре лапы. Оглянулись, облизнулись ибросились за мышью. Другие, не столь удачливые,при. падении слегка повредились. Но мелкие травмызаживают быстро... Погрустили, поскулили и... тожена охоту. А третьи... шмякнулись на брюхо и разбилиськ чертовой матери... То есть они физически живы,видят и слышат, и даже могут оценить красоту159
Новой Англии... но не жизнеспособны. И дни их сочтены.И я как раз в их числе...— Это тебе Америка, брат, — поддакнул, невникая, художник и с гордостью оглядел в осколкезеркала свою разноцветную бороду. — Тут, старик,знаешь как... Больной, исцелися сам. А то на врачейбашлей не наберешься.Он взглянул на часы: — Хорошо мы с тобой посидели...Будто и не за океаном.— Ты что, торопишься? — встрепенулся Юлий.— Да, понимаешь, один мужик подвалить должен.Вообще-то дерьмо порядочное, манимейкерскаямашина, но вкладывает в русскую живопись. В Москвея с такими на одном поле... не садился, а здесц приходится.Юлий понял, что пора расставаться. За мутнымокном наступил вечер. И поскольку угасший день былсолнечным и ясным, то, вероятно, на небе зажглисьзвезды. Обычно в Нью-Йорке этот феномен проходитнезамеченным. Гость и хозяин вышли на улицу, ихудожник проводил Юлия до станции Канал-стрит.— Ну, бывай, старик, не пропадай надолго, —сказал Васёк. — Как ехать, знаешь? — И, не дожидаясьответа, клюнул Юлия в щеку, развернулся и торопливозашагал прочь. Юлий глядел ему вслед и думал,что Васька даже не^ поинтересовался, у кого Юлийостановился в Нью-Йорке, и не спросил его бостонскийтелефон. Он закурил последнюю сигарету, нырнулпод землю, опустил в дырку жетон, прошел поузкому проходу и очутился на совершенно пустойплатформе. В ту же секунду мимо, не останавливаясь,промчался поезд. Над его головой круглые часы показывалинесусветимое время — четверть пятого. Юлийвзглянул на свои — было ровно десять. Юлий вдругвспомнил о мистере Гринблате и почувствовал некоеугрызение совести. Прошло минут двадцать. На платформене появился ни один человек. С ободранных160
афиш его призывали пить финскую водку, курить Virginia-Slimsи носить джинсы Jordache. Он поискал табличкус названиями поездов. И вдруг за его спинойзазвонил телефон-автомат. Юлий вздрогнул, не оглядываясь,втянув голову в плечи, пошел в противоположныйконец платформы, поднялся по лестнице, преследуемыйзапахом гнили, и оказался на точно такойже безлюдной платформе. Он заглянул в тоннель —ни огонька, ни шума. Юлий почувствовал тошноту, пощекам и спине поползли струйки пота.— Где же, черт возьми, выход отсюда? — пробормоталон и тотчас увидел в середине платформытабличку «EXIT». Он бросился туда, но наткнулся нарешетку, опутанную цепями. За ней блестела лужа, адальше мрак, но Юлию почудились всхлипывания ибормотанье.— Эй, кто это там? — по-русски крикнул Юлий.В ответ послышался плач.Юлий обеими руками схватился за решетку и началее трясти. Рядом на стене зазвонил телефон-автомат.— Алё, кого вам? — закричал он.— Is somebody there? — сказал далекий тихийголос. — Я хотел бы с кем-нибудь поговорить, пожалуйста,выслушайте меня...У Юлия подкосились ноги: он узнал голос пропавшегоДжо Гримпсона.— Джо! Это вы, Джо? Где же вы?Платформа внезапно и резко накренилась, и Юлийрухнул на мокрый цементный пол, увлекая за собойтелефон......В шесть часов утра черный гигант — полицейскийМайк Пауэлл — осторожно тронул его носкомботинка. Ему было жаль возвращать парня к жизнислишком быстро. Глядя на вывернутые карманы Юлиныхбрюк и пиджака, он с сожалением констатировал,что парня, должно быть, обобрали до нитки. Да Юлий161
и сам предпочел бы не просыпаться, а брести с отцомвдоль василькового поля, вслушиваясь в чириканье игомон невидимых птиц. Юлий исподтишка пыталсяразглядеть отцовское лицо, но не мог, потому что онобыло покрыто густой мыльной пеной для бритья.А увидеть это лицо Юлию безумно хотелось —ведь он не помнил отца, вернее, не знал, а точнее, отцау него никогда не было. Существовала версия, что онпогиб на фронте. И только после смерти матери, разбираяее дневники, Юлий узнал правду.И правда эта была столь невероятна, так не вязаласьс образом его мамы Фаины Семеновны Нисон,заведующей отделением детской больницы, заслуженноговрача РСФСР, что Юлий горько сожалел,, что,всю жизнь прожив с ней под одной крышей, не нашелни времени, ни желания узнать, что же за человекбыла его мать.В 1937 году Фаня Нисон заканчивала педиатрическийинститут. Была она рыхлой и грузной девицей,страдающей неправильным обменом веществ.Характером отличалась необщительным, даже угрюмым,избегала вечеринок, не имела друзей. Рядом сней и мужчины-то никогда не видели. Было очевидно,что бедняжке предстоит унылая одинокая жизнь. Ивот, ко всеобщему изумлению, на последнем курсеФаня забеременела и государственные экзамены сдавалас уже порядочным животом. Вскоре родился унее сын Юлий Нисон, или Нис, как она называла егов честь мегарского царя, обладавшего, как ее мальчик,огненно-рыжей копной волос. Вопрос «от кого?»страстно обсуждался в кулуарах института, но доправды так и не докопались....А блистал в те времена в институте молодойдоктор с театральным именем Ричард Сухаржевский.Вероятно, польских кровей. Бог наделил его прекраснойвнешностью, талантом, веселым и добрым нра-162
вом баловня судьбы. Естественно, что Ричард былпредметом вожделения институтских дам в возрастномдиапазоне от семнадцати до семидесяти лет. Однакодоктор Сухаржевский вовсе не слыл ловеласом;несмотря на легендарную популярность, он выказывалпоклонницам свое расположение, в основном, путемрассеянных улыбок. Доктор Сухаржевский стремительноделал карьеру.И вот однажды Фаня Нисон остановила Ричардав коридоре и коротко изложила свою просьбу. Онапопросила доктора переночевать у нее.— Я хочу иметь ребенка... и непременно от вас,— сказала она, — потому что вы самый красивыймужчина, которого мне довелось встретить...Ни один мускул не дрогнул на ее лице, и смотрелаона на доктора Сухаржевского без тени смущения. Отнеожиданности Ричард окаменел. Не следует забывать,что этот разговор произошел за тридцать летдо того, как в мире произошла сексуальная революция.«Она ненормальная... или шутит», — подумалон, но промолчал, потому что Фаня не спускала с негобесцветных глаз, в самой глубине которых мелькнуло,как загнанный зверь, и спряталось отчаяние.Если ЭТО получится, а узнаю я о результатахнедели через три, я никогда вас больше не побеспокою...Если же нет, я попрошу вас об этом одолженииеще раз.Ее слова и вид не допускали ни возражения, нинасмешки. Доктор Сухаржевский взял Фаину Нисонпод руку; они молча вышли из института, сели в троллейбуси поехали в Старопименовский...Утром, не предложив Ричарду чашки кофе, онапроводила его до дверей.— Я очень признательна вам... Большое спасибо,доктор. — Она даже не назвала его по имени, и в этом«доктор» Ричарду почудилось издевательство.163
Он, не прощаясь, хлопнул дверью, но Фаина вышлана лестницу следом.— Я хочу вас кое о чем предупредить... Мой ребенок,если он родится, не имеет к вам никакого отношения...Очень прошу вас помнить об этом.— А если ребенок не родится?Фаина не ответила. Она вошла в квартиру и закрылаза собой дверь. На следующий день они столкнулисьв столовой. Фаина Нисон наклонила голову и,не останавливаясь, прошла мимо. Доктор Сухаржевскийпонять не мог, что с ним происходит. Он постояннодумал о ней. Он узнал расписание ее занятий и,если только бывал свободен, старался оказаться околоее аудитории и попасться ей на глаза. Фаина ни, разуне сделала попытки заговорить с ним. Через месяц онподкараулил ее около институтского выхода. Простоелюбопытство его мучило, или что-то другое, чемуназвания он не знал.— Здравствуйте, Фаина... Вы ничего не хотитемне сказать?— Нет... Ничего, что было бы вам интересно.— Можно мне проводить вас?— Меня? — Она засмеялась. Могу себе представитьэтот шок, когда из окон увидят парочку —Фаину Нисон с Ричардом Сухаржевским.— Фаина, вы беременны или нет?Она дернула себя за полу старой изношенной шубы:— Об этом я разговариваю только со своим гинекологом...Извините, я тороплюсь, доктор....Она была беременна, и вскоре после окончанияинститута родился Юлий. И, узнав об этом, докторСухаржевский словно помешался. Он звонил ей попять раз в день, но Фаина вешала трубку. Он дожидалсяее у подъезда, но она не желала даже остановитьсяна минуту.— Что мне за дело до этой озлобленной бабы? —спрашивал себя доктор Сухаржевский. — Что мне164
от нее надо? Да наплевать на нее, я хочу видеть сына.— Это была неправда, он хотел видеть ее, он неотступнодумал о ней......Она сидит на диване в зеленом фланелевом халате.Он подходит, встает на колени, расстегиваетхалат, легко и осторожно проводит рукой по ее полнойшее и полной груди. Он очень долго и медленногладит ее, не спуская глаз с лица, которое он заставитстать беспомощным и просящим. Он не будет гаситьсвет, он не будет спешить, и он не придет к ней, покане почувствует, как вздрагивает и бьется под его ладонямибольшое мягкое Фанино тело....Однажды он застал ее врасплох с коляской всадике напротив дома и стал требовать, чтобы онапоказала ему ребенка.— Уйдите, Ричард, уйдите по-хорошему, — тихосказала она, стараясь не привлекать внимания сидящихнеподалеку бабок. Но доктор взялся за коляску и попыталсяотвернуть краешек одеяла. Фаина вскочиласо скамейки и так истошно закричала, что прибежалмилиционер и Ричарда увезли в участок.— Монстр, проклятый монстр! — вопил докторСухаржевский, когда его усаживали в «воронок».С тех пор судьба его пошла под откос. Он началпить, опаздывать на работу, пропускать дежурства.Продолжалось это недолго. Вскоре доктор Сухаржевскийбесследно исчез... Стоял 1938 год.Между Юлием и матерью никогда не было настоящейблизости. Наверно, она не рассчитала своих сил.Любви ее с избытком хватало на чужих детей, ФаинаСеменовна, действительно, была первоклассным педиатром.На сына нежности не осталось. Она добросовестноисполняла свой материнский долг: следила,чтобы он был сыт, чисто вымыт и тщательно одет.Во время войны, работая главным врачом в интернатена Урале, она строго-настрого запретила Юлию называтьсебя мамой.165
— У трехсот детей здесь мам нет, — внушалаФаина Семеновна пятилетнему сыну. — И ты не долженбыть исключением. Для тебя, как и для всех детей,я — доктор тетя Фаня... Запомни это.А внешне Юлий был копией своей матери — такойже рыжий и такой же рыхлый. Казалось, Ричард Сухаржевскийи в самом деле не участвовал в его создании.Учился Юлий неровно, читал запоем, но беспорядочно,был добродушен, ленив и не тщеславен. Матьне ругала его за двойки, не хвалила за успехи, не баловаладорогими игрушками, хотя зарабатывала порядочно.Юлий не помнит, чтобы мать когда-нибудь егопоцеловала. Кто знает, может быть, она была в немразочарована. И к выбору Юлиной профессии, друзейи жены Фаина Семеновна отнеслась равнодушно икорректно.Так и жили они в одной квартире, «не пересекаясь»,пока Москву не охватил эмиграционный синдром.И тут Фаина Семеновна в первый и единственныйраз высказала свою точку зрения: «Уезжайте какможно скорее. И я поеду с вами, если не возражаете.Мешать и путаться у вас под ногами я не буду».Но Юлию, прежде чем решиться, понадобилосьтри года. За это время жена и дочь его покинули, аФаина Семеновна сильно сдала. Занятый своими терзаниями,Юлий не замечал, как часто его мама держитпод языком валидол, какие опухшие у нее ноги, какмедленно поднимается она на четвертый этаж, какподолгу стоит на лестничных площадках.Когда же, наконец, Юлий отважился подать документы,Фаина Семеновна сказала: — Боюсь, что мнеуже поздно, дружок. Уезжай, устраивайся, а там посмотрим.Пока что я останусь здесь....И осталась... Неделю спустя позвонили из больницы,где она работала, и спросили, не заболела лидоктор Нисон. Уже половина одиннадцатого, а ее ещенет. Юлий заглянул к матери в комнату. Фаина Семе-166
новна лежала на высоко взбитых подушках. Рыжие спроседью волосы были причесаны, руки покоилисьповерх одеяла и уже окоченели. Врачи констатировалиинфаркт.Через несколько дней после похорон, достаточнопышных для пожилой еврейки в разгар эмиграции,Юлий позвонил единственной близкой приятельницеФаины Семеновны и предложил, если угодно, забратьее вещи. Наутро опустел ее комод и шкаф, еще черездва дня вынесли мебель из ее комнаты, а вскоре выветрилсяи мамин запах, с детства раздражающийЮлия терпкий запах духов «Красный Мак».Итак, Юлий с отцом брели вдоль василькового поля,а оно ширилось, и васильки становились все выше,и гладшщ мягкими лепестками его лицо, и свешивалисьоткуда-то с синего неба. Их раскачивал ветер, и, касаясьдруг друга, они издавали жалобный протяжный звон.Этот звон заполнял все вокруг, заглушая и гомон птиц,и то, что говорил ему отец. Юлий вслушивался в обрывкифраз «ничья вина», «сильнее обстоятельств»,«напрасные жертвы» и думал, как бы изловчиться истереть мыльную пену с отцовского лица.«Рукавом, проще всего рукавом», — решил Юлийи резко поднял руку. Отец испугался, отпрянул, и пенана его лице начала съеживаться, зеленеть и затвердела,как маска. На отцовской голове появился венок из васильков— такие плели девчонки в пионерском лагере,— но, приглядевшись, Юлий увидел, что это вовсе невасильки, а синие розы. И они испускают сильный яркийсвет.— Папа, где ты был все это время? — спросилЮлий. Отец не ответил. Он предостерегающе поднялпалец — молчи, мол, нас могут услышать, — повернулсяи побрел прочь. Высокий, сутулый и усталый.Юлий пошел за ним, но отец оглянулся, поднял что-тос земли и угрожающе помахал в воздухе. Юлий уви-167
дел, что это топор. «За что?» — закричал он и пригнулся.Топор со свистом пролетел над его головой иупал где-то рядом. Юлий подполз ближе, схватил егои... проснулся. Обеими руками он держался за ботинокполицейского Майка Пауэлла.— Вставай, парень, — сказал полицейский. — Ипроваливай отсюда, на свежем воздухе тебе полегчает.— Он поднял Юлия за шкирку и легко поставил наноги. Он был слишком опытен и слишком ленив, чтобыспрашивать у Юлия документы, и уж, конечно,не желал присутствовать при том, как бедняга обнаружитпропажу своего бумажника и денег. Хлопотнавалом, а толку никакого...Около десяти часов вечера мистер Гринблат началбеспокоиться. Вначале это давно забытое чувствобыло ему приятно. Хотя Айзек был родом из Германии,в нем текла беспримесная еврейская кровь, а этоозначало, что в глубине души мистер Гринблат былa Jewish Mother. Вместо того, чтобы в половине одиннадцатоголечь в постель с кипой «Нью-Йорк Тайме»,Айзек поставил на плиту чайник, накрыл на стол иуселся у окна. 85-ю улицу оживленной не назовешь.Каждая тормозящая машина могла оказаться такси,привезшим его загулявшего гостя. К полуночи мистерГринблат разнервничался не на шутку. Он решил, чтомальчишка заблудился в омерзительной клоаке (такон именовал самую передовую в мире кузницу современногоискусства) и на него напали черномазые обезьяны...Неизвестно, простится ли мистеру Гринблатуна небесах этот расистский душок. Всего лишь сороклет назад именно в этих выражениях высказывалисьо нем и его близких кочегары Освенцима и Дахау...В два часа он лег, но сон не шел. Он ворочался сбоку на бок, кряхтя слезал с постели и подходил кокну. Сердце ныло, испариной покрывался лоб.— Не спать тебе до утра, — вынес Айзек себе168
приговор, достал из газетной кучи секцию «Бизнес»и... тотчас задремал с очками на носу.Разбудил его настойчивый звонок. Мистер Гринблатвскочил взъерошенный, дрожащий и стал растерянноозираться, не сразу вернувшись из прокуренногобарака, куда занес его короткий тяжелый сон. В углузахрипели и неуверенно пробили восемь старинныечасы. Звонок повторился. Мистер Гринблат натянулхалат, пригладил лохмы, провел рукой по щекам, убедился,что он не брит, нажал кнопку, открывающую вподъезде дверь, и с любезной улыбкой вышел на лестницу.На площадке остановился лифт, и перед мистеромГринблатом предстал Юлий Нисон.— Доброе утро, доброе уто! Как провели вчерашнийдень? — спросил Айзек, ощупывая глазами опухшеелицо и замызганный костюм своего гостя.— Спасибо, чудесно, мистер Гринблат... Встретилсясо старыми друзьями, и мы до утра проболтатли. Кстати, я пытался дозвониться до вас, но телефонне отвечал.— Не удивительно. Я был приглашен на ужин ивернулся около полуночи. И не прислушивался к звонкам.Я ведь дал вам ключи, не правда ли?Вопрос о ключах Юлий пропустил мимо ушей ипопросил разрешения принять душ. Стоя под обжигающимиструями, которые смывали с него кошмар вчерашнейночи, он вяло соображал, как же ему добратьсядо Бостона. В пропавшем бумажнике были все егоденьги и автобусный билет. Ни объясняться с мистеромГринблатом, ни звонить Ваське Крутову ему категорическине хотелось.— Однако вы не выглядите счастливым послевстречи с друзьями, — сказал за завтраком мистерГринблат. — А как сложилась в эмиграции их судьба?Его наивная провокация удалась на славу.— По правде говоря, не знаю... Я видел толькоодного... И лучше бы я его не видел.169
Айзек поднял бровь, выражая недоумение.— Оказалось, что нам не о чем говорить. Я эмигрировал,а он просто поменял адрес. Он стал чужим...и одержим идеей финансового успеха. А ведь он талантливый...— А чем одержимы вы, если не секрет?— Комплексом неполноценности. Я прямо чувствую,мои комплексы торчат, как шипы.— А шипов комплекса величия вы не чувствуете?— О нет... Я как бы изучаю себя со стороны, ну,знаете, как червяка на предметном стекле. И вижу,как он извивается, пытаясь придать себе пристойнуюформу... Там, дома, я жил в коконе, окруженный семьей,друзьями, привычной средой. Было некому й невозможнооценить, что я такое на самом деле. А туточистился от шелухи и оказался в беспримесной, лабораторнойситуации. Всё время думаю, кто я, зачемживу, чего хочу, на что способен...— Научиться думать, — это огромное достижение,— усмехнулся Айзек. — Хотя, конечно, процессдовольно болезненный. Но, позвольте спросить, почемувы уехали?— Все, что бы я ни сказал, прозвучит высокопарнои банально... Самореализация, свобода. А реализовывать,как оказалось, нечего... И воздух свободыдушит, как верёвка. Понятия не имею, что делать сней и с собой.— А дома, в Москве, знали?— Во всяком случае, я знал, кого винить. Кемсчитали меня? Второсортным евреем, чужаком, инороднымтелом. И я даже гордился этим, щеголялчто ли... Но здесь виноватых нет, а я еще более чужойи инородный.— Вы не правы, мой друг. Америка тем и замечательна,что она не монолит, а конгломерат. Шагнитев нее и просто начните жить.170
— И первым шагом должен быть поход к психиатру,— Юлий не удержался и рассказал о мытарствахпрошлой ночи. Мистер Гринблат слушал, не перебивая,а потом вышел в соседнюю комнату и на всякийслучай выдернул из аппарата шнур.— Итак, у вас не осталось ни цента, — сказал он,возвращаясь в столовую. — Надеюсь, вы не откажетесьот моей помощи?... — Легкость, с которой онпредложил деньги, поразила его самого. Как, впрочем,поражает все, что случается впервые в жизни.— Спасибо, Айзек, я очень тронут... и виноватперед вами... Вот, ключи потерял. — Он впервые назвалстарика Айзеком, и это не осталось незамеченным.— Пустяки, мой друг. Но вы же совсем не виделиНью-Йорка. Может, останетесь? Или переезжайтеко мне совсем...— Да что вы! У меня там собака одна и завтра сутра на работу. — Юлий засмеялся, поперхнулся и,не будучи грациозным, пролил на скатерть кофе. Коричневоепятно, расплывшееся по белоснежному полю,не только не привело мистера Гринблата в отчаяние,но, напротив, развеселило его. Направляясь на кухнюза тряпкой, он поймал себя на том, что впервые затридцать лет мурлычет какой-то вульгарный немецкиймотивчик. А Юлий в этот момент изнывал отнеловкости и стыда. «Что он может чувствовать комне, кроме отвращения и брезгливости?» Как обычно,чуткий к себе самому, он не уловил «теплых вибраций»,исходящих от человека на расстоянии вытянутойруки.На сборы ушло минут пять. Мистеру Гринблатухотелось проводить Юлия до автобусного вокзала,но он побоялся показаться навязчивым. Он вручилсвоему гостю 50 долларов — больше Юлий отказалсявзять наотрез — и вышел на площадку вызвать лифт.Когда скрипучая клетка поехала вниз, Айзек почув-171
ствовал себя путником, брошенным в расщелине скалыс переломанной ногой. «Ну-с, кто помянет добрымсловом старого Айзека после того, как его останкиувезут представители городских властей? —спросил себя мистер Гринблат, запахнув халат и усаживаясьв кресло. После волнений вчерашней ночи онощущал озноб и слабость. — Ни одна живая душана свете не знает, по какому обряду хоронить тебя...Так что пожалуйте прямо в печку... И вообще, кому вэтой жизни твое существование доставило радость?Чье лицо осветилось улыбкой при упоминании твоегоимени?... То-то и оно...»Он встал с кресла, покружил по комнате, подошелк буфету и плеснул в стакан неразбавленного виски.Для педанта такого масштаба подобный поступок,совершенный в десять утра, мог расцениваться, какбезумный.«А какие же чувства, уважаемый мистер Гринблат,довелось испытать тебе самому?...» Мысленныйперечень чувств не доставил ему никакого удовольствия.Айзек отхлебнул виски, вошел в ванную иуставился в зеркало. На него смотрело худощавое,изрезанное морщинами лицо с крупным хрящеватымносом и насмешливыми глазами. Лицо человека, прожившегобез иллюзий.«Посеянные в твою детскую душу зерна участияи сострадания, вероятно, дали ростки. А ты надежнозапрятал их в сейф, отлитый из сарказма. Но им, кажется,удалось выжить и произрасти в тропическуюпальму... Ну что, скажи на милость, тебе до этогорыжего растяпы?»При мысли о Юлии Нисоне у мистера Гринблатазащемило сердце.«У тебя мог быть такой сын... Да что ты раскис?У тебя могло быть пять, десять сыновей и столькоже дочек, нерях, хапуг и проституток. И три женыс мигренями, гастритами, братьями и тещами. И, ко-172
нечно, со скандалами и алиментами. И где бы былисейчас твои денежки?»Было бы преувеличением назвать мистера Гринблатабогачом, однако 85 тысяч, собранных путемсуровой экономии и умелой игры на бирже, вселяли внего чувство уверенности.«По крайней мере, когда хватит паралич, позволюсебе роскошь догнивать в комфортабельном нёрсингхоме...» При мысли о старческом доме у него холоделикончики пальцев.«И куда же ты, собственно, старая лиса, клонишь?Только не увиливай. А хочешь ты, дорогоймой, чтобы русский мальчишка переехал к тебе. Слушалбы твои бредни о зерновом эмбарго и событияхна Ближнем Востоке, грыз бы с тобой заржавевшиекуски курицы и терпел твои старческие капризы. И завсе эти муки, когда ты отдашь концы, он найдет завещаньицена свое имя. Интересно, верит ли он в Бога?Если нет, то сразу и поверит. Чтобы было кого благодарить...Эх, Айзек Гринблат, Айзек Гринблат,святая душа. Нет пределов твоему благородству...А ты вот оставь мальчишку в покое, а денежки емузавещай. Рука дающего, как известно, не оскудеет.Особенно если это рука скелета».Учиненный самосуд в комбинации с утреннимвиски изрядно утомил мистера Гринблата, и он отправилсяв постель. При этом мельком взглянул на часыи высчитал, в котором часу Юлий приедет в Бостон.«Непременно позвоню и узнаю, как он добрался додома», — пробормотал он и тотчас глубоко уснул...В ту самую минуту, как Юлий Нисон уселся вмеждугородный автобус, существование на этой планетемистера Гринблата вылетело у него из головы. Рядомс ним на сиденье устроился человек примерно еголет, загорелый, спортивный, в глубоко расстегнутойбелой рубахе и ладно сидящих вельветовых джинсах.От него веяло уверенностью и здоровьем, и Юлий173
стал гадать, из какой семьи и чем занимается его сосед.Он мог быть и бизнесменом, и программистом,и музыкантом, и профессором — у всех на лицах приветливаябезмятежность... ни тебе сомнений, ни тебестраданий. Однако была и характерная черточка ввиде зеленой шляпы с павлиньим пером.«Ты банковский клерк из Техаса и ты в отпуске»,— догадался Юлий.Незнакомец вытащил из сумки книжку, Юлий скосилглаза на название. Это был гоголевский «Ревизор».Ничего себе клерк из Техаса!— Вот не подумал бы, что в этой стране читают«Ревизора», — пробормотал он.— Никто и не читает, — незнакомец весело взглянулна Юлия и даже подмигнул. — А я вот собираюсьего поставить в Бостоне.— Вы режиссер?— А кто его знает, увидим после премьеры. Вообще-тоя изучал экономику в Йеле, благо у родителейкуча денег. Вытряхнул их порядочно, да так ничегои не кончил. Ни ума, ни терпения не хватило.Работал официантом, потом купил ферму в Австралии...Разорился молниеносно, коров от овец отличитьне мог... Родители прислали денег на обратнуюдорогу, но я уехал в Кению. Отлавливал зверей дляГамбургского зоопарка. Замечательная была работа,но пришлось бросить: не поладил с одним клиентомиз семейства кошачьих. — Он отвернул рукав, и Юлийувидел шрам, косо пересекающий руку молодого человекаот локтя до запястья. — Ну, а потом я уехал вПариж. Купил прогулочный катер и два сезона каталпо Сене туристов. Это было полезно, я выучил французскийязык. В Париже я познакомился с англичанкой,влюбился без памяти и отправился за ней в Лондон.Ее отец держал книжную лавку, и я работал унего продавцом. Очень много книг прочел, вы не поверите,но я прочел всего Шекспира и сам даже напи-174
сал пьесу. Дэзи, моя девушка, говорила, что не хужеПристли. Мы пытались продать мою пьесу, но ничегоне вышло. А все же я понял, что театр — мое призвание.И я вернулся домой и окончил отделение драмыв Массачусеттском университете. Угадайте, какуюроль мне дали в дипломном спектакле?— Судя по вашей внешности, что-нибудь героическое.— Я сыграл Гамлета. После спектакля мой профессор,потрясающий, кстати, парень, пригласил меняужинать. И, знаете, что он сказал? «Послушай, Стив,я преподаю драму двадцать три года. Я видел «Гамлета»во всех странах мира, включая ЭкваториальнуюАфрику, Советский Таджикистан и Соломоновы Острова.Ты самый плохой, самый бездарный Гамлет вистории драматического театра». «Что ж, — говорю,— теперь делать? Мне без театра не жить». И онпосоветовал мне заняться режиссурой. Но как? Нужноснимать помещение, найти ребят, сколотить труппу,платить зарплату. На всё нужны деньги, а старикимои слышать об этом не хотели. В общем, я отправилсяв Голливуд. Окончил школу трюковых актерови два года дублировал «звезд». Платили мне кучуденег, и теперь я в порядке... Вот еду домой ставитьлюбимую свою пьесу...Стив тараторил без умолку: и о «потрясающем»парне, который написал для «Ревизора» музыку, и одругом, который придумал «потрясающие» декорации,и о «самом потрясающем», который будет игратьХлестакова.Юлий слушал восторженные Стивовы рассказы,прикрыв глаза, и грызли его зависть, и жалость, и горечь,и презрение к себе. Вот что значит «родитьсясвободным», не терять ни секунды из отпущеннойтебе жизни и быть хозяевом своей судьбы. Вот чтоможно успеть, если не валяться с переполненной пе-175
пельницей на животе, проклиная континенты по обестороны Атлантики.— Вы знаете, Стив, я русский... Возможно, моисоветы смогли бы оказаться полезными...— Правда? Это же потрясающе, просто невероятно!Я чувствовал, что мне повезет с самого начала!Давайте ваш телефон, я на днях позвоню.Когда автобус подошел к Бостонскому вокзалу,Стив пулей взлетел с места, приподнял диковиннуюсвою шляпу и, поклявшись, что будет «ин тач», смешалсяс толпой. Юлий хотел было выскочить вместес ним, но замешкался в проходе, пропуская негритянкус кучей детей. Когда же, наконец, он добрался до двери,то заметил на ступеньке автобуса оброненныйСтивом клочок бумажки со своим телефоном...В воскресенье под вечер движение на Юлиной улицезамирает. Автомобили уже привезли своих хозяев спляжей и пикников и пришвартовались к тротуарам.В окнах мелькали голубые блики телевизоров, и оттудадоносились предсмертные вопли, автоматныеочереди и дьявольский смех. Перед Юлиным домомразгружали грузовик с мебелью.Юлий вошел в подъезд и сунул палец в дырку почтовогоящика. Разумеется, там было пусто. Но чтотов металлическом ряду этих ящиков показалось емунеобычным. Это «что-то» было полоской бумаги,небрежно прицепленной поперек соседнего ящика.Связав этот факт с разгружающимся грузовиком,Юлий сообразил, что кто-то въехал на площадку напротивего квартиры.— Ну-с, и кого мне чёрт послал в соседи, — близорукоприщурился он, пытаясь разобрать фамилию.Красные буквы на белой полоске разъехались, потомсобрались в гармошку и снова выстроились в чинныйряд, провозглашаяСЮЗАННА ГРИМПСОН— О Господи, — пробормотал Юлий и, держась176
за перила, начал медленно подниматься наверх. И тутон услышал сперва повизгивание, а потом безумный,захлебывающийся Фигин лай. Дверь напротив егоквартиры была открыта настежь, в проходе стоялистаринные клавесины. Юлий сел на корточки и сталискать под ковриком свой ключ.— Ка-ак хорошо, что вы, наконец, приехали, —раздался за его спиной чуть заикающийся женскийголос. — Ваша собака ужасно грустила. Если бы я знала,что вы оставляете тут ключ, я взяла бы ее погулять.Юлий вздрогнул и вскочил так внезапно, что вспине его что-то клацнуло, и он рявкнул от боли, так ине открыв свою дверь. За ней бушевала, задыхаясь отстрасти, его Ифигения. На площадке стояла девушка.Одета она была во что-то легкое и светлое, и волосыу нее были светлые, и светлые глаза, и звонкий светлыйсмех, с которым она, взмахнув рукой, вскричала:— Да открывайте скорей дверь, не мучьте собаку!Юлий что-то промычал, повернул ключ и юркнулво тьму Гексаэдра.В центре на полу темнели свидетельства Фигиногоодиночества. В углу валялась кипа старых газет. Изкрана с удручающей равномерностью капала вода,минуя, однако, лежащую на боку кружку с тропинкойзастывшего кофе. Немытые окна едва пропускалисвет, в воздухе витал легкий запах тараканьей смерти.Ифигения скакала, как резиновый мяч, норовя поцеловатьЮлия в губы. Почему-то он пнул ее ногой, иФига, заскулив, забилась под стол. Юлию захотелосьвыпить, но мерцающая на подоконнике водочная бутылкабыла безнадежно пуста. Он открыл холодильник.и встретился с тарелкой недоеденной вермишелии бутылкой кетчупа. В поле зрения не валялось ниодного окурка — в приливе случайного «чистолюбия»он вытряхнул перед отъездом пепельницу. Юлий повалилсяна диван.177
— Да придет ли этому конец? — простонал он,определенно имея в виду свое существование. — Кончитсяли когда-нибудь этот бессмысленный бред? —спросил патетически у чернеющего рядом телефона.Ответом был пронзительный звонок. Юлий взлетел сдивана.— Гулять, Фига, гулять! — заорал он, спасаясьот новой угрозы. Собака юлой вертелась у его ног,телефон продолжал надрываться.— Возьми себя в руки, параноик, — приказалсебе Юлий и снял трубку.— Добрый вечер, говорит Айзек Гринблат. Надеюсь,вы доехали без приключений?— О, большое спасибо, мистер Гринблат, я ужеполчаса, как дома.Юлий тяжело дышал, у него тряслись руки.— Ну и прекрасно, приезжайте снова. И... позвонитекак-нибудь, если будет время. Только, пожалуйста,не стесняйтесь, звоните «коллект». Всего доброго,мой друг, не забывайте старика... — МистерГринблат повесил трубку.Юлий взял собаку на поводок и вышел на лестницу.Дверь напротив была закрыта. Он на цыпочкахспустился вниз и покосился на почтовый ящик.Надпись не исчезла. Юлий пересек улицу и уставилсяв окна ее квартиры: там было темно. Юлий дошелдо школьного парка и выпустил Фигу на свободу.Обезумевшая от счастья Ифигения понеслась по аллее,насмерть распугав белок, не успевших вовремя убратьсяс дороги. Юлий остановился у ограды. Перед нимподнималась живая стена сумаха с вертикально торчащимишоколадными шишками. Некоторые уже побагровели,да и в темной зелени он заметил несколькопурпурных, как языки пламени, листочков. Закатноесолнце уже набросило на кроны вязов золотистуюпаутину, над Юлиной головой бесшабашно перекликалисьптицы.178
— Не майся дурью, — строго сказал себе ЮлийНисон. — Дочери Джо Гримпсона, если она когданибудьсуществовала, теперь должно быть около сорокалет. И печень ее истерзана наркотиками. А девочкаэта... Сюзанн Гримпсонов в Америке столькоже, сколько в России Валь Петровых или Тань Смирновых...Десятки тысяч... Проверь по телефоннойкниге...Юлий глубоко вздохнул и внезапно ощутил влажный,теплый, еле уловимый запах осени. И в головуего пришли давно забытые гениальные слова.Уж небо осенью дышало,Уж реже солнышко блистало,Короче становился день.Лесов таинственная сеньС печальным шумом обнажалась...Юлий Нисон без всякой видимой причины улыбнулся,на глаза его навернулись слезы. И так как мирвокруг себя он воспринимал не непосредственно, ачерез магический кристалл киноассоциаций, то тут жевспомнил, что так же сквозь слезы улыбались Мазинав «Ночах Кабирии» и Чаплин в «Огнях БольшогоГорода». Неуверенная, робкая улыбка, поднимающаясяв последних кадрах из глубины их растоптанных,раздавленных душ, несомненно означала надеждуна грядущее чудо.Недаром же много лет назад писал об этих улыбкахв своих газетных рецензиях московский кинокритикЮлий Нисон. т? inoiГленко — Бостон, 1981ШТЕРН Людмила — родилась в Ленинграде, окончила Горныйинститут и Ленинградский университет, кандидат геолого-минералогическихнаук. В 1976 г. эмигрировала в США. Живет в Бостоне.Печаталась в журнале «Время и мы», «Новом Русском Слове»,«Вашингтон Пост», альманахе «Часть речи».179
Игорь Ч и н н о вЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ* **Окружена публичными домамиСтариннейшая церковь в Амстердаме.В любом окне по непречистой даме.И прислонились к стенке писсуараМладой турист, девица и гитара.Над ними свет закатного пожара.И отражается в воде каналаКрасавица с таблеткой веронала.Она стареет — и она устала.И тридцать три малайца-сутенера(Для девочек непрочная опора)К двум неграм подошли — для разговора.И девочка, купившая наркотик,Ругает их, кривит увядший ротик.К ней ковыляет бледный идиотик.Свобода выбора... свобода воли...А если всем определяет ролиСам Саваоф на огненном престоле?
МИМО МУМИЙМимо мумий! Мимо мумий! Мимо мумий(Трупов!.. Размалеванных матрешек!)Мы прошли, мрачнея от раздумий,В легкий мир фарфоровых пастушек.И в гирлянды нежные вплеталась,В тонких пальцах розовела роза.Беленькой овечкой забавляласьМилая распутная маркиза.И ценя изящные искусства,Мы прошли в нарядный зал распятий.Там рубины осыпали густоТернии — и раны у запястий......Как могли ту кровь, тот пот, те мукиВ золото оправить ювелиры?Как могли художники тот ужасПревращать в картины и скульптуры?Бог в музее... Все-таки печальней,Что замученный Спаситель мираУкрашает розовые спальни,Заменяет пухлого амура.PALAIS DE JUSTICEДворец ПравосудияВ Брюсселе есть.Его МногопудиеЗначит: Месть!Он символ насилия,Армагеддон!
В нем злая Ассирия,Злой Вавилон.Судья и важный и грозный:«Ваша честь!»А там в Брюсселе бронзовыйМальчик есть.Стоит мальчишка голенький,Виден весь.Что было бы, вздумай маленькийПить и есть?Придя на базар,Он украл бы полрыбыИ его привели быВ грозный зал.В торжественном залеСтрашно ему.Злые судьи послалиВ злую тюрьму.Но он убежал —Он очень мал.Никто не заметилИ дождь хлестал.Бежал сквозь мглу —Неважно ведь, где:Стал на углуПо малой нужде.На узенькой уличкеМальчик стал.Пускает струечки.Вот нахал!
Скалы вековечнейПалэ де Жюстис.Но человечней —Мэннекен-пис!* **— Все будет прекрасно, — сказал Гавриил Азраилу:Небесные силы разгонят нечистую силу. —— О, если б скорее! Здесь трупы святых полководцев.Убил Заклинателя Змей Отравитель колодцев.О, если б скорее! Мне грустно, мне Зло надоело,Наскучило Зло, я тоскую в краю Вельзевула.И темный Борей навевает кручину рутенам,И тучи глухие над тихим твоим Борисфеном.И злобный стервятник уносит к чудовищам темнымТу светлую душу, ту Деву — мы знаем, мы помним.А все-таки верь, что достанется Свету победа,Что снова к Персею, сияя, летит Андромеда,Что срубит герой, разрубив наши рабские узы,Смертельную голову многозмеиной Медузы.Мне снится, что Зло обезглавлено светлым Персеем.Мы ждем — но дождаться, мой друг, мы уже не успеем.183
Мертвый в КремлеВ случае такой фигуры как Леонид Брежнев труднопридерживаться отчеканенного еще древними римлянамиправила: «О мертвых — только хорошее». Словасоболезнования из некоммунистического мира, которыепоступают в эти дни в Кремль, большей частьюявляются лишь выражением предписанной по протоколускорби. Однако среди них встречаются и хвалебныегимны, которые производят такое же мучительноевпечатление, как «братские поцелуи», которыми обменивалисьзападные политики с умершим.Брежнев был преемником Ленина и Сталина и угнетателемвеликого русского народа. Но это еще не все.С помощью доктрины, которая носит его имя, былиподавлены порывы к свободе в Чехословакии. Он отдалприказ о кровавом порабощении Афганистана. На немлежала ответственность за уничтожение профсоюза«Солидарность» в Польше.На Западе имеются фальсификаторы истории, которыевозносят Брежнева как миротворца и апостоларазрядки. На самом деле он использовал политикуразрядки для того, чтобы создать еще большее военноепревосходство Советского Союза в Европе.Как умирает такой человек как Брежнев? Когда умиралЛенин, он должен был бы сказать следующее: «Ясделал большие ошибки. Меня охватывает смертныйужас: ибо я ощущаю себя утопающим в море крови, вкрови бесчисленных жертв. Но слишком поздно. Дляспасения нашей родины, России, теперь были бы нужныдесятки таких людей как Франциск Ассизский».Мелькали ли подобные мысли в голове Брежнева вего последние дни и часы — мы никогда не узнаем.Фразу великого испанского философа Доносо Кортеса,что только святые могли бы спасти мир, — Брежнев,видимо, никогда не слыхал, а если бы и услыхал, то,вероятно, никогда бы не понял.АксельШпрингер
Россия и действительностьБорис С у в а р и нПЬЕР ПАСКАЛЬ и СФИНКС22 июня 1982 г. выдающемуся французскому слависту ПьеруПаскалю исполнилось 92 года. Друзья и многочисленные ученикизамечательного ученого составили в его честь сборник статей и воспоминаний.Особое место занимают в сборнике воспоминания БорисаСуварина, перевод которых публикует «Континент». Они представляютзначительный интерес по многим причинам. Прежде всегорассказ идет о событиях, происходивших в Республике советов в1920-24 годах, — свидетелей этого времени уже не осталось. Ещеважнее, что о происходившем в далекие годы конца военного коммунизмаи начала нэпа, заката ленинской власти и зари власти сталинской,рассказывают французы, поверившие, что большевистскаяреволюция — начало Нового мира.Важнейший феномен XX века — «триумфальное шествие» помиру идеологии, названной марксизмом-ленинизмом. Причиныуспехов этой псевдорелигии не выяснены еще до конца. ВоспоминанияБориса Суварина помогают понять источники соблазна: глубоковерующий католик лейтенант Пьер Паскаль, член французской военноймиссии в России, переходит на сторону революции; Борис Суварин,молодой социалист, вернувшийся из армии после окончанияпервой мировой войны, становится коммунистом. Разными былипобудительные причины: Пьер Паскаль, впервые посетивший Россиюв 1900 г. для работы в архивах над письмами Жозефа де Местра,увлеченный идеей вселенской церкви, проповедуемой ВладимиромСоловьевым, друживший с Н. Клюевым и С. Есениным, поверил,что большевизм возродит Россию; Борис Суварин, пережившийстрашную трагедию войны, поверил, что коммунизм навсегда покойчитс войнами, принесет братство народам.Зигзаги политики правящей партии, бытовые условия жизнисоветских граждан, активность чекистов, проникающих всюду, —рождают первые сомнения у верующих в коммунизм. Редкое достоинствовоспоминаний Бориса Суварина в их подлинности: автор185
не приукрашивает прошлого и себя — он рассказывает о том, какимон видел мир 60 лет назад. Легко быть прозорливым и мудрым,«угадывая назад», трудно признаваться в просчетах и ошибках.Кто-то заметил: коммунизм — замечательная идея, имеющаятолько один недостаток, — она осуществима. Борис Суварин рассказывает,как Пьер Паскаль, он сам и небольшое число их друзей обнаружилив первую половину 20-х годов осуществимость коммунизма.„ПереводчикМой первый контакт с Пьером Паскалем относитсяк началу 1920 года: я получил пересланный нелегальнымпутем его отчет о группе англо-французскихкоммунистов в Москве, по случаю первой годовщиныэтой группы, основанной в 1918 г. Он был^ секретаремэтой группы. В то время почтовых связей сРоссией не было, либо они были запрещены. Поэтомуоб этой группке не было ничего или почти ничего известно:ни ее состав, ни ее малочисленность. Вначалеона насчитывала около дюжины членов, не всегдафранцузов по национальности, но говоривших пофранцузски.Среди них было несколько бывших членовофициальной военной миссии, посланной в Россиюдо революции: лейтенант Паскаль, капитан Садуль,солдаты Марсель Боди, Робер Пети, Гельфер.Я опубликовал отчет Паскаля в «Bulletin communiste»от 1 апреля 1920 г. Его необходимо читать иперечитывать, чтобы понять состояние духа первыхадептов советского коммунизма и Третьего интернационала,увлеченных юношескими иллюзиями и утопистскимиошибками русской революции, которуюназывают «Октябрьской». Отчет заканчивался выражениемнадежды этой группы, на этот раз французской,«способствовать со своей стороны революции исозданию будущей универсальной Республики советов».Примерно через четыре года, после смерти Ленина,мы узнали из статьи Пьера Паскаля «Ленин ифранцузские рабочие» («Correspondance internationale»,186
№ 9, Вена, 6 февраля 1924): «Ленин лично руководилпервыми шагами французского коммунизма. Маленькаягруппа французов, собравшаяся в Москве в 1918 г.,начала с осени этого года выпускать небольшой еженедельныйжурнал пропаганды и информации «La 3 е Internationale»,предназначенный для солдат оккупационногокорпуса и французских рабочих. Ленин был вдохновителемэтого листка. Через товарища ИнессуАрманд он постоянно передавал свое мнение о статьяхи советы на будущее».(Во Франции мы никогда не видели этого журнальчика,как не видели других публикаций группы— листовок, брошюр: «санитарный кордон», воздвигнутыйКлемансо, ничего не пропускал. С большимтрудом мне, историку и документалисту, удалось гораздопозднее их найти. Но в годы войны ГПУ и Гестапо,действуя рука об руку, украли во время немецкойоккупации Франции мою библиотеку и архив.)Об этой франко-московской группке, ее короткойи скорее символической деятельности, внутреннейжизни, раздорах и личных ссорах, побудивших советскихруководителей распустить ее в 1921 г., есть толькоодно свидетельство — Марселя Боди, опубликованноев 1965 г. в Женеве. Подробнее он рассказываетобо всем этом в своих мемуарах «Годы России.1917—1927» (Париж, 1981). Два члена этой группыоказали реальное влияние на Францию: капитан Садульсвоими письмами и лейтенант Паскаль своимистатьями — они славили советскую революцию и пропагандировалиидеи, которые она распространялапо всему миру.В 1921 г., когда я впервые приехал в Москву сфранцузской делегацией на третий конгресс новогоИнтернационала, мы не знали почти ничего ни о советскойдействительности, ни о разногласиях средикоммунистов. (Я должен говорить «мы», ибо это относитсяне только ко мне.) Это был год, когда Ле-187
нин, под неумолимым давлением опыта, решил осуществитьглубокую реформу своей экономической политикии начать совершенно новую, нэп, и когда вспыхнуловосстание моряков Кронштадта против невыносимойгегемонии большевистской власти. Официальнаяинформация была в это время единственным источником,питавшим нашу жажду знаний. Первыедружеские связи были установлены с Паскалем, которыйработал переводчиком в аппарате Коминтерна.Что знали мы в этот момент о его взглядах, убеждениях,мыслях?Мы читали его доклад о «Моральных результатахсоветского государства», напечатанный в апреле 1921 г.в «Cahiers du Travail». Интерес к моральным проблемам,выраженный в заголовке, возбуждал доверие.Он писал: «Холодный анализ материальных условий,исторический материализм, лежащий в основе философиии политически научного социализма, не должензаставить русских марксистов забыть, что конечнаяцель — это всегда человек, человек в обществе, нотем не менее человек. Марксизм отличается от другихтак называемых гуманитарных доктрин не тем,что, как считают, он отрицает все моральные, духовныеи сентиментальные ценности, впадая в материализмв вульгарном смысле этого слова, но тем, чтоего разумный материализм позволяет учитывать всереальности, помещая каждую на свое место».Необходимо перенестись духом в условия тойэпохи, чтобы понять, насколько убедительным былэтот язык для читателей нашего возраста и нашеготипа. Нельзя ничего понять в поведении одних и других,тогда и в наше время, не принимая во вниманиекардинальных изменений, происшедших с той порыкак с фактами, так и со смыслом слов. Паскаль, ссылаясьна Ленина, писал: «Ленин заявил, что приходитвремя, когда каждая кухарка должна научиться управлятьгосударством». Минуло 60 лет, но сколько ку-188
харок можно насчитать среди 319 членов и 151 кандидатав члены ЦК партии, высшей государственнойинстанции?Перед отъездом в Москву я опубликовал в «Bulletincommuniste» (№ 21-22, 26 мая 1921 г.) статью Паскаляо новой экономической политике советского правительства,о нэпе, который глубоко взволновал многиеумы. Статья была очень дидактической и успокаивающей.Принятые новые меры, писал Паскаль, «симптомпрогресса. Они позволяют советской республикевыйти из периода риска, лихорадки, вынужденнойотваги и вступить в эпоху, быть может, более блестящую,но в которую ежедневный прогресс, а в результатефинальный успех обеспечены более, чем когдалиборанее». Россия, настаивал Паскаль, имеет право«сочетать методы революционные и методы буржуазные».Он писал одновременно относительно «болезненныхконтрастов» — результатов нэпа: «Кромеэтого пути, есть ли иной выход, не считая анархизма,прекрасного как идеал, но не как политическая линия?»В это же время я издал также сборник текстовПьера Паскаля «В красной России». Книга получилаширокое распространение и оказала значительное влияниена формирование наших взглядов на советскийрежик. Москва произвела на французскую делегациюочень благоприятное впечатление, подтверждающеесвидетельство Паскаля. Русское лето нас очаровало.«Военный коммунизм», как назвал Ленин предшествующийпериод после его окончания, казался злымсном. На его место пришел нэп, ожививший экономику,стимулировавший торговлю и обмен, способствовавшийоткрытию магазинов и заполнению ихвитрин. По оживленным улицам фланировали прохожие,женщины в кокетливых туалетах, мужчины всветлых толстовках, веселые, шаловливые дети. ВБольшом театре и МХАТе залы были полны, нашлисьи для нас (привилегированных) билеты. Наконец, хотя189
это классический штамп и, употребляя его, я рискуюпоказаться смешным, я должен вспомнить... о русскойдуше, о знаменитом славянском шарме, который вовсене выдумка, но реальность, к ней я был и остаюсьвсегда чувствителен. Как не поддаться очарованиюрусского языка, русской музыки? Это, конечно,не имеет ничего общего с коммунизмом, но оказываетсвое влияние на впечатления гостя.Иностранцы, мы, конечно, не имели связей с населением.Искали встреч с нами лишь несколько анархистов,говоривших по-французски. Они жаловались,но принимали государственный режим, противоречившийих принципам. Кое-кто из анархистов сиделв тюрьме. Мы рассматривали их арест как один изрезультатов совсем недавней гражданской войны иобращались в разные инстанции, добиваясь освобождения.В это время товарищеские узы между намии ними были совершенно естественны.Во время конгресса я встречался с Паскалем ежедневнов Кремле, где шли заседания, либо в помещенияхКоминтерна. Но у меня было много работы изабот, связанных с моей ролью одного из руководителейделегации, имевшего к тому же несчастье читатьпо-русски и по-английски. Это вынуждало менязаниматься многими делами, хотя я говорил по-английскис парижским акцентом, а по-русски с синтаксическимиошибками и путаясь в склонениях. Послеокончания конгресса, когда делегаты разъехались, вКоминтерне установилась относительная тишина, имои ежедневные встречи с Паскалем связывали нас всеболее тесными дружескими отношениями. Очень полезнымидля меня, новичка, ибо он знал все, что я хотелзнать о России и ходе угасавшей революции.В скромной комнате «Малого Парижа», дома вЛеонтьевском переулке, неподалеку от гостиницы«Люкс», в которой я жил, гостеприимство было простыми братским. Имелся кипяток для чая и стран-190
ный эрзац чая из сушеной морковки или чего-то еще,а также буханка черного хлеба, чтобы заморить голод(нэп не решил мгновенно всех продовольственныхпроблем). Евгения Русакова, милая и преданная секретарша,старалась изо всех сил, чтобы достойно встретитьгостей. Ежедневно жизнь подсказывала множествовопросов, задаваемых хозяину. Он отвечал наних иногда осторожно, иногда с откровенной точностью,поражая нас.Как правило, Паскаль никогда не стремился повлиятьна собеседника. Чувствовалась его сдержанностьпо ряду вопросов и нужно было дожидатьсядругих встреч, чтобы подходить все ближе и ближе кответу на щекотливые темы. Спустя некоторое времямне стало понятно, что введение нэпа и подавлениевосстания в Кронштадте вызвали у него глубокое разочарование.По этим вопросам, осторожно затронутым,он не выражал своих взглядов ясно и отчетливо,но тон и нюансы в его высказываниях открывали новыегоризонты.От всех наших русских и французских знакомых вМоскве Паскаля отличало подлинное знание подлинногонарода, его близость к рабочим и крестьянам,понимание их забот и надежд. Крестьянин инстинктивнонедоверчив и молчалив при встречах с горожанами,но Паскаль был своим среди деревенских людей, умеяговорить с ними, а главное, их слушать. Одетый втолстовку и простые сапоги, чаще всего с непокрытойголовой, он не казался иностранцем в деревне, гдевел искренние, непринужденные разговоры. От негоя многому научился еще до того, как прочитал книги,написанные им о крестьянской цивилизации в России.Делегаты конгресса разъехались, а я остался вМоскве как член Исполкома Коминтерна, его президиумаи секретариата. Дополнительно мне поручилизаведовать отделом печати. В мои функции входилаорганизация периодического органа Коминтерна «Меж-191
дународные корреспонденции», выходившего на трехязыках и печатавшегося сначала в Берлине. Мой другПаскаль сотрудничал в журнале до смерти Ленина.Упомянутая выше его статья о Ленине была последней.Когда я спросил его, почему он больше ничегоне пишет о России, он на мгновение заколебался, потомответил: «Некоторое время знаешь слишком мало.После определенного времени знаешь слишкоммного...»Как французскому представителю в Исполкоме,мне приходилось в 1922 г. делить свое время междуФранцией и Россией. Естественно, я должен был присутствоватьв Москве на заседаниях Исполкома и наконгрессе. После каждого возвращения в «Люкс» 4 первыйвизит я наносил Паскалю. Часто я встречал унего общих друзей, в том числе Николая Лазаревича,анархиствующего профсоюзного деятеля, и его другаФранческо Гецци, итальянского анархиста, бежавшегоот фашизма в Советский Союз. Так минуло два года.Смерть Ленина в 1924 г. поставила все это под вопрос.Вырвались наружу глухие личные антагонизмы,разъедавшие «верха» единой партии и советского государства,подлинных олигархий, как открыто говорилЛенин. Одним из первых результатов этой внутреннейборьбы, возможно, не очень серьезным, новажным для меня, было мое исключение из Коминтерназа нонконформизм и недисциплинированность (единственныйв своем роде, я выступил против кампаниипо шельмованию Троцкого, организованной всеведущимии всемогущими партийными руководителями).Исключение было временным, с испытательным срокомв один год, с тем чтобы допустить мое возвращениев случае примерного поведения, т. е. подчинениякремлевским властелинам, к чему я совершенно не былрасположен. Во всяком случае, меня считали комму-192
нистом, временно отстраненным, и дали путевку вКрым — для размышлений.Это было очень удачно, ибо Паскаль, Лазаревичи Гецци, опередив меня, создали в Ялте братскую«коммуну», где летом можно было принимать друзей,привлеченных этим очаровательным местом.С ними были Евгения Русакова, которая потом станетженой Паскаля, и другой итальянский анархистэмигрант,подлинный пролетарий Тито Скарцелли.К ним присоединились две сестры Лена и Валя Давидович,их мать Анна, затем их двоюродный братВиктор. Приехал Петр Лазаревич, брат Николая, членпартии, человек мягкий и мирный, полная противоположностьэнергичному и непримиримому брату.Я называю эти имена, как они приходят в голову, незаботясь о хронологии приездов и отъездов.Когда я присоединился к этой симпатичной компании,нас было всего несколько: другие приезжали,уезжали. Я вспоминал о Паскале, члене этой «коммуны»,когда полвека спустя писал о Николае Лазаревиче(Est et Ouest, JVfe 584, Париж, 16. 12. 1976). Помогаясвоей памяти, процитирую эту статью, добавивнесколько деталей.«Наша малюсенькая коммуна владела садом, покинутымпрежним владельцем-болгарином. Местныйсовет передал его двум друзьям, итальянским анархосиндикалистам,бежавшим от фашизма, ФранческоГецци и Тито Скарцелли. Их хорошо знал Лазаревич.Он пригласил Пьера Паскаля, и всё вместе они обрабатывализемлю, превратив ее в цветущий сад. В доме,разрушенном в гражданскую войну, не оставалосьни дверей, ни окон, но в южном Крыму, с его райскимклиматом, это не имело значения. Овощи и фруктыиз сада почти целиком удовлетворяли все наши потребности.Вокруг постоянного ядра обитателей вращалсякруг проезжих гостей. Посмеиваясь, мы насчитали,что они представляют 16 тенденций или оттен-193
ков. Среди них не было только сторонников официальнойлинии».Среди дюжины обитателей, кроме уже перечисленных,следует назвать Ивона Гюинёфа, француза,ставшего сибирским лесником. После возвращенияво Францию он написал два великолепных свидетельства,по-настоящему заслуживающих доверия: «Чтостало с русской революцией», с предисловием ПьераПаскаля, и «СССР как он есть», с предисловием АндреЖида. Несколько дней жил у нас другой француз —Огюст Эркле, профсоюзный деятель. Я сохранил впамяти писателя и переводчика Соболева (забыл егоимя), утонувшего во время неудачного опыта в Москвареке.(Тито Скарцелли тоже погиб в результата трагическогонесчастного случая.) Жил с нами даже чекистМильграм, сторонник «Рабочей оппозиции», руководимойШляпниковым и Коллонтай. Чтобы понятьприсутствие среди нас чекиста, необходимо постояннопомнить, как время меняет смысл понятий: слова,вещи, люди переживают глубокую трансформациюпри переходе из одной эпохи в другую. Я вспоминаюо событиях 1924 года. Мильграм станет жертвой кровавых«чисток», организованных в ГПУ и ГПУ поприказу Сталина. (Наш друг Гецци, сосланный в Сибирь,погибнет в одном из лагерей ГУЛага.)Лишь упоминания заслуживает неожиданный визитВладимира Деготя, любопытного типа, закоренелогостарого большевика, бывшего важного агентаКоминтерна в Италии и Франции. Но хорошо запомнилсямне визит Владимира Базарова (Руднева), известногоэкономиста и философа, переводчика «Капитала»Маркса, старого социал-демократа (большевика),ставшего диссидентом вместе с Максимом Горьким,с которым он близко сотрудничал в «Новой жизни»(парижским корреспондентом которой я был в1917—1918 гг.). Крепко сложенный, хороший ходок,он пришел к нам пешком, с рюкзаком за спиной. Од-194
нажды вечером, под таким звездным небом, котороея видел только в Крыму, он прочитал нам увлекательнейшуюлекцию по астрономии. (И он погиб во времярезни, организованной Сталиным.)Наш быт в Крыму был простым и скромным.Поразительно плодородная почва и постоянное сияющеесолнце позволяли собирать несколько урожаевовощей в год. Мы складывали в огромный котел все,что собирали за день. Особенно хороши были помидоры,приобретающие в крымском климате неповторимыйвкус: это скорее сочные фрукты, чем овощи.Кухонные обязанности исполнялись всеми по очереди.Мы покупали в складчину только хлеб и вино, оченьредко мясо, и наслаждались овощами с нашего огорода(вино можно было найти только у сосед-татар).Однажды, дежуря у котла, я обнаружил, что Паскаль,собиравший помидоры, принес мне вперемешкукрасные и зеленые. Я пошутил на этот счет, чем привелего в удивление. «Я собираю зеленые помидоры?»,— удивился он. Когда я, чтобы доказать, уложилзеленые и красные помидоры один возле другого,Паскаль возразил: «Не вижу разницы». Мы поняли,что наш друг — дальтоник, о чем он сам не подозревал.Он мог спутать зеленое знамя Магомета с краснымфлагом Ленина. Его освободили от сбора помидоров.Так спокойно мы жили до осени. Единственнымпроисшествием был ночной тропический ливень, шквалыкоторого, казалось, поднимали дом, а порывистыйветер заполнил помещения, не имевшие окон и дверей.Утром все успокоилось и под ясным небом последниеобитатели принялись собирать поломанные ветки— следы урагана. Паскаль и Лазаревич вернулись ксвоим делам в Москве, не помню уж, до или послеливня. Нас осталось только трое или четверо.Я не спешил возвращаться в Москву, не зная, чтоменя ожидает. Я намеревался остаться в России, не195
занимаясь политикой, жить в народе, совершенствоватьязык, изучать условия жизни и проблемы страны,идущей, как тогда думали, к социализму. В октябрепришла неожиданность, внезапно, как ливень: судьбарешила иначе. Посреди ночи, когда мы спали, ворвалисьагенты ГПУ: они искали человека, давно ужеуехавшего (Лазаревича), и забрали все, что попалоим под руку. Я предъявил совнаркомовский пропуск,выданный мне как члену высшего руководящего органаКоминтерна (его забыли у меня отобрать), и меняоставили в покое. Однако надо было уезжать и вскоремы с Леной отправились в дорогу.В Москве у каждого были свои заботы. Меня ждалинепредвиденные испытания, не говоря о главномделе, которое я считал своим долгом (мой поспешныйотъезд из Крыма был ускорен известием об аресте вМоскве многочисленных товарищей, которых надобыло вырвать из когтей ГПУ).После моего долгого отсутствия у меня не быложилья. Мне пришлось обратиться в Коминтерн. Этимиделами занимался Бела Кун. Он меня сначала встретилхорошо, завел дружеский разговор, стараясь выведатьмое настроение, а в заключение спросил, признаюли я «свои ошибки» (это была стереотипнаяформула капитуляции непокорных). Я ответил, чтохотя и совершал ошибки, как все люди, но во всякомслучае не те, какие он имеет в виду. Бела Кун бросилкоротко и резко: «Тогда комнаты нет...»Я вышел с гордым достоинством, но сильно обеспокоенный(мягко выражаясь) бездомностью: шламосковская зима, в «Люксе» места для меня не было,а в сверхпереполненной столице даже иголку некудабыло поместить. Но «широкая русская натура» можетсовершать чудеса: приятельница, знаменитая певицаКоровина, выделила мне в своем малюсенькомкоридорчике кушетку. Потом я нашел пристанище в«Метрополе»: Леонид Петрович Серебряков, бывший196
тогда наркомом, жил широко, у него было две комнаты,в одной из них он дал мне диван... И я целикомотдался помощи моим ялтинским товарищам,исчезнувшим в подвалах ГПУ.Я по-прежнему вел себя как коммунист, и менясчитали им. Эра Ленина заканчивалась, эпоха Сталинаеще не началась, переход не имел ясно определенныхчерт. Мой совнаркомовский пропуск позволял мнебез труда проникать на Лубянку, где я знал Агранова,Трилиссера, Роллера, не говоря о Мильграме. Но ямог защищать невинных и лично перед Менжинскими Уншлихтом. Не знаю, в какой степени мое вмешательствоповлияло на судьбу арестованных. Но в Париже,в архиве моего друга синдикалиста Пьера Монатта,была найдена копия моего письма, рассказывающегофранцузским друзьям о тогдашних событиях.Я привожу этот документ, отражающий обстановкуэпохи очень самоуправной, но еще не тоталитарной.В нем упоминается Паскаль, мои опасения на его счет,пока продолжалась тревога.Это письмо, датированное октябрем 1924 г., былоотправлено только в конце года — нужно было обойтиочень строгую цензуру и дождаться верного человека,с которым можно было его отослать. В ноябре я добавилпостскриптум, но письмо отправил только 23 декабря,когда наконец представилась верная оказия.«Москва, 22 октября 1924Я поспешил с отъездом в связи с фактами, которыедалее излагаю в сжатом виде. Неожиданно мыузнали об аресте в Москве Лазаревича, а потом Вали(сестры Лены) и Виктора (двоюродного брата Лены).Через два дня после этого к нам в Ялте ночью явилосьГПУ, произвело обыск. Тогда я понял, что дело серьезноеи надо возвращаться в Москву, чтобы помочьдрузьям. Поэтому Лена и я собрались и поехали.197
Здесь я обнаружил, что дела еще хуже, чем я опасался.Я знал, что Николай Лазаревич все больше ибольше склонялся к синдикализму, но я не думал, чтопостепенный отход от партии приведет его к активнойоппозиции; впрочем, я еще не знаю, в какой степенион мог быть активным; я сильно сомневаюсьв том, что он делал все, в чем его упрекают; я знаютолько, что он страстно увлекался изучением электричестваи его работа не оставляла ему много временидля занятий политикой. Недавно он поступил вэлектротехническую школу при заводе, это дает возможностьстудентам половину времени посвящать занятиям,а другую половину заводской работе. Зарплатаскудная, занятия трудоемкие, студенты не щлеютвозможности отнимать у себя время для просвещениярабочих. Тем не менее, Николай вел беседы и читаллекции группе рабочих, на которых оказывал влияние.Я убежден, что он не делал ничего больше, но не могуеще ничего утверждать категорически. Как бы тамни было, его обвиняют в составлении листовки, критикующейсоветскую тайную дипломатию в связи сзаключением соглашения с Англией. Это не официальноеобвинение, ибо ГПУ никаких объяснений не дает; иузнали мы о нем не официально. Товарищ, читавшийлистовку, уверяет меня, что она написана очень плохо,видимо, малокультурным рабочим, и невозможно,чтобы Николай был ее автором. Короче, ГПУ считаетНиколая очень опасным, и я боюсь, что он будет чрезвычайноостро реагировать на свой арест. В последнеевремя он стал очень желчным и способен теперь,в поисках мученичества, наделать глупостей, которыеему дорого обойдутся.Что касается ареста Вали и Виктора, то это вопиющаяглупость. Николай жил в квартире, открытойдля всех товарищей (Мадлен Маркс вспоминает о ней198
в главе, посвященной Лене*). В последние дни в этойквартире проживали: Петр Лазаревич, коммунист, депутатмосковского райсовета; Виктор, двоюродныйбрат Лены, беспартийный, сочувствующий, целикомпоглощенный своими занятиями в техническом вузе;студент-коммунист Руднев; наконец, итальянскийанархист Скарцелли, антифашист, осужденный насмерть в Италии, эмигрировавший в Россию. Николайжил в этой «коммуне» месяц или два, он оченьподружился с Паскалем и ночевал у него. 7 октябряГПУ вторглось в «коммуну», арестовало всех обитателей,кроме отсутствовавшего Виктора. В квартиребыла сделана засада, то есть всех приходившихарестовывали. Засада действовала 48 часов, арестовалиоколо 30 человек, в том числе, например, прачку,принесшую белье, и т. п. Арестовали Валю, пришедшуюнавестить Виктора. 8-го утром Николая арестовалина улице. Что касается Виктора, то он был арестованв засаде, организованной в квартире Вали.Весь дом, в котором жила Лена, перевернули снизудоверху, обитавшие в нем буржуи были арестованыи т. д. После 48-часовой тревоги все были освобождены,кроме Вали и Виктора (и Николая, конечно),комнату Лены опечатали.Валя — настоящая коммунистка, человек необыкновенныхкачеств, она не член партии, ибо для «интеллектуалов»доступ в партию уже давно закрыт. Онане только не имеет ничего общего с нынешними идеямиНиколая, но, наоборот, ожесточенно с ним спорит,ибо он превратился в крайнего синдикалиста,отрицающего право «интеллектуалов» на существование...К тому же, она знала его только через сеструи очень мало. Да и Лена отошла от Николая с техпор — т. е. уже два года, — как он погрузился в свой* В книге «Это решительный бой! 6 месяцев в Советской России)».Париж, 1923.199
непримиримый синдикализм, ненавидя почти болезненновсе, что ему казалось «интеллектуальным». Яговорю это, сохраняя, естественно, то большое уважение,которого он заслуживает как человек.Что же касается Виктора, то сама идея, что онможет иметь что-либо общее с Николаем, не можетприйти в голову разумному человеку. Но соображенияГПУ не имеют ничего общего с разумом, и двое несчастных,случайно запутавшихся в это дело, продолжаютоставаться под замком. Университетские занятия,прерванные, быть может, навсегда, очень серьезнопошатнувшееся здоровье — такова судьба Вали иВиктора, которых нельзя упрекнуть даже в малейшейсклонности к «синдикализму». И как все это кончится?Я делаю все, чтобы разобраться в этой несчастнойистории, но все здесь долго, и медленно, и сложно.Пока я не добился ничего.Более того, можно опасаться, что из-за своей близостик Николаю будет арестован и Паскаль. Возможно,его защитит то, что он француз. Опасениявызвать внешний скандал, возможно, побудят к осторожности.Во всяком случае, я боюсь, что Паскаль,полный горечи и готовый взорваться, может из солидарностис Николаем допустить неосторожность.В Ялте ГПУ конфисковало только номера «Libertaire»,книгу Феррари «Философия революции» и три номеражурнала Малатесты. «Libertaire» адресован Паскалю.Он докладчик в ИККИ по латинским странам, в связис этим ему пересылают различные издания, правые илевые. Кое-что из этого он привез в Ялту. Возможно,что этого достаточно, чтобы причинить ему серьезнейшиенеприятности.Возможно, что мои отношения с Леной, Валей иПаскалем, как и мое пребывание в «коммуне» в Ялте,станут поводом для новых глупостей по моему адресу.Достаточно установить истину, используя приведеннуювыше информацию. Возможно, что история200
с обыском в Ялте разойдется и будет использованабуржуазной печатью как тема для фантастическихвариаций. В этом случае парижские товарищи будутзнать, что нужно делать.В Москве говорят только об арестах: профсоюзников,студентов, меньшевиков, — но у меня еще небыло времени выяснить через источники, которымможно доверять, размах этих дел. Несомненно, чтозима, усиливающая трудности жизни, способствуетросту недовольства, выражающегося по-разному. Общееположение без серьезных изменений: по-прежнемуесть предприятия, где рабочие получают зарплату сдвух- и трехмесячным опозданием. Это вызывает забастовкии так далее. Хорошая экономическая политикапокончит с анархизмом, синдикализмом и меньшевизмомгораздо лучше, чем репрессии, не всегдаобоснованные.У меня нет времени писать подробно всем и поэтомуя прошу передать это письмо Альфреду, Пьеру,Морису. Конечно, можно информировать всех серьезныхтоварищей. В этом нет никаких государственныхсекретов.Б. С.P. S. Обыск в Ялте объяснить трудно. От одноготоварища из ГПУ я узнал, что искали анархистскуюлитературу и типографию. Но население «коммуны»в своем большинстве составляли коммунисты, а несколькоанархистов и синдикалистов, живших там, занималисьтолько помидорами и зеленым горохом.Это было очень хорошо известно еще и потому, чтосреди обитателей был ответственный сотрудник ГПУ*.Незадолго до обыска у нас жили Эркле и Гюинёф(французский рабочий, член русской компартии), поспо-* Имеется в виду упомянутый выше Мильграм.201
рившие с Верой* о русских делах. Веру обуяла инквизиторскаяортодоксальность, и двое французов былизачислены в оппозицию: в результате — диспут и кислосладкиеслова. После этого Вера, проезжая Севастополь,зашла в ГПУ и рассказала там, что ялтинскаякоммуна — гнездо контрреволюции, что Эркле и Гюинёф— отъявленные враги и т. п. (Все это после того,как она пользовалась гостеприимством вышеупомянутойкоммуны.) Ко мне у нее отношение более, чемстранное. Во время конгресса она присутствовала назаседании комиссии, которая меня исключила (не имеяна это полномочий), и даже позволила себе выступитьпротив меня, заявляя, что я взял брошюру Троцкогов библиотеке на улице Пельпор в такой-то день, а^ не втакой-то (хотя у нее была квитанция с точной датой).Я не считал ее способной на такую гнусность, но послеэтого ослиного пинка я перестал с ней разговаривать.В Суук-Су я гулял в компании Эркле и встретил ее.Она кинулась ко мне, улыбаясь, с протянутой рукой.Я сделал вид, что ее не знаю, и прошел мимо. Онаостановилась, окаменевшая, а через полчаса, придя всебя, побежала за нами, подозвала Эркле, потом обратиласько мне, оправдывалась, объяснялась, кляласьи т. д. Добрая душа, я ей простил. Эркле не мог прийтив себя, глядя на эту патетическую сцену. Потом вЯлте, после споров с Эркле и Гюинёфом, она со мнойпопрощалась и нежно расцеловалась. На следующийдень, в Севастополе, облила грязью. Пусть поймет,кто может.P. S. 5 ноября.Вчера, после месяца тюрьмы, Валю освободили. ВГПУ мне обещали сегодня освободить Виктора. Делоэто представляет собой исключительный интерес какиллюстрация методов, имеющих здесь хождение.* Вера Грюнбаум, полька, была одним из курьеров Коминтерна,активно участвовала в «большевизации» французской компартии, темне менее, была убита в эпоху сталинских «чисток».202
Оба были арестованы без тени основания, как,впрочем, и другие (не менее тридцати). Достаточнобыло, что оба знали Николая, почти никто из остальныхарестованных его не знал. Следовательно, арестовываютлюдей и, применяя по отношению к нимхудшие приемы запугивания, можно сказать, терроризируяих, надеются, что они что-либо расскажут.Но там, где ничего нет, даже чёрт теряет свои права.Несчастные арестанты не могут никого видеть, неимеют защитника, не имеют права получать письма,у них нет ни книг, ни газет; они знают, что их могутобвинить в чем угодно, осудить без суда и свидетелейи выслать в «административном порядке». Следователиработают по ночам; арестованных будят в час илидва ночи, чтобы морально сломить, против них используютугрозы и посулы, фальшивые документыи инсценировки. Через месяц или месяцы кошмараневиновного выпроваживают за ворота, почти пинкомв известное место; его будят в час ночи и говорят:«Следуйте за нами». Несчастный готов ко всему — вкомендатуре ему заявляют, что он освобожден.Следует иметь в виду, что Валя не была покинута,я встречался со многими влиятельными людьми,Лена говорила с Крупской и т. д. Представьте судьбутех, кто никого не знает! И вообразите, что происходитв провинции... Дрожь пробирает.Я опускаю множество деталей, но обещаю к нимвернуться позднее. Николаю грозит, без сомнения,пять лет Сибири; предполагают, что он написал манифестпротив советской тайной дипломатии в связи срусско-английским соглашением. А между тем, онбезусловно не является его автором; стиль неуклюжийи наивный, а Николай очень хорошо пишет начетырех языках. Но говорят, что он нарочно написалплохо! В этих условиях каждый обвиняемый заранееосужден.203
Во всяком случае, острая тревога миновала. Яособенно боялся ареста Лены, она так слаба, что этокончилось бы трагично. Что касается Паскаля, то«они» настроены очень против него, но не решаютсяего тронуть, опасаясь шума за границей.Москва, 23 декабря (1924)»Я напрасно боялся. ГПУ не беспокоило Паскаляни тогда, ни позже. В действительности, его защищалоуказание высшей инстанции, относящееся ко временамЛенина. После Коминтерна Паскаль работалв Институте Маркса-Энгельса, который был основани управлялся Давидом Рязановым, умевшим подбиратьсотрудников (мимоходом отмечу, что и Ячбылв их числе до тех пор, пока Сталин не уничтожил Рязанова,его жену и почти всех работников Института).Паскаль ограничивал свою должность архивиста разборомбумаг Гракха Бабефа, купленных Рязановым,что позволило ему погрузиться в дело, которое емубыло по душе, — в чтение старинных текстов, посвященныхрусскому православию XVII в. и расколу.Так Паскаль начал работу над своей будущей докторскойдиссертацией о протопопе Аввакуме и началераскола — фундаментальным трудом, получившимпризнание у всех знатоков предмета.Николай Лазаревич, арестованный, осужденный,смог покинуть Россию благодаря кампании, организованнойв его защиту общественным мнением в демократическихстранах. Но, как я упоминал, ФранческоГецци, высланный в Сибирь, не выжил в условиях сталинскихрепрессий, которые не переставали нарастатьи ожесточаться. Петр Лазаревич, коммунист, преждевременноумер, ибо в эти трудные годы нельзя былонайти ни лекарств, ни медицинского обслуживаниядля лечения его болезни. Что касается меня, то я вынужденбыл отказаться от планов жизни в России иее глубокого изучения.204
В 1924 г., который обозначил переход к сталинизму,мои друзья из коммунистической реформаторскойоппозиции еще не стали жертвами Сталина.Они занимали высокие государственные посты. По ихнастоятельным советам, я вернулся на Запад, чтобыне быть отправленным под охраной на Восток умиратьв Сибири. К тому же я не мог вечно оставатьсяна диване у Серебряковых... (и он, когда придет время,получит пулю в затылок, а ее отправят в ЦентральнуюАзию).Мне нужно было снова явиться в Коминтерн, чтобыполучить фальшивый паспорт, ибо я приехал вМоскву по фальшивому паспорту, выданному ОМС(Отделом международных связей), секретным отделом,занимавшимся связями. Я мог выехать толькотак, как приехал. Заведующим ОМС был Осип Пятницкий,«железобетонный большевик», как его называли.Сухой и категоричный, он резко отказал мне впаспорте. «Вы должны мне его дать, — настаивал я,— Вы мне его дали для въезда, вы мне должны датьего для выезда». — «Мы ничего не должны», — отрезалон. Я настаивал: «С точки зрения морали, вы мнедолжны». — «Это буржуазная мораль», — ответилон. Я возразил: «Это просто мораль». Все было напрасно.Молча он вышел из кабинета, оставив меня вневеденье, что делать.Внезапно я почувствовал себя как в ловушке, обреченнымна вынужденную поездку в Сибирь, без надеждывернуться. Мысль эта мучала меня и днем иночью. Однако последнее слово не было сказано. Ксчастью, мои друзья из оппозиции, которая называласебя «большевистско-ленинской», в это время ещезанимали высокие посты в партийной и государственнойиерархии, и они приложили усилия. После некоторойперипетии, о которой умалчиваю, сокращаярассказ, ОМС согласился выдать мне паспорт, что исделал, не скрывая ни своего отношения, ни своих на-205
мерений: паспорт был так плохо сделан, что его подделкабросалась в глаза, — это должно было кончитьсямоим арестом в Латвии или Литве, странах, враждебныхлюдям моего покроя. Но что было делать?В январе 1925 г. я пошел на риск и сел в поезд,отправлявшийся в «Европу». В пути, прогуливаясь вкоридоре, я заметил чекиста Роллера, сидевшего вкупе; когда я сделал шаг в его направлении, он показалзнаком, что не хочет быть узнанным. Я понял ине заговорил с ним. В Себеже, на пограничной станции,поезд задержался дольше, чем полагалось порасписанию. Пограничники долго и внимательно занималисьмоей скромной персоной, обыскали меняс ног до головы, конфисковали все бумаги и документы,какие у меня были, оставив только фальшивыйпаспорт, долго звонили куда-то по телефону. Тут японял, почему Роллер ехал со мной в поезде, — выполнялзадание...Несмотря на мой разоблачительный паспорт, каким-точудом я беспрепятственно пересек многочисленныеграницы Восточной и Центральной Европы идаже французско-германскую границу. Через три дняпосле прощания с Москвой (в то время путешествиебыло долгим) я, наконец, вздохнул свободным парижскимвоздухом. Нищий как Иов (когда Иов был нищим),но обогащенный незабываемым переживанием.«Ускорение истории», по выражению Мишле,актуализированному в наши дни Даниэлем Галеви,не связано ни с постоянными законами, ни с фактами,которые можно предвидеть: его констатируешь передлицом обнажающих фактов, даже если смысл их становитсяясным позднее. Так, смерть Ленина внезапнораскрыла реальность, не различимую при его жизни,рассеяла упорные иллюзии и ускорила трансформацию«олигархии», которую сам Ленин определял как фиктивнуюдиктатуру пролетариата, в реальную и тираническую,абсолютную диктатуру секретариата еди-206
ной партии. «Какая скорость упадка», — писал мнеПаскаль 18 ноября 1927 г., после шумного празднованиядесятой годовщины Октябрьской революции.Я опубликовал его письмо в «Bulletin communiste»,в номере за октябрь-ноябрь 1927 г. Вернувшись воФранцию, я возобновил публикацию этого бюллетеня,переставшего выходить в результате «большевизации»Коминтерна, т. е. превращения его в инструментсоветского полицейского государства без советов.В 1925—1933 годах этот бюллетень, выходившийс перерывами, опубликовал полдюжины знаменательных,очень существенных писем Паскаля, подписанныхвымышленными именами, чтобы не привлечь вниманияГПУ. Они, естественно, не вошли в библиографию,составленную «Revue des études Slaves», томXXXVIII, посвященный Пьеру Паскалю.Замечательная ценность этих писем, которые следуетчитать и перечитывать, в том, что они оченьточно отражают и обозначают изменения на пути,проделанном в течение нескольких лет от ленинскойутопии к сталинскому реализму. Они освещают условия,в которых режим, называвший себя советским, нолишенный советов со дня рождения (по признаниюсамого Ленина), трансформировался в автократию,жестокость которой не имеет себе равных в истории.Современнейшие средства принуждения и коррупциипозволили ей распространиться далеко за пределыстраны.Нет никакого противоречия между поведениемПаскаля в 1917 г., в период Октябрьской революции,и его все более и более критическим отношением кпозднейшим модификациям, даже абстрагируясь отзнаний и опыта, приобретенных с возрастом. Однии те же слова выражают совершенно разные понятия.Это относится и к тем, кто разделял его взгляды взаключительный период первой мировой войны. Чтобыих понять, необходимо знать подлинную историю207
фактов, реальности России в 1917 г., году, чреватомпоследствиями для мировой истории. Нет лучшегопутеводителя по этой России, чем свидетель Паскаль.Многие его тексты, малоизвестные, малочитаемые,слишком забытые, заслуживают извлечения на светдля элиты, способной освободиться от вульгарныхполитических страстей и слишком устойчивой идеологическойодносторонности.Нет сомнения, что Ленин — главный ответственныйза то, что случилось в «Евразии». Это он создалту Партию-Государство, которая превратилась в рукахСталина в «новый ислам», по выражению БертранаРассела, отправившийся затем на завоеваниепланеты. Но это не дает оснований ни для отождествленияЛенина со Сталиным, ни для смешения первичнойкоммунистической идеи с позднейшей практикой,закамуфлированной обманчивой терминологией.«Коммунизм необходим миру», — писал в 1920 г.благородный лорд Рассел, знаменитый как математики как философ, после визита в советскую Россию.Он добавил, что «большевизм заслуживает признанияи восхищения всех прогрессивных людей». Эти чувстваразделяли в то время многие другие видные представителиинтеллигенции, например, Анатоль Франс,говоривший о большевиках: «Они хотят мира, этооправдывает все, они сделают первый жест, которогождет весь мир. Приветствуем первых...» Бесконечнаявойна достаточно хорошо объясняет явление большевизмав России, а затем его овладение социальнымдвижением во всем мире, без необходимости обращенияк темным махинациям или литературным псевдооткрытиям.Паскаль с убедительной точностью и ясностьюпродемонстрировал это в двух статьях, которые прошлинезамеченными, но достойны перепечатки длячитателей, желающих понять исторический поворот,произошедший во время «десяти дней, которые по-208
трясли мир». (Автор книги под этим названием, запрещеннойСталиным, первый американский коммунист,Джон Рид, умер в Москве в 1920 г., совершенноразочарованный развращением советского режима.)Я имею в виду статьи Паскаля «Революция и ее причины»(«Preuves» № 13, март 1952) и «Октябрь и Февраль— одна революция» («Revolution prolétarienne»№ 231, ноябрь 1967). В них очень хорошо выявленглубокий смысл русской революции, не меняющийсяот осуждения последующей контрреволюции, точнодатировать которую трудно. Эти уникальные свидетельстваобогащаются дополнительно двумя томамимемуаров Паскаля «Мой русский дневник» (Mon Journalde Russie, 1916—1918. Лозанна, 1975) и «В коммунизме,1918—1921» (En Communisme, Лозанна, 1977).Александр Блок в «Скифах» называет Россию —сфинксом:Россия — сфинкс. Ликуя и скорбя,И обливаясь черной кровью,Она глядит, глядит, глядит в тебя,И с ненавистью, и с любовью!..Для лейтенанта Паскаля в революционном вихре1917 г. Сфинкс не был загадкой. Скорее он объяснялСфинксу. Ибо, как он пишет, ему виделось, что воляЛенина «совпадала с народной волей». По его словам:«В 1917 г. была одна революция. В то время этаистина казалась естественной всему народу. Ее отрицалии отвергали души прозаические в широком смыслеслова... Ее приветствовали восторженно поэты в прямомсмысле слова — Блок, Есенин, Андрей Белый, ив переносном смысле — те, кто считал, что Россия, а заней весь мир, повернулись спиной к прошлому с его войнамии нищетой... Ни в народе, ни у поэтов, ни в декабрьскихдекретах не было и следа марксизма».209
Восточноевропейский диалогВЕНЦЕСЛАВ ЧИЖЕК — ЧЕЛОВЕК,МЫСЛИТЕЛЬ И СТРАДАЛЕЦДокументацию составила проф. Малкица Дугеч«Разительное нарушение правчеловека...»— писал 1 июня 1979 г. представитель Европейскойконференции за права человека и самоопределениеКлаус Егер министру иностранных дел ФРГ Г^нсу-Дитриху Геншеру о похищении хорватского эмигрантаВенцеслава Чижека югославской госбезопасностью.Г-н Егер подчеркнул, что похищенный еще в 1972 г.получил в Западной Германии политическое убежище,поэтому дело приобретает особое политическое звучание,представляя собой нарушение международныхсоглашений.Что представляет собой «случай Чижека»?Вот отрывок из отчета Международной Амнистии (немецкаясекция, берлинское отделение) от 27 января 1981:«Мы хотим вновь обратить ваше внимание наслучай преподавателя средней школы Венцеслава Чижека,рожденного 28. 2. 1929, который 8 августа 1978 г.осужден в Сараеве по ст. 114 югославского УголовногоКодекса на 15 лет тюрьмы и продолжает отбыватьсвой срок в тюрьме Зеница как «контрреволюционер»,за «подрыв социалистического строя Югославии».На самом деле, В. Чижек в 1972 г. обратился квластям ФРГ с просьбой о политическом убежищеи, будучи членом Хорватской республиканской партии,постоянно публиковал политические статьи вхорватских эмигрантских газетах.210
В ноябре 1977 г. югославская госбезопасностьсхватила Венцеслава Чижека и насильственно переправилаего в Югославию, где в августе 1978 г. в Сараевеон был осужден.Международная Амнистия убеждена в том, чтоВенцеслав Чижек не использовал насилия и не проповедовалего, а осужден исключительно за использованиеправа на свободное выражение своих убеждений».Хорватская республиканская партия в своем коммюнике такжеподчеркнула, что Чижек «никогда не поддерживал насилия и несчитал его средством политической борьбы»:«Он очень высоко ценил человечность и вследствиеэтого не одобрял насилия, считая, что Дух черезписанное слово в состоянии победить Зло». («РеспубликаХорватия», 1979, 12 дек., № 149.)«Боннское министерство иностранных дел до сихпор отвергло все просьбы помочь Чижеку и заставитьюгославские учреждения хотя бы ответить на вопрос,как он попал в Югославию. Позднее было заявлено,что для немецкой юстиции «случая Чижека» вообщене существует, ибо вероятные виновники находятсяза границей. (...) Чижек находится в тюрьме Зеница.Благодаря активному вмешательству МеждународнойАмнистии, ему снизили срок приговора с 15 до 12лет»: («Дневные газеты», 1981, 7 июля.)В этом же сообщении говорится и о критическом состоянииздоровья арестанта: у него слепнет единственный глаз. Если он неполучит специальной медицинской помощи, он может ослепнутьполностью.В последнее время стало точно известно, что отговорка боннскихвластей о том, что они не компетентны рассматривать похищениеЧижека, поскольку его сначала заманили в Милан и похитилитам, безосновательна. Недавний эмигрант из Югославии АнтеЧосич сообщил лондонской газете «Новая Хорватия» (1981, № 11),что. он сидел в тюрьме Зеница вместе с Чижеком и знает от негосамого, что его похитили в ФРГ, а не в Италии:«В тот день, — пишет газета, — Чижек сел в автомобильодного соотечественника, приехавшего вФРГ в качестве иностранного рабочего (позднее ока-211
завшегося агентом югославской госбезопасности —УДБ) и жившего по соседству с ним. Не проехалиони и нескольких километров, как другая машина внезапнопреградила им дорогу. Из нее выскочили тричеловека и накинулись на Чижека так, что он тут жепотерял сознание. При нападении ему сломали ключицу.Четыре-пять дней его продержали в какой-товилле — видимо, недалеко от Боденского озера. Затемему дали снотворного, и проснулся он уже на югославскойземле, в Черногории. Там его допрашивали вкаком-то доме, мучили, продержали 18 часов на ногах.Гебисты добивались от него сведений о людях народине и в эмиграции, с которыми он, по их предположениям,был связан. Трижды ему устраивали инсценировкурасстрела, желая запугать его и сломитьего волю.Хорватская республиканская партия».Кто такой Венцеслав Чижек?Вскоре после выхода Венцеслава Чижека из беженского лагеря,когда он находился в туберкулезном санатории, его посетилодин хорват из США и попросил его рассказать о себе для американскихдрузей. Вместо рассказа Чижек попросил оставить ему надень-два магнитофон и при следующей встрече передал кассету,на которой записал историю своей жизни. Полный текст был опубликованв журнале «Республика Хорватия» № 128 (1980, декабрь).Вот несколько отрывков из него:«Я родился и прожил детство и юность в БокеКоторской, в самой южной части Хорватии, ныневходящей в Черногорию. В школе я был отличникоми уже тогда начал публиковать стихи, рассказы, статьи.Окончив школу, я отбыл воинскую повинность истал членом редакции, а потом и редактором молодежногожурнала, единственного в Цетинье и Титограде.Но это продолжалось недолго.212
Весной 1954 г. я хотел напечатать несколько статей,направленных против однопартийной политическойсистемы. Это было после знаменитого Пятогосъезда югославской компартии, откровенно осудившегосталинизм. Слегка повеяло демократией, началоськакое-то движение во всех слоях югославскогообщества. Меня уволили за то, что я возражал противтребования ЦК югославского комсомола не печататьсвои статьи, но перед увольнением вызвали в ЦК надопрос. Один из двух типов, допрашивавших меня,был известный Никола Ковачевич. По слухам, до войныон жил и работал где-то там у вас в Чикаго и Детройтекак советский гражданин, то есть как агентСССР, а в то время от него все зависело в Черногории.Вторым был Лука Банович, нынешний министр внутреннихдел Югославии. Меня не только уволили, но иизгнали из Черногории, а перед типографией, когда яоттуда выходил, собрали толпу, которая грозила побитьменя камнями.Некоторое время я прожил у одного друга, потомуехал в Сараево, а оттуда в Белград, где хотелпоступить в университет: только там была кафедравсемирной литературы. Нуждался я отчаянно, ночевалбез разрешения у друзей в студенческих общежитиях,ел время от времени. Когда я уезжал из Сараева, мойотец был недоволен моим отъездом, и мать едва смогласунуть мне 500 динаров, меньше полдоллара. Всетакия во что бы то ни стало хотел изучать всемирнуюлитературу — особенно меня интересовали ДальнийВосток, поэзия и философия Китая, Индии, Японии,библейские сочинения и т. п. Но и это тянулосьне долго. Весной того же учебного года в Белградеразразились большие студенческие демонстрации. Арестоваличеловек 50 студентов, в том числе и меня —за организацию демонстраций и забастовок и за «антигосударственные»прокламации, стихотворения, статьи,т. е. за антикоммунистическую пропаганду. Пер-213
вую «вину» они не могли доказать — студенческаязабастовка вспыхнула стихийно, хотя какая-то организацияи существовала. Доказательством второй быливзятые у меня на обыске все мои сочинения. Однакоследствие продолжалось полгода — они никак мне неверили, что у меня нет никакой организации и никакойсвязи с заграницей, что я работаю один (правда, всегдав контакте со студентами) и неорганизованно.Наверно, многим хотелось бы узнать, как я пережилследствие и потом тюрьму. Я неохотно об этомрассказываю. Все свои, и по сей день не окончившиесянесчастья я считаю обычным делом в условиях коммунистическогорежима. Несколько раз я пыталсянаписать об этом воспоминания, но уничтожал написанное,ибо оно мне казалось неинтересным — сплошнаяповседневность. А теперь я вижу, что об этомцелые книги написаны. Я бы не смог. Так что всегонесколько слов о тюрьме.В одиночке, не больше 2-3 кв. м, без окон, я началтерять зрение, заболел глаукомой. Из-за этого и теперьхожу в темных очках. Только в рабочие дни былапятнадцатиминутная прогулка, а остальное время япроводил во тьме или, в солнечный день, в полутьме,без книг, без газет, без свиданий. Курить разрешалось,но спички были у надзирателя, так что он давалприкуривать, если случайно проходил мимо одиночкида еще если захочет. В этой одиночке я оставался шестьмесяцев — одежда на мне распадалась в лохмотья.Меня приговорили к двум годам тюрьмы строгогорежима. Остаток срока я отсиживал в Сремской Митровице,где оказался самым младшим из арестованныхпо политическим делам в 1956/57 г., и меня там прозвалиСыном.В знаменитом третьем корпусе этой тюрьмы,окруженном высокой стеной, находилось около 200 политзаключенных.Большинство их были сербы, четники,лётичевцы и другие, кроме того — «информ-214
бюровцы» и много албанцев. Несколько месяцев яперекапывал выгребные ямы, а потом меня перевелина самую тяжелую работу в тюрьме — на обжиг кирпича.Мы работали в невыносимой жаре, совсем голыеи сами обожженные, как кирпичи.В этом третьем корпусе было, кроме меня, толькотри хорвата — одного из них, кажется, звали Микулич.Я видел его только раз, когда мы чистили фасоль.Эти хорваты постоянно сопротивлялись, и занарушения режима их держали в подвале.В Сремской Митровице я уже мог читать и писать,хоть свободного времени было мало. Но всенаписанное: каждую бумажку, каждую книгу, письма,заметки — все это отобрали, когда я освобождался скаторги. А было у меня два цикла стихотворений,книга рассказов, дневник. Но все это осталось у меняв голове — тут уж они ничего не могли конфисковать.Кстати, это не была моя первая тюрьма. Третьсвоего срока военной службы я провел в штрафномбатальоне.С каторги я вернулся в Сараево и поступил нафилософский факультет. Меня тогда уже привлекалачистая философия больше, чем искусство. Я хотелобнаружить корни своих столкновений с этим обществом,понять, на какой почве, на какой теории основаноих господство. И я начал тщательно изучатьмарксизм.Стипендии мне, конечно, не дали, но я и не добивался.Серьезно учился и одновременно работал —техническим секретарем Союза писателей Боснии иГерцеговины. Дважды, на втором и четвертом курсах,ректорат премировал меня за сочинения на свободнуютему. Факультет я закончил в рекордный сроки с самыми лучшими отметками на курсе.Но научная карьера моя не состоялась. Если врачуили инженеру не обязательно быть членом партии, тов общественных науках без этого работать нельзя.215
Еще в университете я был председателем клуба студентовфилософии, но мне никогда не позволяли читатьлекции, хотя члены клуба имели на это право.Запрещали даже тогда, когда я выбирал как будтонейтральные темы, вроде «Положение женщины, всовременном мире» или «Смерть Сократа». Иногдав последнюю минуту перед лекцией снимали объявленияи лекцию запрещали. Мне оставалось быть лишьслушателем, частью публики так называемого Народногоуниверситета в Сараеве да докучать препарированнымлекторам-марксистам, ставя вопросы и требуяразъяснений.У меня было много друзей даже среди коммунистов,и многие из них занимают сейчас высокиепосты: университетские профессора, члены ЦК, министрыи т. п. Но все они многие годы не разрешалипечатать мои произведения — даже чистейшую любовнуюлирику. Даже в самых отглаженных стихахим чудилась какая-то «антигосударственная деятельность».Когда же я им показывал то, что они запрещаютпечатать, они только изумлялись, а потом началиизбегать встреч со мной.Работу после университета я постоянно находилс трудом и только на время: за девять лет переменилшесть мест работы. Вместо того чтобы стать ассистентомна кафедре, я должен был уехать в глухую провинцию— сперва в Какань, рудничный поселок в Боснии.Но во время первых же школьных каникул меняизвестили, что я уволен. При этом без всякого смущенияпризнались, что уволен по приказу райкомапартии. А поводом был один урок о Дарвине и еготеории о происхождении человека. Верный своей привычкеподвергать сомнению всякую теорию, пока онане доказана, я подверг сомнению и эту. Но у коммунистов— свои догмы, в которые положено веритьбез доказательств.216
Чуть не каждый год мне приходилось менять местоработы. Но все-таки я старался быть осторожнее,чтобы снова не попасть в тюрьму. Я ничего не говорилученикам против режима — наоборот, я оченьподробно толковал этим юношам и девушкам (у менябыли старшеклассники) коммунистическую идеологию.Несчастье было в том, что я иллюстрировалэту теорию примерами из жизни, и мои выпускникивсё прекрасно понимали. Часто после таких уроковменя вызывали для объяснений. Оправдываясь, я говорил:«Лучших примеров нет в нашей жизни, в нашейобщественной практике. Я использовал только подлинносуществующие примеры».Нельзя сказать, что был какой-то один повод кмоей эмиграции — со мной там всегда происходилоодно и то же, и я мог бы собраться эмигрироватьраньше, 5, 10 или 15 лет назад. Вероятно, у меня большене хватило сил. Правда, в 1971 году я снова осталсябез работы, но все это случалось и раньше. Некотороевремя меня удерживало нежелание оставитьочень больную мать. Она умерла в 1968 году. Я еще ипосле этого не решался оставить отца, но потом всетакипокинул его, одинокого, семидесятилетнего старика».Письмо из ШварцвальдаВ том же номере «Республики Хорватии» помещены отрывкииз писем редакторам, которые Венцеслав Чижек писал, находясьв туберкулезном санатории и дожидаясь политического убежища иразрешения на жительство в ФРГ, затем выйдя из санатория ипродолжая добиваться права убежища. Это было не легко — недаромредакция дала к части этих писем подзаголовок «Крестныйпуть».217
КрестныйпутьПроизошло неожиданное: вместо поисков работыпришлось мне идти в санаторий. Придется мне лечитьсянесколько месяцев. (24. 3. 1973)Доктора обнаружили у меня туберкулез. Я поражен.Надо лечиться несколько месяцев. (3. 4. 1973)Несколько дней тому назад получил ответ Бундесратана мою просьбу об убежище. Ответ отрицательный.Это меня не удивляет, не удивляет и других вмоем положении. (Да здравствует Вилли Брандт!)(2. 5. 1973)В санатории пробуду, наверно, до осени, когдазакончится первая фаза лечения и обследования.^ Потомбудут лечить дальше теми же лекарствами илииспробуют другие. У каждого туберкулез оригинальный,как и всякое зло! (26. 5. 1973)Как только соберу нужные свидетельства, возобновлюдело с помощью адвоката — по Женевскойконвенции, я имею право на убежище. (31.5. 1973)К сожалению, мое пребывание в Германии окончено.Вместо разрешения на жительство получил предписаниепокинуть страну. То и случилось, чего я отних ожидал. Большое спасибо! (5. 6. 1974)Как видите, я еще не сломлен. Правда, две прошлыенедели я был очень встревожен и тогда написалэти пессимистические письма. Но теперь я нашел оченьхорошего адвоката и надеюсь с успехом прекратитьпроизвол немецких чиновников (скрытых коммунистов!).(19. 6. 1974)Ваше письмо и чек получил дней десять тому назад.Необычайно это меня обрадовало. Благодарю!Уже несколько месяцев я живу благодаря заботе имилосердию земляков. Положение мое до сих пор непеременилось. Никаких бумаг не дают, но изгнатьиз страны не могут — еще не было такого прецедентани с одним политэмигрантом. Во всем этом, я уверен,218
замешана и югославская госбезопасность — хотели быменя уничтожить. Вопреки «власти» я живу уже болеедвух десятков лет, хоть и туго мне приходилось. Выдержули, не знаю. Духом — да, но физически всемуесть предел. Уже осень, а у меня и обуви нету. Живуподлинно «как птицы небесные». Кое-как работаю,пока сил хватает. (27. 9. 1974)Посылаю вам радостное известие: скоро получуубежище. После трех лет немцы про меня вспомнили!Думаю, что этого могло бы и не случиться, если быполитический климат не переменился — не совсемеще переменился, но уже заметно много нового. Кончитсяи мое несчастье. (15. 5. 1975)Получил окончательное разрешение на жительство!(28. 7. 1975)Я так же трудно живу, как и в первый день приездав Германию. Знаю: многие жертвуют, отрываютот себя — но только от излишка. От чего, от какогозаработка я могу отрывать? Если бы испокон века нежил так скромно, был бы не в состоянии это выдержать.Мне хватает на день пяти марок, а это одинхлеб, одна сардинка и пачка сигарет. (21. 7. 1976)КонцепцииДорогие братья, Югославия никогда не падет,а загнивать может тысячи лет. Режимы не потомусуществуют, что они справедливы, и не потому падают,что несправедливы. Югославию можно разрушитьтолько силой внутренней революции. Быть может,и с чужой помощью, но самое важное, что должнопроизойти, произойдет там. (5. 2. 1974)Нельзя нам сейчас искусственно «преобразиться»в каких-то доктринеров, будь то московского или т. н.«самоуправляемого» типа. Даже через Маркса историяне пригласила коммунистов осуществлять социализм219
— они только один вариант, существующий в тотальнонеразвитой общественной среде. Я не отождествляюсоциализм с коммунизмом, свободу с диктатурой.(27. 8. 1975)В современном мире лишь две идеологии: христианствои коммунизм, со своими вариантами христианскойи социал-демократии. Первая из них создаласьисторически — другая непригодна для того, чтобы выступитьна исторической сцене как общественная системаили разрешение противоречий капиталистическогообщества. Коммунизм как историческая новость— всего лишь реакция на капитализм и его критика.Это не подлинная историческая новость, общественнаясистема, которой можно заменить капитализм, —лучше сказать, что капитализм эволюционирует к ней.У США нет идеологии, нет духовной почвы, котораямогла бы стать зримой ведущей силой.Мы, хорватские националисты, политико-идеологическине принадлежим ни к одной из этих сторон.(Мы уже пытались присоединиться, но нас растопталии обманули!) Мы ведем не идеологическую, ноосвободительную борьбу. Поэтому не все, принадлежащиек идеологиям, — нам враги. Это политическиепротивники в парламентском смысле слова. Если мыборемся вместе с ними за независимое хорватскоегосударство (мы, республиканцы, сказали бы: за свободноеи основанное на социальной справедливости),мы не можем (да и не в состоянии) отказать другимхорватским союзам в праве вести эту борьбу, дажеесли они за одну из форм диктатуры.Мы отвергаем диктатуру, но не отвергаем хорватскоегосударство, даже если оно — когда бы иначене вышло — окажется диктаторским. Мы не можемсразу бросать камнями в тех хорватских коммунистов,которые стоят за национальную независимость. Коммунисты— лишь исторический «сезон» мира. Позволимсебе такое «ревю» и в Хорватии. У меня долгий220
опыт антикоммуниста, но он подтверждает (а я с коммунистамиучился, с некоторыми и дружил), что каждыйиз них сохранил какую-то иную веру. А вся ихпрактика — это самый заурядный оппортунизм. Ещеменее вероятно, что они могут кого-то другого переубедить«в свое». Они сознают, что собственная практикана каждом шагу опровергает их теорию. Но из-заоппортунизма у них хорошо налажены сила и организация.И все это хорошо оплачено. (2. 2. 1975)Статьи Венцеслава ЧижекаВ эмиграции Венцеслав Чижек печатал свои лирические стихотворения,главным образом, в «Хорватском журнале», а политическиеи философские эссе, а также политическую сатиру — в «РеспубликеХорватии». Кое-что он публиковал также в ежемесячнике«Хорватская дорога» и журнале «Раковица». Заключим эту подборкудокументов несколькими отрывками из его статей и эссе.Свобода в национальном государстве —основная предпосылка человечностиСмысл жизни — не в борьбе за жизнь, а в борьбеза свободу. Жизнь — лишь средство для жизни. Еслицель — только существовать, хорошо, благополучносуществовать, так ведь и у животных та же цель! Человекотличается тем, что обладает верой и идеалами.Если человек — воистину человек, он прежде всегоборется за свободу, без которой нет человечности.Свобода как реальность возникает, развивается израбства. Из свободы как единственной возможности.Свобода как реальность — это государство, круг живых,опирающихся на законы общественных отношений.Вне этих отношений нет свободы. Мысли о свободевне государственно-правовой и производственнойреальности тщетны и необоснованны.221
Родина — это завоеванное жизненное пространствонации. Высочайшая форма этой жизненности —национальное государство. Эту форму национальногосуществования хорваты стремятся осуществить ужебольше восьми с половиной столетий, а между тем,хочешь — не хочешь, живут вместе с другими или вподчинении у других. Это тоже способ развития жизненноймощи и жизнеспособности (хозяйственной,научной), но он не в интересе хорватского народа,а в интересе хозяев или более «сильных» братских народови государств. В этом покоренном положении,в этом агломерате дух хорватского народа не растет,не развивается, не самоутверждается, исторически неприсутствует и теряет собственное лицо. Хорват лишенсобственной природы, и он это знает.ПерманентныйкризисВсе, что делали и сделали коммунисты, — касаетсятолько ненародного меньшинства. Это меньшинствои сегодня в Югославии представляет «большинство».Это не только власть предержащее меньшинство— ради него одного и существует это государство.В многонациональном югославском государстве,где формирование наций не протекало отдельно, интересывсеобщего рабочего класса тождественны тольков том, что этот класс в каждой из республик являетсянаемной рабочей силой по отношению к краснойвласть предержащей касте. Партия провозглашаети ставит на первое место интернационализм, но, будучивластвующей силой, сама протаскивает национализм:под прикрытием интернационализма протаскиваетсясербский национализм.222
Коммунизм или «социализм», как это видно досих пор, нельзя и помыслить без диктатуры, без тоталитарнойвласти. Это его основная политическая характеристика.Это антиконституционный, несовременныйи внеисторический факт, который стремится статьокончательным, безграничным и неоспоримым —абсолютным.У такой власти нет нужды согласовывать, научноанализировать и открыто выносить решения. Она ужеимеет готовые решения и навязывает их. Она владеет«знанием» и «истиной», поскольку обрела идеологическуюмонополию. Здесь, в самом деле, нет политики,ибо политика не существует без признания альтернатив,без права сопротивления тому, что ужерешено и учреждено. В коммунизме живут не граждане,а подданные — коммунистический режим непредставляет собой политической системы. Личнаявласть партийно-государственного вождя — вначалевсегда отражение общественно-политического кризиса,доказательство того, что общество не может развиватьсяи идти вперед своими собственными силами.У общества нет своего политического направления,оно не в состоянии разрешить кризис, из котороговозникла диктатура, и царствование кризиса застойно,неподвижно. Личная власть или всемогущество партиив коммунизме — это внешнее (не политическое и недемократическое) решение, никак не связанное с интересамиграждан-подданных.Коммунизм — это власть перманентного кризисавласти.Церковь — оазиссвободыПосле отделения религии от государства феноменрелигии, можно сказать, существует «в чистом виде».Государство освобождено от религии, но не человек.Религия, в частности католицизм, не вызывает изо-223
ляции человека от общества, одиночества человека.Напротив! Католические богословы сегодня стремятсявновь определить эсхатологическую суть, применяя еек условиям жизни и потребностям современного человекаи общества. Церковь как сообщество проповедников,исповедников и миссионеров, действительно,не может оторваться — даже отделенная от государства— от этого «нечистого» мира. Наоборот, войтив этот мир — вот что стало условием и основой еесуществования и возрождения, тем пространством,где она свидетельствует о своей миссии. Здесь открываютсяее новые перспективы, земные и евангельские.Как в свое время Церковь служила утверждению общественныхинститутов и власти, так сейчас, именноотлученная от государства, она может подвергатьсомнению эту власть. Если прежде Церковь обеспечивала«посредничество» между Богом и земнымивластями, так сегодня, утратив эту роль, она можетстать на позиции Божественного сопротивления власти.Ведущее молодоепоколениеПрямо по законам духовного престижа — столкновенияантичеловечного с человеческим — во всехвосточноевропейских странах, в том числе в Югославии,лишь Церковь осталась и могла остаться на аренеборьбы, притом не только как духовная (религиозная)организация, но и еще более душевная, национальнаяутешительница. Церковные праздники и службы— единственная возможность народа полудемонстративнособираться и выражать свое настроение.Если на Западе церкви полны стариков, в Югославии— в этом я убедился в разных уголках Хорватии— на церковных обрядах присутствует преимущественномолодежь: старшеклассники и студенты,— но не с четками и молитвенниками, а с электрогитарамии новейшими песнями. Эти песни необычайно224
сильно выражают бунт, веру и волю. Это бунт противполитики, объявляющей молодежь существамибез души, а в школьных программах штампующей изнее бессодержательно-материалистические болванки.Это вера в Победителя и победу свободы. Это воляисповедовать и защищать истину.Это лишь один из видов национального сопротивления.Но и во всем остальном ясно видна ведущаяроль молодого поколения. Оно идет впереди впротивлении насилию и хорошо знает, чего не хочет:оков для свободы, правды и совести.Поэтому задача политически мыслящей хорватскойэмиграции — анализировать движения на Родине,учитывая не только идейно- и социально-политическиеструктуры, но и судьбы людей, одушевление поколения,которое ждет извне формулировки того, чего оносамо не знает.ПолитическийплюрализмДемократия подразумевает, прежде всего, политическийплюрализм. Мы подчеркиваем это не как нечто«хорошее» и «современное» — это условие политическогоздоровья в мирное время. Судьбу государстваи народа нельзя вручить лишь одной политическойпартии. Кроме того, партийный плюрализм защищаетот шовинизма. Мы не хотим, чтобы в фундамент будущегохорватского государства была вмурована ненавистьк своим гражданам и к соседним народам.225
Запад — ВостонЭнцо Б е т т и ц аБОЛЬШАЯ ОХОТАНА ТИГРА-КРЕСТЬЯНИНА*Зададимся вопросом: если в России 1921 года ещеоставались здоровые, не затронутые органы общественногоорганизма, то кто же именно, какая силапредставляла собой наибольшую часть этого еще незатронутого гражданского общества? Сила эта былакрестьянство, то есть две трети населения страны.Но возникает второй, не менее неотложный вопрос:до какой степени крестьянство может представлятьсобой гражданское общество? И, наконец, что значитконкретно, в применении к России, само понятие гражданскогообщества?Посмотрим, как Мартин Малиа определяет этопонятие в самом широком смысле: «Под гражданскимобществом следует понимать совокупность техсоциальных клеточек, которые способны организовыватьсясами по себе, независимо от государства. Тоесть способны удовлетворять свои собственные нужды,либо потому что они располагают неким наследственнымсостоянием, либо потому что обладаютнекими профессиональными, интеллектуальными илииными навыками, которые позволяют им быть полезнымивсему обществу. Во всяком случае, речь здесьидет о способностях и специфических качествах, которымиобладают далеко не все». Как угадал также иПрудон, существует естественная связь между частной226* Публикуется с сокращениями.
собственностью h жизнью этих автономных клеточек,составляющих гражданское общество. Стольже характерна и связь этого последнего с рынком,конкуренцией, прибылью, деньгами, короче говоря,всем тем, что находится под подозрением в «буржуазнойэксплуатации». Когда вместе с собственностьюустраняется также и рынок и все средства производстваи обмена сосредотачиваются в руках государства,именно в этот момент гражданское обществовсегда начинает испытывать нехватку кислорода, свободыи начинает погибать.Таким образом то, что мы определяем общимтермином «гражданского общества», представляетсобой отборную, независимую и активную часть общественногоорганизма, способную самоуправляться и непозволяющую государству манипулировать собой.Практически оно составляется из тех, кто не занимаетсяручным трудом, кто не является крепостнымкрестьянином или простым рабочим: это буржуа разныхкатегорий, предприниматели, техники, финансисты,коммерсанты, администраторы, научная и творческаяинтеллигенция, дворяне, люди свободных профессий,клир, профессиональные военные. Короче говоря,все те, кем пополняются кадры нормальногообщества и кто представляет собой его верхнюю структуру.Там, где существует гражданское общество,противостоящее государству, основные кадры его поставляютсявысшими и средними классами, стоящиминад народом. В тот роковой момент, когда Россиявступает в «проклятый четырнадцатый год», ее гражданскоеобщество является лишь наполовину зрелым.Это общество, на поверхности европейское, но в глубинееще хранящее архаические основы отсталой общины,состоящей из хозяев и слуг. Оно состоит из различныхклассов, но нужно исключить при этом как высшуюаристократию (однако не служилое дворянство,созданное Петром и Екатериной), так и тяжелую кре-227
стьянскую массу. Впрочем, крестьянство в любом болееили менее развитом обществе представляет собойособый класс, отличный от всех остальных, некий,так сказать, побочный класс, его нельзя назвать специфическимкомпонентом современного гражданскогообщества. К тому же, гражданское общество в Россиибыло очень молодым: его возникновение относится кдевяностым или, в лучшем случае, к шестидесятымгодам XIX века. Оно рождается поздно и в такомконтексте, который обрекает его с самого начала нахрупкость и уязвимость. И оно тем более уязвимо,что рост его идет по каналам не совсем нормальным,неизвестным даже в относительно отсталых районахВосточной Европы, таких, как Венгрия, Румыния иливосточная Пруссия. И наконец, подчеркнем это ещераз, удельный вес этого непрочного гражданскогообщества внутри России, взятой в целом, был оченьневелик по сравнению с тем, какой в ней имело крестьянскоесословие, одно из самых отсталых в Европе.Здесь-то и лежат причины того, почему это общество,хотя и показавшее чудеса в начале войны, вделе мобилизации ресурсов и производительных сил,оказалось, тем не менее, не в состоянии выдержатьв течение долгого периода то напряжение, котороевойна породила внутри империи, на три четверти ещепребывавшей в примитивном состоянии. Оно не имелодостаточно времени для того, чтобы более широкомодернизировать Россию и сделать ее более подготовленнойк тому страшному испытанию, каким явиласьпервая тотальная массовая война в новейшей истории.Конфликт с японцами 1904—1906 во многом принадлежалеще прошлому веку: он протекал на азиатскихокраинах Сибири и Маньчжурии, не вовлекая гражданскоенаселение европейской России. На этот жераз ситуация стала иной. Неподготовленная странадолжна была столкнуться с совершенно новым и грандиознымявлением: речь идет о войне беспрецедент-228
ной, тотальной и своего рода «демократической»,то есть требующей участия всей национальной экономикии патриотических усилий всего населения. Норусское общество было слишком слабым и плохо организованным,чтобы вынести на своих хрупких плечахтакой страшный вес: три года мясорубки и хаоса, ккоторым потом прибавляются еще три года гражданскойвойны.Тяжесть тотальной войны в сочетании с уязвимостьюгражданского общества, неспособного эту тяжестьвынести, порождает короткое замыкание, котороепочти целиком парализует тело империи. Наступаеткатастрофа. Независимо от воли Ленина и другихреволюционеров, Россия уже в начале 1917 годакачается и начинает все быстрее лететь в пропасть.Результат всего этого: полный коллапс общества,бессилие правительства, неспособного управлять циклономсобытий, выход из повиновения масс — официальныевласти уже не могут ими повелевать, а революционныесилы уже не в состоянии ни организоватьих, ни контролировать. Все выливается, как полноводнаярека, в небывалый возврат к варварству, типичнорусскому.Этот возврат к примитивному варварству в экономике,эта социальная нивелировка, это падение внекую первобытность, тем не менее, не носит характеравозврата к организованным формам, почти кастовым,старого режима: самодержавие, дворянство и покорноекрестьянство. Во времена Петра Великого и НиколаяI такая рудиментарная система — этот своеобразныйтриптих, повторяющий модель примитивногообщества, упрощенного до крайности, — функционировалапо-своему хорошо. Но тот поразительный процессупрощения, который мы наблюдаем в России1917—1918 годов, не был прыжком назад во времени,это не восстановление, пусть бы и вызванное обстоятельствами,самых древних и неразвитых социаль-229
ных структур. Одним словом, то, что вырисовываетсяв России, раздираемой войной и революцией, —это не анархический рывок к консерватизму, это неславянофильская реакция. Анархия эта дика, это одичание,доходящее до нулевого состояния, это растворениев хаосе. Это нечто еще никогда не виданноеранее в истории. Это новое и катастрофическое варварство,потому что оно явилось следствием социальнойнивелировки и беспрецедентного экономическогокраха, составляющих неповторимые, уникальные итрагически своеобразные черты русской революции.И в этом-то ее отличие от других, ранее известныхреволюций.Во время всех других европейских революций происходилоизменение общества. Но никогда не былоомертвения существовавшего общества. До тех порэтого никогда не происходило потому, что не былотех двух определяющих факторов, которые мы находимв русской революции и которые породили кризис:массовой тотальной войны и слишком анемичногообщества, неспособного устоять перед такимиспытанием.Суррогат обществаТаким образом, этот необратимый процесс примитивизациилежит в основе русского революционногоразвития. Или скорее русского революционногоотклонения. Долгая, прерывистая, извилистая революция1904—1906 годов происходила по европейскомуобразцу и в своем последующем развитии, явном искрытом, шла все по той же европейской дороге вплотьдо 1917 года. Она резко отклоняется от этого пути в1917—1918 годах и неожиданно меняет качество. Неожиданноерастворение классов, распыление экономическихресурсов, паралич и разрушение традиционных230
государственных и административных систем, однимсловом, приведение к нулю, — все это даже и безовсякого усилия большевиков вело общество в целомк пропасти, определяя насильственное изменение всейего морфологической структуры. С этого поворотногомомента русская революция идет по пути новому,неизвестному и непредугаданному.Мы уже видели, что вовсе не партия Ленина породилаэту пустоту. Но именно партия Ленина разместиласьв этой пустоте, подменив собою уже погибшеегражданское общество. Здесь следует отметить,что и белые генералы вынуждены действовать в тойже самой нулевой ситуации, прибегая на практикепочти к тем же самым методам. Как восстановитьармию? Как обеспечить снабжение подконтрольногонаселения? Как создать ядро новой гражданской администрации?Белые, несмотря на все их усилия, всеже не смогут организовать и установить порядок всвоей трети страны с той же тоталитарной строгостью,с какой большевики установят его в своих двухтретях, несмотря на пассивное сопротивление крестьян.Между двумя противостоящими в гражданскойвойне военно-политическими силами есть существенноеразличие — идеологическое. Белые сражаются завесьма абстрактную идею национального величия ирусской свободы, под лозунгом восстановления монархии.Красные же заявляют, что они борются идействуют от имени науки. Они говорят и, в большинствесвоем, действительно верят, что действуют в соответствиис законами Истории, в интересах пролетариатаи всего человечества. Они заявляют, что приносятсебя в жертву вовсе не ради пошлых классовыхинтересов. Они утверждают, что, напротив, белыеприносят в жертву жизни своих обманутых солдатради гнусной реставрации старых привилегий. Красныеже умирают ради того, чтобы уничтожить вся-231
кие привилегии и дать коммунистической России новуюжизнь, равенство и социальную справедливость.Этот убежденный и убедительный идеологическийпорыв, сопровождающийся также призывом к болеерационально устроенному обществу, организованномуна коллективистском начале, дает им силу и психологическоепреимущество и позволяет провести ряднационализаций в начале гражданской войны, обращаятаким образом в свою пользу и хаос. Именно их идеологияпридает им чувство непреложной историческойнеобходимости и законности их действий и позволяетим проводить огосударствление до самого конца, заполняяс помощью единственной и монолитной партиипустоту, возникшую в результате полного распадаобщества. И именно идеология позволит придатьзаконченность системе, превратив партию, илискорее Государство-Партию, во всепронизывающуюидеологически-бюрократическую структуру. И именноидеология придаст этой своеобразной идеократическойбюрократии характер кастовой сплоченности, социалистическойизбранности и мессианское сознание, однимсловом, придаст ей самый смысл существования.Для белых с их обесцененными националистическимилозунгами решающим является количество, число.Для большевиков — нет. Их сила не столько в числе,сколько в мобилизующей силе их мировоззрения. И неимеет никакого значения, окажется ли мировоззрениеабстрактным или даже ложным. И не имеет значениято, что они вовсе и не подозревают, что являют собойлишь суррогат, замену несуществующего гражданскогообщества, а верят в то, что воплощают в себе душупролетариата, угнетенных, то есть уже по определению— лучших. Имеет значение лишь пропагандистскийи мистифицирующий эффект, производимый намассу красных солдат. Большевистским вождям, почтиискренне считавшим себя творцами будущего,двигателями истории и прогресса, удается породить232
в тылу и на фронте такой энтузиазм, какой белымникогда не сопутствует на всем протяжении гражданскойвойны. Красные — будущее и социализм, белые— прошлое и реакция. Именно в эти годы свершаетсяне только военная, но и первая великая словесная победакоммунистов над своим политическим противником,которая затем неоднократно будет повторятьсяв многочисленных внутренних и международныхперипетиях.Но посмотрим теперь, что же конкретно происходитв России, управляемой большевиками. Преждевсего можно отметить исчезновение всяких следоврыночной экономики. Но и в этом случае вовсе небольшевистский таран и не их прямое вмешательствонанесли этот удар капитализму. Рынок разрушилсясам собой. И после того как он разрушился, ленинскаябюрократия подменила его собою, пытаясь выполнятьвсе то, что рынок выполняет в нормальныхусловиях. Поскольку не было больше ни руководящихгрупп, ни коммерсантов, ни предпринимателей, никадров, ни механизмов, позволявших выделить их иселекционировать, то бюрократия вынуждена былауниверсализироваться, то есть подменить собой насильнои кадры, и предпринимателей, и коммерсантов.Она вынуждена была передать государству как функциирынка, так и функции старых руководящих групп.Так мы приходим к началу «планирования», и посколькуречь идет о насильственной и административнойподмене, то и не удивительно, что с самого началапрактика и мистика «плана» оказываются окрашеныдеспотизмом. И все это происходит в накаленной атмосфересвященной войны, демонизации врага и всеобщегоманихейства. Осталось только два цвета вэтой тотальной борьбе до последней капли крови:красный и белый, все четко разделено на прогресс иреакцию, на добро и зло. Нет ничего нейтрального.Поэтому бюрократия, после того как она целиком взя-233
ла в свои руки все механизмы экономической жизни,становится нетерпимой и сразу начинает изгонять изобласти «социалистической законности» все то, чтоей враждебно или попросту чуждо и непонятно.Не только всякая оппозиция, в том числе и социалистическая,оказывается запрещенной, но даже искусствуи мысли свободу оставляют очень неохотно. Мышлениевождей уже склоняется к цензорскому примитивизму.Если произведение искусства кажется слишкомабстрактным, далеким от дела пролетариата,значит, оно автоматически, «объективно», служитделу противоположному, то есть реакции и «классовомуврагу». Конечно, пройдут еще годы, преждечем партия в лице Жданова придет к инквизиторскомусовершенству, к кострам для еретиков и охоте на ведьм,причем не только в настоящем, но и в прошлом и будущем.Пока что же, во время Троцкого и Луначарского,которые часто выступают в дискуссиях по вопросамкультуры, определенный порог еще не перейден,но уже и теперь, в период нарождающегосябольшевистского тоталитаризма, имеют хождениепсевдопонятия передовой культуры и культуры реакционнойи воинствующая идея о том, что партия иее виднейшие представители должны делать все,чтобы добиться победы первой над второй. Основнаятенденция уже очевидна. Тиски тоталитарной большевистскойидеологической бюрократии начинаютсжиматься вокруг всяческих проявлений жизни как вобласти экономической, так и в области духовной —и рынок, и подбор кадров, и промышленное производство,и художественное творчество испытывают насебе их тяжесть. Идеология, которая является душойвсего, должна быть непременно ортодоксальной. Ивсе то, что не укладывается в нее, есть не что иное,как ересь. И за ересь начинают таскать в ждановскиетрибуналы в конце тридцатых годов и в послевоенныегоды.234
Как уже было сказано, эта тоталитарная бюрократия,возникшая как результат пустоты и ленинизма,который ее собою заполнил, представляет собойсовершенно новое явление в мировой истории. Еслимы посмотрим на социальное происхождение тех людей,которых начинает уже серийно производить ленинскиймеханизм, людей, которые составляют скелетидеологической бюрократии и производят глубокийпереворот в русской жизни, то мы увидим, чтоэто люди очень скромные, часто даже полуграмотные:это не только низшие слои интеллигенции, нои низшие административные и производственные кадры,более или менее квалифицированные рабочие,начальники цехов, подрядчики, бывшие сержантыцарской армии. Происходит этот гомо болыневикусвторого поколения, отобранного и выпестованногогражданской войной и военным коммунизмом, почтивсегда из народных низов. Это своеобразный, новый игрубый род миссионеров, которые, как и многие христианскиемиссионеры, выходят из низших слоев старогообщества. Ими движут одновременно идеологическийфанатизм, воспринятый от Ленина во времявеликих революционных битв, и жгучее стремление кличному успеху и личному реваншу, они хотят какможно быстрее подняться выше и, пользуясь благоприятствующимим социальным землетрясением,удовлетворить свою жажду власти. В партии, котораяих приняла, воспитала, социально продвинула,они видят не только Церковь, но и замечательныйинструмент для восхождения на вершины власти. Ихблагодарность этому необыкновенному Пигмалионубесконечна. Эта преданность, усиливаемая сектантскимхарактером их ленинской субкультуры, приводитих к полному отождествлению, психологическомуи идеологическому, самих себя с партией и ее миссией,партия для них всё: семья, школа, личный успехи личная власть. Очень скоро наступает момент, когда235
их простое и часто плебейское происхождение оказываетсялишь далеким воспоминанием, похороненнымсреди анкет и бумаг, которые они должны были представитьв момент вступления в партию. Гораздо болееважной, чем происхождение, оказывается теперь та исключительнаяроль, к которой их предназначил ходреволюции: составить заново новую военную касту,а главное, новую всеобъемлющую бюрократию, котораяпридаст им самим совершенно новое и характерноесоциальное положение.Здесь корни зрелого гомо большевикус. Тогда-то ипоявляется на русской сцене странное существо, студенистоеи эластичное, как спрут, текучее и гранитнонепробиваемое,индивидуальное и коллективисте, существоникогда ранее еще не виданное: это «зверь»совершенно неизвестный, гигантский, с огромнымиприсосками, покрывающими бесформенное тело, сжадными и пустыми глазами, лишенными огня, почтислепыми. Старые марксистские или либеральные определения,с помощью которых обозначались социальныеклассы, уже не достаточны для того, чтобы определитьсоциальную природу этого существа, пугающегои уникального. Безличность отдельного индивидагомо большевикус и вязкая непроницаемость большевистскогобюрократического аппарата, кажется,сливаются вместе, чтобы произвести на свет некуюабсолютную ленинскую сущность.Быстрый рост и затем вездесущность этого чудищав пустоте, произведенной революцией и падениемгражданского общества, объясняют отсутствиетого красного Термидора, о котором Троцкий, изобретшийэту необходимую ему мишень, говорил стакой убежденностью в изгнании. На самом же делесам Троцкий, с его идеологическим экстремизмом,с его часто безжалостными действиями, с его идеямии практикой в области экономики, гораздо более нетерпимыми,чем его идеи в области культурной, лично236
содействовал конечному удушению гражданского обществаи его замене партией. Он не мог понять, чтогде нет гражданского общества, там не может быть итермидора. Во Франции и в Англии, после революции,все старые классы сохранились. Их взаимоотношенияизменились, соотношения экономических и политическихсил в обществе переменились и дифференцировались,но классы как таковые оставались. И еслив большевистской России исчезает всякая возможностьреставрации или контрреволюции, так это потому,что нечего уже больше реставрировать и нет никого,кто бы во имя уже несуществующего класса мог быобратить ход событий. Здоровое явление прилива иотлива не может возникнуть после революции, которуювзял в свои руки гомо большевикус: бюрократическийсуррогат общества, который он создает наместе общества исчезнувшего, фатальным образомобречен окостеневать, склеротизироваться и не оставляетуже места для альтернативных решений.Крестьянство как исключениеВ этом суррогате общества, подмененном партией,существовало, однако, одно особое исключение,которое Сталин уничтожил и тем подтвердил правило.Исключение это — крестьянство. Оно представлялособой единственный уцелевший класс старогообщества, сохранивший независимость, благодаря наличиюу него собственности. К тому же класс этотпредставлял собой три четверти населения страны.Эта гигантская крестьянская масса, стоящая поперекгорла у режима, как горькая пилюля, это человеческоеморе, непокорное и требовательное, это вечное оскорблениесамого образа социалистической России заставитЛенина отступить во второй раз после Брест-Литовска.237
По самой своей природе крестьянство, представляющеесобой пассивную силу, неспособную порождатьновые кадры современного общества, не можетвозвыситься до руководящего класса. Тем не менее,в бесконечной русской пустоте, сама того не сознавая,эта масса становится тоже своего рода суррогатомпогибшего гражданского общества. Она становитсяим, так сказать, по физиологическим причинам.Отношения и конфликт между крестьянами ибольшевиками в России — невообразимы, поразительныи парадоксальны. С одной стороны, мы имеембольшевистскую бюрократию, которая, универсализируясь,постепенно присваивает себе все руководящиефункции несуществующего гражданского общества.С другой стороны, мы имеем крестьянский мир,который самым примитивным образом, бессознательно,воспроизводит некоторые структурные черты,типичные для исчезнувшего общества: частную собственность,экономическую самодостаточность, независимостьот государства. Если партия присвоиласебе главным образом политические функции исчезнувшихклассов, то мятежная деревня сохраняет идаже выявляет в акцентированном виде, восставаяпротив пиратских нападений ленинского государствана ее закрома, всю шкалу экономических ценностей исобственнических привилегий, которые лежали в основестарого общества. Таким образом, мы видим, каксталкиваются в этой странной борьбе за овладениевсе большими порциями пустоты два странных новыхсуррогата гражданского общества: один совершенноискусственный, до предела идеологизированныйи политизированный, который по самой своей природене может терпеть присутствия никакого автономногосоперника, другой — менее искусственный, ногрубый, искалеченный, неполный, политически инертный,но не могущий, в свою очередь, терпеть вмешательствав свою экономическую и производственную238
сферу. Во время гражданской войны, если не считатьспорадических реквизиций хлеба и фуража краснымии белыми, это крестьянское общество смогло сохранитьсвою относительную свободу. По окончании войныоно почти целиком избегает захвата со стороныленинского Государства-Партии. Но столкновение,которое на несколько лет отсрочивается нэпом и отступлениемГосударства-Партии, неизбежно — и обреченовылиться в конечном счете в бойню. Это произойдетпосле того, как все попытки партии перебитьхребет крестьянству и взять над ним руководство окажутсябезуспешными.Погром 1929—1930-го годовУже и до 1905 года, в начале века, но особенно вовремя великого раздела латифундий зимой 1917-18 годов,проявилась в деревне ненависть к кулаку, богатомукрестьянину, лишь немногим меньшая, чем ненавистьк помещику, чья фигура в глазах мужика сливаласьс государственной властью. Сама аграрнаяполитика Столыпина, впрочем довольно хитрая, возбуждалазависть и соперничество среди крстьян испособствовала обострению внутри крестьянства всехсуществовавших там побочных конфликтов. Столыпинтоже, как народники и как Ленин, сознавал наличиерастущих различий внутри традиционного деревенскогокрестьянского уклада и стремился обостритьих, чтобы расшатать застойный архаический укладсоциальными контрастами, сопутствующими обычновсякой глубокой аграрной реформе. Его подход к проблемебыл, разумеется, эмпиричным подходом государственногодеятеля, а не социолога или идеолога, и егоцелью была модернизация России, которая, по егомнению, должна была начаться именно с деревни.239
Столыпинские реформы, обострившие сельскуюдифференциацию, невольно подготовили базу той болеерадикальной и более грубой переделки крестьянскогомира, которая наблюдалась во время первойреволюционной зимы, когда раздел земель проводилсяв атмосфере дикого бунта. Тогда исчезают в небытиепоследние остатки дворянства, а «кулаки» принуждены,часто грубой силой, слиться с сельской общиной иобеднеть. Однако, несмотря на то, что таким образомсоздается грубое уравнивание внутри деревни, ошибочнобыло бы считать, что в результате этой революционнойкампании в большей степени, чем в результатереформ, новая власть, установившаяся в Петербурге,получила верного союзника. Несмотря на этот нивелирующийпроцесс, который, не устранив их окончательно,все же сгладил различия в деревне и видоизменилее социальную структуру, крестьянство остаетсянедоверчивым или даже враждебным по отношению кбольшевистскому государству. Как и раньше, именногосударство остается той внешней враждебной силой,которая смягчает внутренние раздоры в деревне ипридает ей единое классовое сознание, государство,которое требует слишком многого, проводит реквизиции,отменяет деньги, обесценивает крестьянскийпродукт в процессе обмена на продукты промышленные.И не имеет никакого значения то, что такое положениеобъявляют временным следствием революции,дружественной мужику. Имеют значение лишьэкономические действия власти и ее политические намерения,и с самого начала и те, и другие кажутсямало благоприятными для крестьянской автономии.Фактом остается то, что разные слои крестьянства,как бы различны они не были, вынужденные противостоятьгосударству или армии, будь то красной илибелой, сразу же обретают единство перед лицом внешнегопосягательства. И именно это глубокое единство240
в гораздо большей степени, чем все поверхностныеконтрасты, становится тогда определяющим.Власть предпринимает наступление и ведет его воимя так называемой смычки городского пролетариатас бедными мужиками против крестьян-«буржуа».Вновь появляются на свет те искусственные социальныекатегории, которыми Ленин пользовался уже в началевека при анализе русской деревни. Но на самомделе большевистская власть уже не видит никакой существеннойразницы внутри всего класса крестьянствав целом. Эта власть уже знает, что в условияхтого противоестественного состояния, которое она порождаети администрирует, крестьяне силой самих вещейвынуждены с глухим упорством противиться всемутому, что вне них: городу, промышленности, армии,полиции, бюрократии. Скупая, раскинувшаяся набеспредельных просторах русская деревня, торгующаясвоими богатствами или ревниво прячущая их, предстоитперед жадными глазами партии как враждебнаяземля, которую надо завоевать. Кровавое столкновениемежду властью и стойким сельским населением,которое в России сильно своим огромным удельнымвесом, обретает черты религиозной или расовой войны.Своеобразная форма расизма, одновременно идеологическогои биологического, незаметно поселяетсяв те годы в отчаявшейся душе гомо большевикус. Ончувствует, что этот темный и враждебный ему крестьянин,не только исторически, но даже физиологическиего настоящий и единственный соперник в русскойсоциальной пустыне, только он находит еще силу противостоятьабсолютной власти, более того, только онпредставляет собой еще смертельную опасность этойвласти. Это война более дарвиновская, чем марксистская,это борьба за выживание между двумя несовместимымивидами, со всеми теми жуткими атрибутами,которые такая крайняя форма борьбы несет с собой.Лютая ненависть, расовый фанатизм, жажда уни-241
чтожения — эти страсти обуревают гомо большевикусв ходе тоталитарного погрома, который он ведет противвраждебного вида как против чего-то чуждого,отличного от всего остального человечества. Впервыев истории целый социальный класс становится в глазахправителей ненавистной расой. Рациональная жестокость,с которой гомо большевикус проводит этограндиозное репрессивное предприятие, выливаетсяпочти в бешеный геноцид.В такой атмосфере насилия, также и психического,совершается кровавое дело коллективизации.Остаются как бы бесполезным грузом на поверхностии обретают даже иронический оттенок знаменитыеленинские категории, с помощью которых в этой ужаснойпробе сил гомо большевикус. стремится успокоитьсвою идеологическую совесть. Крестьяне гибнут миллионамиот пуль оголтелых боевых эскадронов, созданныхпартией, от голода, от холода в тайге, от жуткихусловий массовой депортации, а фальшивые ленинскиекатегории, присваивающие деревне три противостоящихдруг другу класса по типу городских,позволяют режиму оправдывать марксизмом одно изсамых бесчеловечных и наименее марксистских деяний.Ведя борьбу с крестьянством как с единым враждебнымклассом, большевики уверяют, что находятподдержку в этой новой гражданской войне у наиболеенеимущих деревенских масс, но на самом деле дажеони, эти массы, поддались мобилизации лишь всамом начале коллективизации. Сразу же после первыхконфискаций и первых расправ 1929 года даже этот«сельский пролетариат» отдает себе отчет в том, чтогосударство, хотя и большевистское, по существу враждебновсем крестьянам.В сущности, партия встречает поддержку в деревнетолько со стороны некоторых местных преступныхэлементов. Все сельское население в целом остаетсяглухим к идеологическому призыву, не поддаю-242
щимся ни террору, ни лести, единым в своей бездоннойтрагедии и психологически несгибаемым в своемвременами отчаянном сопротивлении. Большевики длятого, чтобы довести до конца эту свою безжалостнуюборьбу против крестьянства, должны были создатьспециальные отряды политической полиции и использоватьсамые различные формы рекрутирования: ватагигородских хулиганов из низов, молодых комсомольскихфанатиков, индоктринированных рабочих,недовольных глухим равнодушием деревни к какойбы то ни было социалистической солидарности. Такимобразом, эта война не находит союзников внутри деревни,она ведется снаружи, из города, и направленапротив всего крестьянства как такового. Все остальное— идеологические выдумки или чистая ложь, что витоге оказывается одним и тем же.От нэпа к коллективизацииКризис, который привел в конце концов к насильственнойколлективизации и к столкновению с крестьянством,был продолжительным, сложным и затронулсобой всю систему в целом. Объективные трудности,бесконечные теоретические дискуссии, укоренившиесяидеологические предрассудки, жестокая борьбаза власть — все это сыграло свою роль и определилонекоторые из тех многочисленных факторов, которыев конце концов заставили Сталина избрать самый крутойиз экономических путей, путь, отводящий насилиюглавную роль в деле построения определенноготипа общества и в выборе определенного типа развития.В 1927 году легкая игра в нэп была завершена.Сельское хозяйство вновь стало на ноги. Крестьяне,привлеченные притоком товаров и стабильностьюрубля, позволявшей приобретать эти товары по при-243
емлемым ценам, снова начали работать. Теперь, чтобысохранить равновесие, надо было укрепить также ипромышленное производство. И это тоже казалосьразрешимым. Партийные специалисты понимали, чтодля нормального капиталовложения в промышленностьнужны были суммы относительно небольшие всравнении с национальным доходом страны. Они впервое время считали, что можно было спасти и козуи капусту: стимулировать производство товаров потребления,чтобы побуждать крестьян работать для рынка,и в то же время собрать необходимое количестворублей для того, чтобы дать необходимый кислородпромышленности, унаследованной от прошлого.Но в глубине, под поверхностью этих пр9блем,которые казались довольно простыми и разрешимыми,скрывалась уже аномалия, которая вскоре такили иначе проявилась бы. Промышленное оборудованиене обновлялось после 1913 года. Отсталость иизношенность русского технического аппарата требовалина самом деле капиталовложений гораздо больших,нежели те, что были бы достаточны только длятого, чтоб пустить в ход наличные в 1927 году фабрики.Кроме того имелась более чем двухмиллионнаяармия безработных — позор для режима, которыйназывался рабочим и социалистическим. Для того,чтобы построить социализм, следовательно, нужнобыло модернизировать промышленность, увеличитьтемпы роста и создать новые рабочие места, чтобыликвидировать безработицу. Иными словами, нужнобыло поднять производство во всем его объеме, обновляяи заменяя устаревшее и даже просто непригодноепромышленное оборудование. Чтобы проделатьвсе это, нужны были большие капиталы и значительныекапиталовложения, проблема эта со всейостротой начинает вырисовываться начиная с 1927 года,одного из самых сложных в истории большевизма.Таким образом, само положение вещей побуждало244
сделать выбор, независимо от политической воли ивременных экономических предпочтений.Но речь шла о выборе, упиравшемся в труднуюдилемму. Если дать большой приток капиталов в тяжелуюпромышленность, то нужно автоматическисократить производство легкой промышленности исократить циркулирование товаров потребительских,и первыми, кто пострадал бы от этого, было бы крестьянство.Между тем положение в деревне, благодарянэпу, значительно изменилось. Крестьянин уже не былболее терроризован гражданской войной, военнымкоммунизмом и великим голодом. К концу нэпа образовалосьраздробленное аграрное хозяйство, благополучноев целом, состоящее из мелких собственников,трудно контролируемых, но регулярно поставляющихна городские рынки сельскохозяйственную продукцию.Либерализованная экономика, усилив деревенский слой,относительно зажиточный в сравнении с остальнымнаселением, придала ему значительную силу в договорныхотношениях с городом и государством. Деревнястановилась определяющей силой всего производственногопроцесса и иногда даже тормозящейсилой. И совершенно неизбежно должна была возникнутьнапряженная атмосфера и нарастающие контрастымежду «буржуазными» интересами этих обогащенныхнэпом крестьян и «социалистическими» потребностямигосударства, вынужденного обновлятьпромышленность в ущерб существовавшей легкой промышленности.Обе стороны, особенно большевики,уже стали на путь, который скоро должен был привестик столкновению.Кризис не мог затянуться надолго. Но разрешитьего было очень сложно. Старая царская налоговаясистема, которая эффективным образом изымала прибавочнуюстоимость крестьянского труда с помощьюкосвенных налогов на водку и на соль, была упразднена.Теперь большевистское государство было не в со-245
стоянии принудительно восстановить подобный типналогообложения при многотысячных мелких крестьянскихвладениях. Кроме того, опыт показал, что всякийраз, как государство пыталось применять крутыемеры к крестьянству, оно отвечало остановкой производства.Но даже если государство прибегало к мягкимметодам, оно всегда рисковало вызвать хлебныйсаботаж: зерно шло на силос, и города оставались безхлеба.Общая экономическая ситуация таким образом,как мы уже отмечали, была гораздо более сложной,нежели во времена правительства Витте. Нэп и возвратк рыночной экономике, необходимые для оживленияхозяйства страны и для спасения режима^, современем привели к губительным и почти парадоксальнымрезультатам: необычайнейшее государство,Государство-Партия, которое по самой своей природене могло отказаться от тоталитарного бюрократическогогосподства над вещами и над людьми, вынужденобыло склоняться перед волей крестьян, выражавшейсячерез игру рынка. В этом-то и состояло великоепротиворечие, с которым столкнулся большевизм вкритическую фазу перехода от нэпа к сталинской коллективизации.Бухарин, защитник крестьянБухарин, бывший в юности ярым экстремистом,стал в зрелые годы представителем той оппозиции,которая называлась «правой», а также носителем некойутопии социал-демократического типа внутрибольшевистской России. Его личность, чуткая и подвижная,и особенно его характернейшие взгляды, всегдаоказывавшиеся в центре теоретических и политическихдискуссий конца двадцатых годов, ныне более,чем когда-либо, стали предметом поклонения за-246
падных эрудитов либерального, либерально-демократическогои даже «еврокоммунистического» толка.В великом споре, который раздирает партию втот решающий период, Бухарин, находясь на противоположномот троцкистов полюсе, становится адвокатоми защитником крестьянства. Он более, чем ктолибо,размышляет над плюралистическим динамизмомнэпа и угадывает все содержащиеся в нем антитоталитарныеполитические возможности. Это единственныйбольшевик, осмеливающийся порвать с двусмысленностьюи убежденно делающий ставку на законырынка. Создается впечатление, что Бухарин ваграрном вопросе приветствует своеобразный возвратк Столыпину: как и царский премьер-министр, он,кажется, тоже делает ставку на более сильного, наболее способного, на «кулака». Он утверждает, чторынок должен быть использован прежде всего длятого, чтобы разрешить трудную проблему снабженияпродовольствием. Но чтобы сделать рынок живым,чтобы увеличить приток на него продуктов из деревни,нужно дать крестьянину достаточные экономические иполитические гарантии, освободив его от страха возможноговозврата к военному коммунизму, стабилизациейрубля побудив его к накоплениям, предложивему по приемлемой цене широкий ассортимент потребительскихтоваров. Тезисы Бухарина, как и троцкистскиетезисы с противоположной стороны, логичны ипоследовательны, каждое стеклышко здесь плотноприлегает к другому, составляя вместе довольно убедительнуютеоретическую мозаику.Есть, однако, один реальный факт, который оправдываетанализ троцкистских сверхиндустриализаторови не помогает безоговорочной защите крестьянскихинтересов. Фон, на котором протекает столкновениеэтих противоположных тезисов, вдруг снова становитсятемным и угрожающим. Именно в 1927-28 годах,когда столкновение становится особенно острым,247
над Россией опять нависает угроза силосного кризиса.Снова, в своего рода забастовке, сокращается производствов сельском хозяйстве, правительство еще развынуждено закупать зерновые за границей. Перед лицомтакой тяжелой ситуации Бухарин, пытаясь воспротивитьсяобычной тенденции партии рубить узлымечом, придает своей защитительной речи тон суровогопредостережения. Сила, говорит он, уже не оправдываетсебя. Реквизиции не решают проблемы.Прибегнуть к политике принуждения — значит ввергнутьеще раз Россию в пучину смутного времени, какв эпоху военного коммунизма. Нужно теперь, наоборот,больше, чем прежде, делать ставку на нэп, активизируярыночную экономику, увеличивая заинтересованность,расширяя производство товаров потребления,нужно в конечном счете прислушиваться большек голосу крестьянства, следя за показателями рынка,и делать капиталовложения в те секторы, которыемогут удовлетворять его нужды.Но как же, возражают интеллектуалы из Госплана,решить в то же время проблему индустриализации?С их точки зрения, они тоже правы. Мы ужевидели, что только для поддержания статуса кво впромышленности и приостановления процесса старенияоборудования, нужно было, начиная с 1927 года,срочно проводить терапию идустрии гораздо болеедорогую, чем та, что требовалась по первым предварительнымподсчетам. Чтобы обновить по крайнеймере самую существенную часть производственногоаппарата, нужно было сделать большие капиталовложения,при этом даже и не помышляя еще о социализме.Но где взять капиталы, необходимые дляэтой терапии? Возможные прибыли, которые когдато,быть может, будут получены от ставки на крестьянскийрынок, поступят во всяком случае слишкомпоздно и будут притекать слишком медленно, чтобывовремя финансировать промышленность.248
Ответ, который в скрытом виде уже содержитсяв пронэповских теориях Бухарина, кажется подозрительнымдаже Сталину, который был в течение некотороговремени его союзником в прокрестьянскойстратегии. В самом деле, бухаринская схема, чтобыстать реальностью, не может обойтись без иностранныхкапиталовложений. Но если хотят прибегнуть кзападным кредитам, то следует гарантировать прибыльили, по крайней мере, проценты с капитала. Вэтом случае Россия, представляющая собой островсоциализма во враждебном мире, была бы автоматическивключена в международный рынок и, следовательно,вышла бы из своей изоляции, быть может,неудобной с экономической точки зрения, но несомненновыгодной с точки зрения идеологической. Наверхах партии, в тот момент еще не сделавших выборамежду путем сельскохозяйственным и путеминдустриальным, либерализм Бухарина вызывает сомненияпо двум взаимосвязанным причинам: во-первых,потому что он слишком полагается на неконтролируемыемеханизмы внутреннего рынка, и во-вторых, потомучто ведет к неизбежному включению России вмеждународный рынок. Оба этих аспекта, внутреннесвязанные меж собой, представляют собой слишкомбольшую опасность для стабильности и для сохранениясистемы. Что делать, если в один прекрасныйдень Россия, как Китай, будет вынуждена бухаринскойлогикой принять на своей территории иностранныеконцессии полуколониального типа? Это привелобы к противоречию не только с социализмом, но и спринципом национального суверенитета.Это предложение, кроме того, в глазах партии,содержит в себе еще одну политическую ловушку. Всамом деле, Бухарин утверждает, что недоверие крестьянк режиму носит не только экономический характер.Крестьянская масса, все время боящаяся возврата кдонэповскому прошлому, хочет получить гарантии249
необратимости рыночной экономики. Бухарин даетпонять, что успокоить крестьянство в этом деликатномвопросе можно, лишь восстановив сельские советыс представителями деревень, непосредственноизбранными населением. Утопическая последовательность«правых» здесь почти механична. Их мысль,исходя из предположения о необходимости улучшитьвсе более неопределенные отношения между режимоми крестьянством, постепенно приходит и к последнейгипотезе, самой коварной: гипотезе о неизбежностиперехода от рынка к советам, от экономического плюрализмак плюрализму политическому. Посколькупереход от одного к другому неизбежен, лучше, предваряявремя, уступить сегодня то, что в любом Случаепридется уступить завтра. Иными словами, всеэто означает начало процесса, этапами которого будетсоздание крестьянского парламента, крестьянскойпартии и, наконец, крестьянской фракции внутри самойбольшевистской партии. И действительно, Бухаринуже представляет собой эту последнюю.Но партия, все более встревоженная и все болееподозрительная, видит, что логика его мысли идетдаже дальше этой крайней границы. Она влечет запределы, ею самой установленные. В самом деле, втот день, когда крестьяне получат свои советы и дажесвоих официальных представителей внутри партии,можно ли будет отказаться дать те же политическиепривилегии рабочим? Эта большая ставка на рыночнуюэкономику, превращающаяся в политическую программу,не представляет ли собой в конечном счетепопытку заставить партию отступить назад к буржуазнойдемократии? Этот прокрестьянский экстремизм,в скрытом виде прокапиталистический, не угрожает липартии самым разнузданным фракционизмом, не грозитли разложить единую партию на несколько партий:крестьянскую, рабочую и т. п.?250
Бухаринская позиция, таким образом, оказываетсяв глазах большевиков, связанных со сталинским аппаратом,уже не просто некоторым отклонением вправовнутри нэповской политики партии, а опаснейшимперерождением, имеющим свои корни в самом нэпе.Они начинают думать, что зло содержится не стольков самих этих бухаринских идеях, сколько в том, чтоэти идеи порождает, и это перемещение их критическоговнимания со следствия на причину бросает странныйсвет на рынок как таковой и на все то, что с нимсвязано и что может из него выйти. Шокированныеи приведенные в состояние тревоги все более смелымиидеями Бухарина, Сталин и его сотрудники постепенноотдают себе отчет в том, что рыночная экономика,необходимая в начале двадцатых годов и полезнаяв середине двадцатых годов, теперь уже представляетсобой опасность для идеологически-бюрократическойвласти Государства-Партии. Это смертельнаяопасность, поскольку она несет в себе вирусыполитического плюрализма, разложения единой партии,распад всей монополистической системы, от которойзависит само существование зрелого гомо большевикус.Именно поэтому Сталин и большинствобольшевистских руководителей решают блокироватьбухаринское предложение, которое к тому же теперь,когда троцкисты оказались на двойственном путиидеологической победы и политического поражения,стало бесполезным и в качестве символического инструментав борьбе за власть. С момента заката троцкистскойлевой противовес бухаринской правой ужене столь необходим сталинскому центру. Теперь ужеот всего комплекса бухаринских идей, которые темвременем становятся все более экстремистскими, неостается уже ничего, кроме их смертельной еретическойопасности. Отказ от бухаринских теорий резок и,по крайней мере для Советского Союза, окончателен.Приговор подтверждается также тем эфемерным251
характером, который будут носить некоторые, скореенеосознанные, чем сознательные, необухаринскиепоползновения в начале 60-х годов после XXII съездаКПСС. Хрущев пал, может быть, прежде всего потому,что попытался расколоть партию по вертикалина сельский и промышленный сектор, а Либерманисчез со сцены вместе со своей харьковской школойпосле того, как провозгласил, что СССР должен идтик социализму рублем.Действительно, философия бухаринской правой,если учесть ту идеологическую среду, в которой онародилась и которую хотела оздоровить и исправить,была реалистической лишь в абстракции. Конкретноже она была утопичной. Существует и всегда будетсуществовать в большевистской системе глубокаянесовместимость между верным диагнозом и нужнойтерапией. С точки зрения чисто экономической, терапия,предложенная Бухариным на основе точного диагноза,была, несомненно, желательной и разумной,но для того, чтобы больной ее принял, необходимбыл иной политический контекст. Иными словами,пациент должен был быть другим — не большевистскойпартией, такой, какой ее задумал и построилЛенин в огне военного коммунизма и гражданскойвойны, партией, нетерпимой к другим и к самой себе,навсегда нацеленной на монолитность (установленнуюX съездом), ревниво оберегающей свои социальные,экономические и культурные, не говоря уж о политических,функции и, следовательно, всегда ориентированнойна абсолютный контроль любой деятельности,даже самой второстепенной. Для столь требовательногои ненасытного организма предложение Бухаринаозначало самоубийство.Если теперь мы сравним теории Бухарина и Троцкого,то есть утопию возможного и утопию невозможного,то увидим, что абсурдным, но в то же времяпонятным образом в идеологических и структурных252
рамках данной системы вторая может быть гораздолегче реализована, чем первая. Мы видим, как невозможноев ненормальных условиях становится болеереальным, чем возможное. В конце двадцатых годовпочти все представители троцкизма разбиты или уничтоженыСталиным, и в то же время троцкистскаятеория развития, хотя и в искаженном виде, торжествуети получает даже официальное одобрение. Примернов то же самое время оттеснены на задний планбухаринцы и бухаринские теории. Несогласия с бухаринцамив тот поворотный момент кажутся болеемягкими в плане личном, но в плане политическоми идеологическом они гораздо более резки и глубоки.Одна из причин успеха теории троцкистов заключена,несомненно, в их прирожденном умственномэкстремизме, в их желании и способности как можнотеснее слиться с большевистской системой, но онатакже и в их исторической чуждости антропологическомутипу большевика. Это кажется парадоксом, ноэто так. Троцкист, великий отверженный, гениальныйдилетант социалистической революции, именно потому,что он чужд подлинно большевистской натуре, —всегда мучим и искушаем идеологическим радикализмоми пуританизмом. Бессознательно он хочет статьтем, чем ему отказано быть. Именно поэтому, влекомыйк экстремизму, он старается освободиться отсвоего дилетантизма и в то же время определить неопределенностьсвоей природы путем самобольшевизации,столь же полной, сколь и невозможной. Его«большевизм» никогда не может стать органичным,всегда остается интеллектуальным и как бы искусственным.Но, как ни парадоксально, такое болезненноестремление к глубокой мутации собственной сутиприводит его к идеологической конкуренции с настоящимгомо большевикус и даже к превосходству. Емухочется быть первым в классе, к которому он не принадлежит.Ему хочется научить большевика, как стать253
большевиком и как построить социализм. Он, дилетант,претендует на то, чтобы быть профессиональнеевсех. Троцкий, после смерти Ленина, которыйбыл биологически совсем иной породы, объявляетсебя его единственным законным наследником, которомупоручено интерпретировать его учение и продолжатьего дело. Преображенский идентифицируетконечную стадию большевизации России с усиленнойиндустриализацией.Поэтому страстным желанием троцкиста никогдане может быть, как это утверждают сталинисты, раскол,предательство или бегство от большевизма. Напротив,его подлинное желание, вечно невыполнимое,— быть признанным совершенным большевиком. Егоересь поэтому — это не ересь недостатка, а ересь излишества,почти люциферского излишества, и не случайноего идеологические отношения с советской системойостаются в глубине лояльными даже в моментысамых жестоких преследований в тридцатыегоды. В работах Троцкого того периода все времявстречается один и тот же лейтмотив — базис системы,будучи антикапиталистическим, сам по себепочти здоров, и лишь политическая надстройка больнаи деспотична. Сталинизм в глазах представителейЧетвертого Интернационала — всегда явление узурпаторское,временное отклонение, эпизодическая случайность,объясняемая русской отсталостью и враждебностьюкапиталистического мира, и никогда —эндогенное следствие ленинизма и большевизма. Антикапиталистическийбазис системы, социализациясредств производства и коллективизация сельскогохозяйства, уже раньше выдвинутые троцкистами вплане теоретическом, восхваляются, мифологизируютсяи противопоставляются «термидорианскому перерождению»сталинизма. Достаточно сместить Сталина.Социализм, временно сошедший с рельс, сразуже пойдет по правильному пути.254
Эта странная ересь солидарности все время порождаету последователей Троцкого некое центростремительноеи психо-идеологическое напряжение,которое побуждает их оставаться любой ценой внутрибольшевизма. Даже политическое поражение Троцкогоне заставляет их отказаться от своего рода одержимогопризвания приносить жертвы на алтарь ортодоксии.Поэтому-то их детальные программы развитиябыли приняты в конце двадцатых годов, когдаТроцкий фактически был уже разбит, а их идеологическоевысокомерие, без которого эти программы немогли бы возникнуть, было наказано и демонизировано.После того как дилетант был сломлен и уничтожен,успев перед этим в своем горделивом порывесоревнования сделать решительный творческийвклад в создание тоталитарной системы, гомо большевикусмог уже без опасений принять и присвоитьсебе некоторые его идеи и предложения. Именно вэтот момент утопия невозможного, выработаннаятроцкистами, соединившись с врожденным утопизмомбольшевиков, становится реалистичной и оперативной,она в совершенстве согласуется с идеологическимхарактером системы и с ее глубинным инстинктомсамосохранения.В случае с Бухариным и теми, кто, как Томскийили Рыков, поддерживает его идеи и политическуюплатформу, мы имеем дело с иным явлением, потомучто оно во многом вписывается в подлинный большевизм.Бухарин был любимцем Ленина, а затем, вгоды нэпа, стал на время самым главным союзникомСталина. Но, несмотря на это, нельзя сказать,чтобы он был совершенным большевиком. Он былскорее непослушным большевиком. Бухарину, с егобеспокойной эмоциональностью, с его интеллигентскойсверхчувствительностью, с его постоянными колебаниямии переходами от «левого» радикализма к «правому»экстремизму, не удается до конца пройти по ленин-255
скому пути и прийти к последней стадии зрелого гомобольшевикус. В некий момент происходит непоправимыйразрыв в его идеологической и антропологическойэволюции. В противоположность троцкистам,которые, будучи чужими в большевизме, стремятсяцеликом большевизироваться, Бухарин и его сторонники,находясь внутри большевизма, именно поэтомуотказываются большевизироваться до конца. Во времяспоров и битв двадцатых годов в них зреет как быпредчувствие, что тотальная большевизация людейи вещей сможет привести лишь к постоянной трагедиии для России, и для самих революционных идеалов.Позже, в знаменитом своем «завещании», написанномв середине тридцатых годов в Париже, это предчувствиевыльется у Бухарина уже в самокритику,столь суровую, что она граничит с отречением. Еслитроцкистов в их центростремительном движении к большевизмуподталкивает идеологический импульс, то бухаринцевудаляет от большевизма центробежное движение,которое носит не идеологический характер, аскорее характер все усиливающейся и необратимойдеидеологизации.В разгар великого спора об индустриализацииставка Бухарина на нэп, на крестьянина и на рынок,со всеми вытекающими из этого экономическими иполитическими последствиями, очень скоро выталкиваетего прочь из ленинского загона. Сделать нэп ужене гибким и в любой момент заменимым тактическиморудием, а самоцелью и даже стимулом разветвленнойпрограммы демократического возрождения— это еретическое предложение, и именно благодаряреализму, с которым оно сформулировано, оно кажетсяопасным и нереалистическим системе, основаннойна опрокидывании реальности и на отрицаниивсякой социальной самодеятельности. В момент выборамежду большевистским монополизмом и рыночнымплюрализмом, между насильственным индустри-256
альным развитием и естественной сельскохозяйственнойэволюцией, между бюрократическим деспотизмоми самодеятельностью жизни, в Бухарине, которыйстановится на сторону либеральной альтернативы,происходит как бы генетическая блокада, остановкана предпоследней стадии его несовершившегося созреванияв качестве гомо большевикус. В отличие от троцкистов,которыми движет конфликтующая установкавнутри самой большевистской логики, вызов и стремлениезахватить командные пункты в полном соответствиис самыми глубокими тоталитарными токамисистемы, Бухарин все более отдаляется от системыкак таковой и устремляется на побочную дорогу, болеетого, обратную и противоположную той, которуюуказывают сторонники бюрократической и авторитарнойиндустриализации.Бухарин представляет собой первый пример деболыпевизациина верхах большевистской власти. Ипо этой причине тоже его случай безнадежен и не имеетпоследователей. Его утопия возможного, противоречащаябольшевистскому утопизму, стремящемуся кневозможному и, естественно, более созвучному троцкистскимтеориям, для партии неприемлема, потомучто она чужда реальности или скорее сюрреальности,созданной Лениным. Возможное становится утопичным,ибо оно нереализуемо. Слишком реалистическийпроект Бухарина, который стоил бы России, с экономическойи человеческой точки зрения, гораздо меньше,чем троцкистский, принятый Сталиным, был отвергнутпотому, что его реализация привела бы к кризисувсю идеократическую структуру системы. Повсей вероятности, программа Бухарина, если бы онабыла принята, могла бы быть реализована с той жеэффективностью и быстротой, как и троцкистскосталинская,и, кроме всего прочего, предохранила бырусскую деревню от некроза и обеспечила бы Россииразвитие более гармоничное и, как знать, быть может,257
также создание оригинальной формы смешанного иплюралистического общества, своеобразный прототипсамоуправляемого общества с некоторым наличиемсвободы. Но именно такая перспектива утопична. Идеологическиесоображения, которые одни только и имеютзначения для большевиков, не могут признать легальнымэкономический реализм Бухарина. Приматидеологии и политики над экономикой топит его проектдаже до всякого его внимательного рассмотрения:большевистский инстинкт самосохранения отвергаетего сразу же, даже не давая времени специалистамдетально проанализировать его.Бухаринское предложение отвергнуто и принятакарикатура троцкистского. По целому ряду причин,зависящих от характера системы и от реальных условийв России того времени, программа, разработаннаяизощренными проектировщиками Госплана, не можетпроводиться в жизнь в соответствии с их совершеннымисхемами. Она оформилась в ходе долгой теоретическойполемики и принята партией в тот момент,когда внутренние конфликты утихают именно благодаряполитическому поражению троцкистов, которыекак раз и должны были бы ее реализовать. Программаоказывается в руках победителя, Сталина, и он, совсей своей технической некомпетентностью, идеологическойгрубостью и презрением к экономическимвопросам, навязывает ее рабочим и особенно крестьянамв жесткой и приказной манере. Рафинированныетроцкистские теории, сталинизированные и обнаженныедо костей, сведенные к набору чистых принуждений,становятся гротескной тенью самих себя.Они служат не чем иным, как только оправданием вооруженногоограбления деревни и насильственногогигантского разрастания тяжелой промышленности.Только какой-нибудь остаток гражданского обществамог бы выполнить необходимую корректировку в ходереализации столь широкого и столь радикального258
плана коллективизации и индустриализации. Но гражданскогообщества, разрушенного революцией и похороенногоЛениным, больше нет. На его месте естьлишь бесконечное и бесформенное крестьянское море,вражеская раса, которую надо покорить и поработить.Никто и ничто уже не могут противиться и противостоятьбиному, именуемому: Сталин-Партия. Троцкий,уже побежденный, невольно предоставив сталинизмуидеи и боевые орудия для осуществления этойокончательной революционной трансформации России,вынужден бессильно наблюдать за упрощением иоглуплением своих идей и своей политики. Горек конецрусского троцкизма.После того как бухаринская утопия возможногобыла отброшена, а троцкистская утопия невозможногобыла извращена самым наглым образом, остаетсядействовать лишь одинокая воля Сталина, теперь ужеосвобожденная от всякого фильтра критики и всякихморальных запретов. В сталинизированном большевизменаконец проявляется в полную силу разрушительныйхарактер ленинской партии и ее идеологическойбюрократии. В коллективизации и индустриализациипроявляется также и ее суррогатный характер.Она разрушает и пожирает последние еще сопротйвляющиесяостатки общества и затем зановосоздает все из ничего: политику, общество, экономику.В ходе этой второй революции сверху большевизм,чьи отношения с марксизмом были всегда двойственны— он был одновременно продолжением марксизмаи разрывом с ним, — коренным образом переворачиваетвсе теоретические предсказания марксизма. В тотмомент, когда он решительным образом переворачиваетрусскую жизнь, он переворачивает также и детерминистскуюлогику марксизма. В самом деле, вовремя великого поворота на рубеже двадцатых-тридцатыхгодов мы видим, как партия, придерживающаясяучения Маркса и объявляющая себя материа-259
диетической и диалектической, создает экономику каксамую настоящую надстройку. Мы видим даже, какэта партия создает нечто вроде общества. Видим, наконец,как идеология, которая, по Марксу, как раз иесть надстройка как таковая, творит целый мир псевдоэкономическийи псевдосоциальный, который и оказываетсяее надстройкой. Первопричиной, базисом в этомперевернутом мире оказывается идеология, в лице партии,которая ее воплощает, а то, что в теории обозначенокак подлинная надстройка, перестает ею бытьи превращается в свою противоположность.Большевистский парадокс, возникший в Россииуже при Ленине, при Сталине достигает своего апогея.Вне него нет больше места для чего-нибудь нового.Проводившееся гомо большевикус дело дереализацииреальности завершено.Перевел Ю. Мальцев260
ИскусствоВладимир ТетерятниковМИСТИФИКАЦИЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫНА ЗАПАДЕИстория и разоблачение американской коллекциирусских икон Джорджа ХаннаОТ РЕДАКЦИИ: К сожалению, проблема, затронутая авторомпубликуемой нами статьи, выходит далеко за рамки собственно иконописи.В течение более чем полувека почти полной культурной изоляциинашей страны от всего остального мира, когда естественныйпроцесс обмена знаниями, идеями и информацией был в административномпорядке заменен с советской стороны эпизодическимивизитами представителей службы дезинформации или туристическихгрупп, а с западной — праздных охотников до всякой «рашен» экзотики,на Западе образовался, если так можно выразиться, профессиональныйвакуум, который поспешили заполнить различного рода«специалисты» по России, изучавшие ее в лучшем случае в библиотекеамериканского конгресса, а в худшем — из окон своих лимузиновс дипломатическими номерами или за столиком ресторана«Метрополь».Возвращаясь затем на родину и не встретив здесь сколько-нибудьсерьезных оппонентов, они — эти «специалисты» — утверждалисьв уверенности, что являют собою кладезь всевозможных ивсесторонних знаний о России. В результате, с течением лет на Западесложился определенный тип «знатока», «ученого», «эксперта»,формирующего теперь здесь (и уже, к сожалению, сформировавшего!)психологию целых поколений по отношению к русским духовнымценностям, будь то история, религия, литература или искусство.Разумеется, вся эта разношерстная публика была бы смешна всвоих претензиях, если бы она не успела за эти годы занять на Западеключевые позиции почти во всех дисциплинах, имеющих отноше-261
ние к советским вопросам вообще и русским в частности. Пользуясьсвоим положением, специалисты подобного рода пытаютсянавязывать нам — новейшим представителям отечественной культуры,оказавшимся теперь в силу различных обстоятельств в изгнании,собственные точки отсчета и собственные критерии в тех самыхобластях, в которых каждый из нас по своим качествам исумме знаний годится им если не в учителя, то уж во всяком случаехотя бы в высококвалифицированные советники. Но напрасно онитешат себя иллюзией, что пухлая чековая книжка вкупе с принадлежностьюк здешней интеллектуальной мафии оградят их от неминуемойпрофессиональной демистификации. Им следует понятьнаконец, что вольготная эпоха безнаказанного духовного мародерствакончилась, что пришло время переучиваться или заняться другим,более безобидным делом и что отныне, всякий раз, когда онивознамерятся всучить читателю, зрителю, слушателю свою срмнительнуюстряпню, мы постараемся вовремя предупредить окружающих:— Осторожно — фальшивка!В апреле 1980 г. знаменитая уже 200 лет английскаяаукционная фирма Кристи продала в Нью-Йоркена публичном аукционе за 3 миллиона долларов коллекциюрусских икон американского промышленникаДжорджа Ханна. Пресса всего мира отметила это событиекак «продажу века». И справедливо, посколькуэта коллекция, появившаяся на Западе в середине 1930-хгодов, была давно прославлена как самая выдающаясяколлекция русских икон вне России. За истекшееполустолетие эти иконы были репродуцированы болеечем в 50 книгах и были экспонированы в 40 музеяхвсего западного мира.Спустя несколько месяцев после этой знаменательнойпродажи я написал книгу «Иконы и фальшивки»,в которой доказываю, что эта коллекция состоит,в основном, из фальшивок начала XX столетияи весь долговременный ажиотаж вокруг нее есть неболее как мистификация.За полтора года, истекшие после выхода моейкниги, во многих газетах и журналах мира появились262
отклики-рецензии на мое разоблачение. Естественно,каждый журналист невольно по-своему интерпретировалдействительные события этой истории. Вот почему,наконец, я счел необходимым опубликовать исвою собственную версию всех событий.Тем более, что за истекшее время мне стали известныновые факты, тогда в книгу не вошедшие илисознательно мною опущенные. И, конечно, нельзя забывать,что история этой мистификации и разоблачениявсе еще продолжается...Перед эмиграцией на Запад (в 1975 году) я долгиегоды работал в качестве заведующего отделом воВсесоюзном институте реставрации в Москве. Поэтому,естественно, я был достаточно хорошо знаком сбольшинством русских коллекций икон. Об американскойколлекции Джорджа Ханна я ничего не знал.Лишь по приезде в Америку один из моих новых американскихдрузей посоветовал мне посмотреть знаменитуюколлекцию, находившуюся тогда в г. Питтсбурге.Тогда же я позвонил хозяину и попросил показатьего собрание, объяснив, кто я такой, и надеясь,между прочим, что, может быть, мои знания ему пригодятся.Д. Ханн наотрез отказался показать мне своисокровища, и вскорости, в хлопотах новой эмигрантскойжизни, я совершенно забыл об этом случае.Однако в конце 1979 г. я случайно услышал, чтоД. Ханн умер и его собрание будет продано на публичномаукционе в Нью-Йорке респектабельной антикварнойфирмой Кристи.Так как моя фирма «Teteriatnikov Art Expertise»обслуживает многих клиентов, нуждающихся в экспертизепамятников искусства, то в начале 1980 г. ко мнеобратилось несколько музеев из Америки и из заграницыс просьбой посоветовать им для приобретениякакие-либо иконы из предстоящей продажи. Тогда яи обратился к Кристи с просьбой осмотреть эти иконыеще перед публичной выставкой.263
Нечего и говорить, насколько я был обрадовантакими ответственными заказами от музеев. Во-первых,это сулило прекрасные перспективы дальнейшегосотрудничества. Во-вторых, полагающиеся за эту работукомиссионные выглядели прямо-таки фантастическими:что-то вроде нескольких десятков тысяч долларов.Эти меркантильные подробности не покажутсячитателям излишними, ибо подчеркивают мои настроениянакануне того момента, когда я впервые увиделэти прославленные шедевры. Я не сомневалсятогда, что увижу подлинные сокровища древнерусскойкультуры, трагически отторгнутые от своей родины —России. Строил я и планы, как уговорить эти музеи ив дальнейшем собирать русские иконы, для созданияподлинно научных коллекций.Разрешение Кристи было получено, и в серединемарта 1979 г. я вошел в маленькую комнату склада,где иконы были размещены по стенкам, прислоненныедруг к дружке и при скудном освещении. Сразу передомною возник огромный Деисус, состоящий из семипанелей, высотой около двух метров каждая. К своемуискреннему удивлению, я мгновенно узнал этотшедевр, ибо точно такой же я изучал всю мою жизньв Третьяковской Галерее в Москве. Я даже вспомнил,на какой стенке и в какой комнате он висел и висит,кажется, последние 50 лет. Поразила неестественнаясвежесть красок, идеальность сохранности и нарочитаяреставрация деревянной доски. В довершение всего,на нем я обнаружил «этикетку» с русской надписью:«Краткое описание: Отдел второй». Возникло сразуподозрение, что кто-то наклеил эту официально выглядевшуюрусскую бумажку для придания серьезностиэтому предмету. Однако эта наклейка от картотечногоящика на произведении искусства была явноне к месту.Другая икона привлекла мое внимание «идеальнымновгородизмом XV века», однако, перевернув264
икону, я рассмеялся: древний шедевр был нарисован напередней стенке ящика от комода, не существовавшегов древней Руси. Идентичная краска располагалась нетолько на гладкой части доски, но и на грунте, закрывающемдырку от старой замочной скважины. Как явпоследствии написал в своей книге, любой полицейскийдетектив, даже далекий от искусства, легко распознает,что «все искусство» моложе комода, ибонужно учесть еще и время разрабатывания ключомзамочной дырки.Подивившись странностям американской знаменитойколлекции, я еще не задумывался тогда, чтовозникшая ситуация приведет к какой-либо сенсации.Мои мысли были заняты в то время «бизнесом» г—где же тут иконы, которые я бы мог рекомендоватьсвоим клиентам и замечательно заработать и денежкии престиж? Я лихорадочно переворачивал одну иконуза другой в поисках какой-либо «замученной», чтобыс первого взгляда нельзя было разобрать, что передглазами — сознательная фальсификация или неуклюжаяреставрация. Весь осмотр тогда продолжался неболее получаса.В то время каталог Кристи еще не был опубликован,и я стал спокойно ждать, что, вероятно, специалистыКристи все поймут и в описаниях ясно будетнапечатано: это копия с известного шедевра Третьяковки,а это имитация в стиле XV века. Лишь черезнеделю каталог, наконец, вышел в свет, и, получивего прямо из типографии, я, еще сидя в такси, сталлихорадочно перелистывать страницы роскошно напечатанногоиздания. Все предметы описывались в каталогекак всемирные шедевры, равных которым никогдане было и не будет больше на антикварном рынке.Вот тогда-то и начали кружиться у меня в голове сумасшедшиемысли о необъяснимой мистификации.Неделю я сидел дома, не сводя глаз с каталога,напрягая свою память и перелистывая каталоги рус-265
ских коллекций. Самих икон я больше не видел — мояработа ограничивалась лишь сопоставлением иллюстрацийв книгах. Память меня не подвела — большинство«уникумов» из Питтсбурга буквально илиискаженно имитировали самые известные шедевры, итолько из одного русского музея — ТретьяковскойГалереи. Так и была впоследствии названа глава моейкниги: «Иконы-призраки глазами нормального эксперта».Не надо обладать специальными иконными знаниями— достаточно общей культуры, чтобы утверждать,что «вторая Третьяковка» невозможна, как невозможен«второй Лувр» или «второй Эрмитаж». Вколлекции же Д. Ханна были красочные имитации, вкоторых, если провести аналогию с западной живописью,все женские лица улыбались «улыбкой МоныЛизы» и все фигуры склонялись в позе Венеры Милосской.Для нормального эксперта, если он действительно«нормальный», то есть настоящий эксперт, никакойзагадки в этой коллекции призраков нет. Это сувениры,копии, учебные импровизации, не имеющиеничего общего с оригинальными древностями любойстраны — от Африки от Китая.В результате своего «кабинетного сидения» я написалсвоим клиентам негативное заключение и рекомендовалвоздержаться от покупок. Тем же, кто всетакинадумает рисковать, я советовал непременносделать тщательную техническую экспертизу. Большинствомузеев отказались от покупок, и лишь одиниз них — Тимкен Арт Галл ери из Сан Диего, Калифорния,обратился к Кристи за разъяснениями насчетэкспертизы. Я не знаю, какими аргументами Кристипарировало мои предостережения, однако в результатемузей отказался от моих услуг, и, по рекомендацииКристи, торговец из Лондона купил для музея тривеликолепные фальшивки за 400000 долларов.266
Я пытался предупредить этот музей письменно идаже попыткой телефонного разговора в ночь наканунеаукциона.^ Не желая скандала, я предупредил и Кристив Нью-Йорке — мне ответили, что за такие разговорыбудут судить. Тогда я на свои деньги полетелв Лондон, в главную квартиру этой интернациональнойкомпании с двухсотлетним опытом торговли памятникамиискусства. Однако никто не захотел серьезновслушаться в бредни неизвестного эмигранта.Вернувшись в Нью-Йорк к открытию публичнойвыставки, я стал ежедневно посещать это зрелище,осматривая предметы и записывая мои наблюдения.Пытался сделать несколько фотографий, однако меняостановили. Обычно на публичных продажах потенциальномупокупателю предоставляют все возможностиизучить предмет, за который он собирается выложитьсвои кровные денежки, — таковы законы, регулирующиеаукционы. Однако сотрудники Кристизапретили мне все, кроме осмотра глазами, наряду собыкновенной публикой. Дса надсмотрщика неустанноследили за каждым моим движением. Несмотря на то,что условия «исследования» были немыслимы длянормальной научной работы, мои знания и опыт помоглисправиться с задачей.Сама продажа прошла блестяще, и, по словам«Нью-Йорк Тайме», коллекционеры, торговцы и музейщикисо всего мира (из 50-ти стран) дрались междусобою за каждую покупку. Семь раз в течение этоговечера были перекрыты мировые рекорды цен. Газетыназвали это событие «аукционом века»: «самые дорогиев мире иконы», «единственный шанс в жизни». Пословам торговцев, русские иконы из Золушек превратилисьв Принцесс антикварного рынка. Сам шикарныйкаталог Кристи был тотчас же наименован «энциклопедиейиконознания» и даже «коллекционнымизданием». Добавим, что перед аукционом былаустроена специальная научная конференция, где, по267
словам газет, «самые главные эксперты-профессора вобласти русского искусства» наперебой восхвалялидостоинства этих шедевров. Разумеется, были и специальные«вечеринки» для «высшего света», где шампанскоеи русская водка лились рекою. Весь Нью-Йоркдолго вспоминал это феерическое событие...Я же сразу после аукциона сел писать мою книгу.Свои аргументы я охотно и открыто сообщал всемсвоим знакомым и посещавшим меня специалистам.Те, в свою очередь, разъезжая по своим делам по всемумиру, передавали «новости», и вот, спустя примернопять месяцев, я стал получать первые осторожныеписьма, где корреспонденты спрашивали: «А правдали, что Вы оспариваете подлинность некоторыхикон в коллекции Джорджа Ханна, несмотря на колоссальныйуспех продажи?». Разумеется, согласнозаконам рынка и обычаям, услышав, что я собираюсь«бунтовать», от меня отвернулись почти все прежниеклиенты и даже некоторые друзья. Кажется, в моментподачи заявления на выезд из СССР я потерял меньшезнакомых, чем в свободной Америке, и только из-заслухов, что я собираюсь «мутить воду». Такова жизнь!В конце октября 1980 г. я напечатал и разослалрекламную брошюрку о предстоящем выходе книгиразным музеям, университетам и Кристи. Через парунедель специальный курьер доставил мне объемистуюпапку бумаг от адвокатов Кристи. С трудом разбираяхитроумный язык тысячелетней английской юриспруденции,я все-таки понял, что меня вызывают в суд,инкриминируя клевету на Кристи и попытку украстьих копирайт. Через полчаса начал звонить телефон —адвокат Кристи настойчиво спрашивал о моем здоровьеи требовал сообщить ему имя моего адвоката.Еще никогда не судясь в свободном мире, я, конечно,никаких адвокатов не знал. Многие мои американскиедрузья потом смеялись: «Смотрите, этот человек нашелсебе адвоката через телефонную книгу!» Однако268
мой выбор был удачен, так как спустя шесть месяцевя «освободился» — то есть фирма Кристи отказаласьот всех ко мне претензий, и суд постановил, что в моейкниге нет клеветы и я имею право ее публиковать.Термин «клевета» имеет довольно мудреное истолкованиена языке юриспруденции. Главное здесь — этоответственность высказавшегося за свои слова. Правдивостьвысказывания роли не играет — важна цель,с которой это было сделано, и какова ответственностьзаявителя, то есть знал ли он заведомо, что говоритнеправду, или искренне убежден, что «это может быть».И не имел ли заявитель каких-либо тайных целей чемтопоживиться от своих высказываний?Если позицией моей защиты было подтвердить,что цель книги чисто научная, то нападение моих противниковсостояло в том, чтобы если не доказать,так намекнуть, что моя книга написана с авантюрнойцелью «прославиться в веках» или «занять место Кристи».Странно и омерзительно, однако, как говорят,вполне традиционно для англосаксонского правосудиябыло то, что наибольшее внимание было обращено наличные проблемы моей персоны. Многозначно интерпретировалисьназвания советских учреждений, где якогда-то учился или работал. Откровенно спрашивали:«Как же можно доверять человеку, который отказалсяот своей Родины — СССР?». Спокойно, как очевидныйфакт, докладывалось, что «почти все эмигранты»выдумывают свои биографии и выдают себя за бывшихгенералов, профессоров и вообще самых главных.Оспаривалась и моя компентентность как ученого, ибовся советская наука, по словам моих противников, недостойнасерьезного отношения.Если я пытался привлечь внимание к обсуждениюреальных деталей моей экспертизы, то в ответ слышалмногочасовые речи о том, что вот, явившийся неизвестнооткуда неизвестный человек пытается споритьи порочить такую уважаемую фирму и всех за-269
падных ученых, вместе с университетами и музеями.Как-то я не выдержал и даже «ляпнул»: «А можетбыть, и Эйнштейн изобрел свою теорию относительностилишь с гнусной целью прославиться и посрамитьостальных ученых?»Все это время мои адвокаты тщательно обсасывали-цензурироваликаждое слово в моей англоязычнойщшге. Лишенный возможности использовать иллюстрациииз шикарного каталога Кристи, я искалвсевозможные другие старые публикации этих икон иконсультировался с типографами, в каком виде моииллюстрации станут недоступны для экспертизы —узнать, откуда я заимствовал снимки.Признаюсь, что, несмотря на нервотрепку, я чбылуверен в своей победе и отступать не собирался; единственнуютревогу вызывал вопрос: как долго я в состоянииплатить моим адвокатам? Вокруг меня в этовремя образовалась реальная пустота. Многие знакомые,особенно из университетского мира, обходилименя стороной, ибо не были уверены, что знакомствосо мной не окажется опасным для их карьеры и репутации.Зато много вертелось незваных гостей.Из каких-то неизвестных мне журналов и газетнапрашивались на интервью якобы «редакторы». Легкодогадываясь о том, что они лишь элементарныешпионы Кристи, я даже завел специальную картотеку,куда занес список лиц, когда-либо работавших в Кристи,— информация, взятая мною из старых каталогов.Узнавая фамилию желавшего «интервью», я, проверивсписок, смеясь, спрашивал: «А когда вы ушли на «другуюработу» от Кристи?»В это время я пытался связаться с американскимииздательствами и газетами. Никто не «клюнул» наэмигрантскую сенсацию — вероятно, нормальному и суспешной спокойной карьерой человеку казалась совершеннодикой мысль, что один может быть умнее всех,— значит, шарлатан!270
Кстати сказать, ни Кристи, ни ее адвокаты вообщене видели моей книги в течение всего процесса,поэтому обсуждать факты экспертизы было невозможно.Более того, при всем моем бывшем и оставшемсяуважении к демократическому правосудию, яостался в недоумении: как же можно судить человеказа еще не совершенное преступление? В момент подачина меня в суд никакой книги я еще не написал —только «мечтал». Так и сказано в заявлении Кристи:«Согласно информации и по всей вероятности, Тетерятниковпланирует написать книгу, в которой можетбыть клевета на Кристи». Так и судили — лишь за«мечту».В конце концов, в ночь накануне последнего срока,я разрешил адвокату Кристи читать мою книгу взапертом помещении моего адвоката. За это удовлетворениелюбопытства Кристи должна была заплатить— отдав мне все свои права на копирайт и обязуясьпрекратить навсегда это дело.«Моя победа» была записана в виде решения судьи:в книге Тетерятникова нет клеветы, и стороны расходятся«при своих интересах». Это значит, что засвоих адвокатов плачу я, а Кристи — за своих. Ух!..Моя книга издана на правах рукописи — в видефотокопии с машинописного текста. Такого же качестваи иллюстрации. Дело не только в том, что к моментуокончания суда я уже не располагал средствамидля шикарного издания, но был и другой резон выпуститьее в виде «самиздата». Если бы суд запретилмне публиковать книгу еще несколько лет, до окончаниявсех-всех претензий Кристи, я бы смог объявить,что мой труд вовсе и не книга — а лишь рукопись смоим именем. Это я «имею право» рассылать всемученым коллегам и интересующимся — просто как«обмен мнениями».Мое судебное дело помогло мне не только усовершенствоватьзнание английского языка, но и разобрать-271
ся в том, что же такое «свобода мнения», «правовысказывания» в настоящем демократическом обществе.И что такое судебная система Америки. Мы все,эмигранты из СССР, воображаем альтернативой советскомурежиму некую абсолютную свободу. Оказалось,что вообще даром свободы не существует нигде,если личность не пробует быть в конфликте с окружающимобществом, не пробует утвердить свое правобыть свободным. Вспоминаю, как одна представительницаамериканской газеты «просвещала меня» отом, что, дескать, будучи рожденным несвободным внесвободной советской системе, мы, эмигранты, ещетолько должны учиться начинать быть свободными вамериканском свободном обществе. Вот она, например,по ее словам, никогда ничего не боялась — «совсемсвободна». Заинтересовавшись моей борьбой сКристи, она обещала напечатать статью и — пропала,не позвонив даже с извинениями о непечатанье «потехническим причинам».Как ни странно, но первые статьи о моем открытиипоявились в Западной Европе, в лондонской«Тайме», но не в американской прессе. Сегодня в Европеопубликовано уже 36 рецензий и только две в американскойпрессе. Я еще не знаю, почему так произошло,— я ведь только недавно начал изучать моюАмерику.Книга сегодня приобретена большинством университетови музеев по всему миру. Я прочитал около20 научных докладов, в том числе на Международномконгрессе музейных работников, в присутствии советскойделегации. Как мне стало известно, мою книгуобсуждали и на научных собраниях в Москве и Ленинграде.Моя книга не содержит никаких обсуждений коммерческойстороны этой истории — нет никаких цен, иничего о «торговле». Однако в данной статье необходимосказать несколько слов о том, что результат272
моего разоблачения сказался катастрофой на рынкемировой торговли иконами. Ибо разрушился миф,созданный западными дилетантами и жуликами, отом, что русские иконы вообще недоступны международнопринятым методам экспертизы. Сегодня многие,еще недавно слывшие знатоками русской иконописи,начинают свои письма ко мне словами: «Я неспециалист в иконах, как Вы». Я нарочно процитировалэту фразу одного американского профессора, который,надеюсь, сам узнает себя и свои слова. А ведьон сам вызвался читать лекцию в Кристи о том, какпрекрасна эта коллекция. Характерно, что почти вкаждой газетной заметке о моем разоблачении задаетсяодин и тот же вопрос: «Если самая знаменитаяколлекция Запада оказалась фальшивой, то?..»Нет сомнения, что большинство купивших этииконы на аукционе вернут покупки обратно в Кристи,потребовав возмещения всех убытков, а некоторыеуже и вернули. Парадокс ситуации заключается в том,что большинство покупателей «втайне» считали, чтоименно они-то и есть самые главные специалисты потакому экзотическому товару — русским иконам. Случайныхпокупателей на аукционе не было — слишкомвысоки были цены. Все фальшивки пошли только к«экспертам». Поэтому решение признать себя одураченнымпринимается психологически очень нелегко.Однако забыть о 3 миллионах долларов тоже нелегко...Теперь, когда шок первой реакции на мое разоблачениестал проходить, я почти ежедневно получаюписьма от этих покупателей с просьбой рассказать побольшеоб их покупках. Несколько икон из бывшейколлекции Д. Ханна уже присланы мне — наконец-тоя цолучил возможность их исследовать спокойно исфотографировать. Но, конечно, прозрение только ещеначинается...Любопытная статья была опубликована в лондонской«Тайме» недавно, 25 мая 1982 года. Оказывается,273
многие иконы после этого аукциона вообще были невыкуплены из Кристи испугавшимися покупателями.И сегодня Кристи пытается их продать через того желондонского торговца — Ричарда Темпла. Цены значительноснижены, а покупателей пока не видно. Пословам корреспондента, многие антиквары в иконйойобласти обанкротились в течение последних двух лет,прошедших после «аукциона века». Тот же Р. Темпл,заявлявший, что иконы стали принцессами во времяаукциона, теперь меланхолично шепчет: «Мне кажется,я остался последним». Попытка очередной продажи«шедевров русской иконописи» сопровождаласьспециальной новой книгой, написанной этим лондонскимторговцем, по его словам, в ответ на книгу Тетерятникова.Название этих «Лондонских Ответов»:«Иконы. В поисках внутреннего смысла». Корреспондент«Тайме» отмечает, что весь «ответ» на экспертизуТетерятникова заключается в высокопарных выраженияхо трансцендентальном видении русских икон, о«врожденном» мистицизме русского народа и невозможностиего постичь непосвященному западномускептику.Мистификация, оказывается, продолжается. Однакоза этот «невидимый смысл» требуют реальныхдолларов!Знаменательно, что за истекшие полтора года моипротивники не опубликовали ни одного конкретногоконтраргумента против моих выводов. А ведь речьидет о спасении трех миллионов долларов!Суть большинства возражений, например, Кристи,такова: «Тетерятников неправ, потому что коллекциязнаменита, была репродуцирована ведущими западнымиспециалистами и экспонировалась в важныхмировых музеях». Эти «аргументы» моих противниковне требуют объяснений.Однако мистификация понемногу превращается ив откровенную фальсификацию. Так, в американском274
научном журнале «Рашен Ревью» была опубликованарецензия на мою книгу. Тон и стиль этой рецензиивесьма примечателен. Например, о моей персоне говоритсяследующее: «Говорят, якобы в СССР он былреставратором», — и такое, оказывается, можно и нестыдно писать в журнале, претендующем на научностьи являющемся органом важного американскогоучреждения — Гуверовского Института Войны, Революциии Мира. Но удивительнее другой факт: рецензент,подписавшийся как куратор американского музея,вставил такую фразу: «...новые краски не смутилиодного важного покупателя, который использовал новейшиеанглийские методы реставрации с применениемновейших научных инструментов, которые могутопределить время различных слоев краски».Во-первых, заметим, что автор этой рецензии,упоминая о «новейших английских методах реставрации»,почему-то не пишет о полученном результате,а ведь только результат и важен — методы могутбыть любые, даже и не «новейшие». Второе: авторурецензии, наверно, неизвестно, что те, кто дал емуэту информацию, просто лгали — «инструментов,определяющих время слоев краски», вообще не существуетв природе. Но даже если бы их кто-то вдруг иизобрел, то каков же результат? Вот такие полунамеки,полусомнения и есть венец возражений всех моихоппонентов на конкретные детали моих выводов.Так полувековая мистификация к концу XX столетияпревращается в фальсификацию, подкрепленнуюполунамеками...Как я неоднократно замечал, история возвеличиванияи продажи этой коллекции опутана паутинойчисто психологических событий. Поняв это сразу, ястал прослеживать истоки мифа о великой коллекции— истории ее появления в Америке.Родилась эта коллекция как факт в 1936 году, когдаамериканский промышленник Джордж Ханн приоб-275
рел ее у советского Торгсина. Как рассказывают его«старинные друзья», в один прекрасный день некийчеловек, по имени Хамильтон, показал миллионерусерию раскрашенных от руки фотографий. ДжорджХанн интуитивно ткнул пальцем в ту или другую —вот эту и эту...Понравившиеся американцу иконы вскорости былиему доставлены. На каждом шедевре красоваласьэтикетка: «Из Третьяковской Галереи». Был и соответствующийсопроводительный советский документ— счет Торгсина. Когда я смог ознакомиться с этимсчетом и увидел проставленные на нем цены, то невольноахнул. «Третьяковская Галерея» запрашивалаза свои мировые шедевры смехотворные цены — по50-100 долларов за «шедевр». Тотчас же я сопоставилтекущие цены рынка того времени на русские иконы.Оказалось, что тот же Торгсин продавал на мировыхаукционах в то же самое время рядовые иконки малогоразмера XVIII-XIX века, запрашивая по 500-1000долларов.Здесь уже явно попахивало мистикой. Тот же самыйпродавец за ерунду спрашивает много, а за шедевры— почти ничего?Первые годы новой американской жизни эти иконыпровели в безвестности — вплоть до начала второймировой войны.Когда началась война, американцы не только свосторгом восприняли военные победы своего союзникапротив нацизма, но и раскрыли свои души для восхищениявсем-всем советским, русским. Американскиерадиостанции беспрерывно транслировали песни КраснойАрмии и марши типа «Красная Армия всех сильней».Кинофильмы восхваляли «Великую Дружбу» сдобрым Дядей Джо. Музеи и широкая публика жаждалиотметить культурные достижения своего союзника.И вот в 1944 году в городе Питтсбурге открывается276
выставка старинных русских икон из собрания ДжорджаХанна.Нашелся и «местный специалист» по иконам —русский эмигрант Андрей Авинов, написавший первыйнаучный каталог, в котором коллекция характеризоваласькак «равной которой нет во всем западном полушарии»,«классические экземпляры и пример современнымхудожникам, как надо рисовать». Авиновявился отцом мифа о Великой Коллекции, и поэтомуя тщательно проштудировал его каталог. Интереснобыло сопоставить атрибуцию Авинова с описаниемикон, составленным продавцом — советским Торгсином.Так, например, грузинский металлический триптих,проданный как вещь XVII века, Авиловым был«переатрибутирован» уже на XII век. Маленькая икона,проданная как испорченная и в основе лишь XVIIвек, была для счастливых жителей Питтсбурга «переписана»на шедевр XV века, кисти самого АндреяРублева.Увидев такие метаморфозы, я, естественно, поинтересовался:а кто такой Андрей Авинов, коль он таксмело оспаривает атрибуцию Третьяковской Галереи ивсех русских ученых? Совсем недавно, в апрельскоми майском номерах журнала «Нью-Йоркер», былаопубликована статья племянника Авинова — АлексаШуматова — о всех своих русских предках. О дядеплемянник отзывается, как и о других русских предках,с большим восхищением, как о всесторонне развитоминтеллигенте. Однако об иконах или о причастностиАвинова к знакомству с иконами или с музейной работой— ни слова.Андрей Авинов закончил в 1905 г. Императорскоеучилище законоведения. Поработал немного клеркомв Сенате и получив большое наследство, посвятилвсю свою дальнейшую жизнь коллекционированию бабочек.Бывший камер-юнкер двора, видевший лично277
императора Николая II, по приезде в Америку в 1917 г.подрабатывал как художник по рекламе. Впоследствииустроился ассистентом энтомолога в Музей естествознания.Стал директором Музея естествознания вг. Питтсбурге и личным другом Джорджа Ханна. Каквидим, чтобы спорить с Третьяковской Галереей ирусскими учеными, Андрею Авинову совсем не нужнобыло «кончать университеты» или корпеть над реставрациейили исследованием икон в русских музеях. Чтобыполучить в Америке признание в качестве специалистапо иконам, достаточно обладать несомненнойрусскостью, занимать высокую позицию в элите обществаи быть другом миллионера-коллекционера.После этой выставки и каталога 1944 г. началосьтриумфальное шествие этих шедевров иконописи повсем американским музеям и публикациям. Кстати,начавшись в Америке, после 1950-х годов восхвалениеэтих шедевров было наиболее распространено уже наевропейском континенте. Немалая доля в мистификациипринадлежит знаменитому западногерманскомумузею Реклингхаузен и английской писательнице наиконные темы — Тамаре Тальбот Райе. Роль АндреяАвинова все-таки резко выделяется из всей плеядыэтих восхвалителей. Достаточно сказать, что сегоднямногие «позднейшие» почитатели этих фальшивых шедевровустно и письменно заявляют, будто «они невиноваты», ибо никогда и не видели своими глазамиэти иконы, а заимствовали всю информацию из каталогаАндрея Авинова. Кстати, почему-то в каталогеКристи 1980 г. автор первого каталога назван «докторАвинов» — хотя его официальное наименование всегдабыло не более как «мистер Авинов». Так мало-помалуи росла слава этой коллекции, достигнув рекордныхцен на «аукционе века».Несколько слов об этих «невиноватых» ученых,писавших монографии об иконах Джорджа Ханна,сказать все-таки нужйо. Почему никто из них не заме-278
тил, что многие иконы Питтсбурга есть не более какточные копии давно известных и многократно репродуцированныхшедевров Третьяковской Галереи? Каждыйспециалист знает, как трудно и редко предоставляетсявозможность найти связь, даже еле заметную, междудвумя теми или иными памятниками. Историки частовоображают или предполагают возможные влиянияодних мастеров на других. «Уникумы» из Питтсбурга,наоборот, являются абсолютно точными копиями самыхпопулярных в науке памятников из самого известногорусского музея. И никто не заметил не толькотождества, но даже «сходства». Странно? Ответ натакую явную мистику может быть двоякий. Или этиученые никогда не посещали Третьяковской Галереи,никогда не видели ни одной русской или западнойкниги по иконописи, или же западные ученые обладаютпредвзятой уверенностью, что русские иконы всена одно лицо, как когда-то европейцы думали о китайцах.Следовательно, в этой «одинаковости» разобратьсяневозможно и даже не нужно?Оставим пока в стороне обсуждение «научных методов»иконоведов. Даже с чисто коммерческой стороныэта мистификация невероятна. Многие мировыемузеи периодически продают ненужные им предметычерез аукционы. И профессиональные антиквары прекраснознают,u что, если, к примеру, музей Метрополитенв Нью-Йорке избавляется от чего-либо, то, значит,«мировым шедевром» этот предмет быть не может.Кто осмелится оспаривать в данном случае мнениеизвестных ученых — сотрудников этого музея?Поэтому цены на такие «списанные» шедевры значительнониже расхожих цен на адекватные памятники.Но когда советские музеи «списывают» эти иконы исоветские торговцы запрашивают явно смехотворныецены, то, трезвые прежде, западные бизнесмены вкупес русскими эмигрантами буквально «вне себя» от радости.279
Признаюсь, что в случае с продажей ДжорджуХанну его коллекции я с удивлением должен констатироватьпредельную честность советских купцов. Согласнозаконам и практике любой торговли, такаячестность даже шокирует, потрясает, если смотретьна это событие нормальными, не одурманенными глазами.Советы спрашивали копейки за предметы, выглядевшиев глазах профана «мировыми шедеврами»,— и все участники этой операции знали, что покупательничего не смыслит в товаре. Вот почему я потрясен.Ну, скажем, ажиотаж от покупки задарма былдавно, полстолетия назад. Сегодня же мы живем вболее «прожженное» время. На Луну ведь летаем иобратно? Однако нормальные люди в обыденнойжизни вдруг трансформируются в каких-то мистиков,когда начинаются рассуждения о «русских делах».Примеров удивительной трансформации разумныхлюдей в мистиков мы, русские эмигранты, наблюдаемдостаточно, читая западные газеты на тему Восток-Запад.Воистину, Россия, Торгсин и фальшивки «увсех на виду и не поняты»...Вот так же и история с этими фальшивками. Когдая рассказывал о своих подозрениях экспертам Кристив Лондоне, то, помнится, мне, смеясь, отвечали —кому выгодно делать фальшивки, продавая их за такуюсмехотворную сумму? Низкая цена стала в данномслучае аргументом против меня. И никому непришло в голову задуматься, кому выгодно продавать«мировые шедевры» по ценам ниже стоимости самогодерева? И такое, оказывается, бывает в наше «просвещенноевремя», и я услышал это от английскихторговцев, имеющих репутацию и опыт торговли памятникамиискусств свыше 200 лет.Можно дискутировать о негативных или позитивныхсторонах советской торговли предметами искусства,однако идиотизмом было бы предполагать, что280
советские купцы были заинтересованы продать шедеврысебе в убыток — и «назло капитализму».Как видим, предамериканская история этой коллекциисовсем не «скрыта в тумане», а предельно яснаи открыта. И ни в одной советской или досоветскойкниге не воспроизведены эти «прославленные шедевры».И важнейший в мире музей русской иконописи —Третьяковская Галерея осудила и продала эти предметыза копейки.Величие коллекции началось только после пересеченияАтлантического океана. Кстати, первоначальнаяреакция на мое разоблачение у американцев была негативнойеще и из чувства национального престижа.Вот, дескать, опять будут говорить, что еще один американскийглупый миллионер попался и жуликоватые,просвещенные европейцы «всучили» ему гнилой товарец.Однако реалии этой истории несколько отличаютсяот распространенной схемы движения памятниковискусств между Европой и Америкой. Можно понятьдоверчивость или безразличие (а кто знает правдувообще?) американского покупателя, вложившего вэту коллекцию копейки, да еще и в период, когда никтона Западе не разбирался в такой «русской экзотике».Но вот спустя 50 лет, благодаря мистификации, нашамериканский бизнесмен сумел уговорить всех «знатоков»выложить уже три миллиона долларов за товар,обошедшийся ему менее чем в тысячу долларов.И, как известно, большинство «товара» пошло вЕвропу — этим самым «просвещенным» европейцамконца XX столетия. Вот это уже по-американски иназывается «сделать деньги». Кто же безумный в этойистории?С большим интересом я пытался выяснить: а чтознал и думал сам владелец этой коллекции о ее реальнойстоимости? Например, согласно подробному перечню«эпохальных событий» в истории этой коллек-281
ции, перечисленных в каталоге Кристи, бросается вглаза следующий факт. Начиная с 1939 года и вплотьдо 1966 года, коллекцию широко показывали публикево многих музеях по Америке и даже в Европе. С 1966года, по словам Кристи, Джордж Ханн ушел от всехсвоих дел, связанных с авиапромышленностью, и целикомпосвятил себя углубленному изучению русскойиконописи. Была построена даже специальная библиотекапо иконописи. Наконец в 1972 году он вместе сосвоей долголетней приятельницей Тамарой ТальботРайе впервые посетил Советский Союз. Цель путешествиябыла направленной — ознакомиться с коллекциямиикон в русских музеях. После своего возвращенияв Америку Джордж Ханн наглухо закрыл дверисвоего музея от публики. Отказал он и мне в посещенииего в 1975 г.Случайно ли сокрытие коллекции совпало с егопосещением русских музеев? Не интересовался ли он,в каком качестве его иконы фигурировали в архивахТоргсина и Третьяковки? Не узнал ли он, что обладает«второй Третьяковкой»?Удивительно, что никто из тех, кто восхищался,публиковал или платил деньги за эти шедевры, не хотелпрямо читать факты, записанные в истории этойколлекции. Кстати, никто не обратил внимание, чтопосле возвращения из СССР Джордж Ханн «переделал»многие иконы из своих шедевров. Были счищены«подозрительные» синие фоны — знак XVIII века, а неXV-ro, другие, «слишком свежие» по краскам, были«затерты», «замазаны» и так далее...Чтобы увидеть эти необъяснимые перемены внешнеговида, достаточно сравнить каталог Кристи 1980 г.с предыдущими публикациями и описаниями первогокаталога 1944 г.Последний любопытный аргумент возник в самыймомент продажи коллекции в 1980 году нашего столетия.Незадолго перед публичной продажей в амери-282
канском городе Нью-Йорке, Кристи попыталась «сделатьдело» с Советским Союзом. Президент этоймеждународной компании полетел в Москву, предлагатьсоветским купить всю коллекцию целиком «обратнона Родину». Результат этой поездки открыторассказывался всем участникам аукциона, и все «понимающе»смеялись, слушая. Советский ответ был таков:«Так как эти иконы прошли усиленную реставрациюеще в России перед продажей и потом в Америкепри Д. Ханне, то их оригинальность сомнительна».Если бы у слышавших этот ответ был здравыйразум, то вывод был бы однозначен: чего же более...Так и на мои первые заявления о сомнительностиэтих шедевров многие «понимающе» улыбались. Дескать,как это все понятно. Занимал человек какую-топозицию в Москве, потом, приехав в эмиграцию, обнаружил,что тут его не только никто не знает, но ине нуждаются даже. А эмигрант видит по телевизору,что люди на Западе из кожи лезут вон, чтобы прославиться.Кто-то прыгает с небоскреба, второй —стреляет в президента, лишь бы его имя на мгновениепопало в газеты. И бедный эмигрант «придумал план»— заявлю-ка я, что все кругом фальшивое... Будь чтобудет, но на час хотя бы прославлюсь. Так и покачивалйвокруг меня головами умудренные жизнью и знаниямибизнесмены, увлекающиеся мистикой русскихикон.В наш век скептицизма настоящие сенсации воспринимаютсячеловеческой психикой с большим усилием.Особенно если что-то необычное исходит толькоот одного человека, опровергает полустолетнюю традицию,а главное — человек-то сомнительный. Неизвестнооткуда взялся, и неизвестно вообще, есть ликакая серьезная наука в этой по-прежнему дикой окраинецивилизации России, ставшей СССР?А вот первый автор каталога был камер-юнкер,директор, пускай музея бабочек, но директор. Прези-283
дент Кристи — английский герцог. Да и все мы, современныезападные бизнесмены и профессора, не лыкомже шиты!Один из уважаемых американских миллионеров иколлекционеров, знающий русский язык и бывавшийнеоднократно в СССР, спокойно отвечал мне: не можетбыть коллекция фальшивой, поскольку Д. Ханнбыл миллионер и мог купить себе любые оригинальныешедевры и лучших экспертов. Второй довод, уже«исторический»: ну, кому нужно было делать в старойРоссии фальшивые иконы, если сами русские никогдасвоих икон не ценили? Древности-то возами свозилисьна московские рынки — и все «Рублевские»! Это Западначал ценить русскую икону и даже «спасать» от, рукварваров — русских аборигенов. И, наконец, неужеливы уверены в том, что вам удастся одному опорочитьвсю западную науку?Остальные мои оппоненты были настроены болеерадикально: говорите-говорите, Кристи вам быстрозаткнет рот судом. Вы еще не знаете силы настоящегобольшого бизнеса. Вот и образовалась вокруг меняпустота гораздо более зловещая, чем в последние моивремена жизни в СССР перед эмиграцией. Даже далекиеот икон американские профессора испугались знакомствас таким «ужасным» человеком. И когда я выигралсудебное дело, то с иронией в душе слышалпоздравления от бывших приятелей. Всегда они начиналисьодними и теми же словами: «Ну, наконец, свами не опасно быть знакомым...»Я понимал или понял достаточно быстро, что восприниматьмои аргументы людям мешают чисто психологическиепроблемы. Поэтому я постарался помочьчитателям моей книги безболезненнее преодолеть шокпервого впечатления. Я написал специальную главу отом, как возникал и развивался миф о величии этойколлекции. Показал на примерах научную подготовленностьпредыдущих западных ученых — то есть не284
только их явную некомпетентность в русских иконах,но даже незнакомство с международными методамимузейной экспертизы любых памятников искусства.Трагикомизм всей истории заключается и в том, чтони один из иконопочитателей никогда не работал нив одном западном музее, ни в одной западной лабораториивообще. Если для изучения или высказывания«своего мнения» в сфере искусства любой другой нациитребования западной науки достаточно суровы:нужно много лет посвятить обучению в университетах,а затем практической работе в музеях и лабораториях,— то о русских иконах вполне достаточно писать«с легкостью мыслей необыкновенною». Вот ипроизвели на «научный свет» эти писатели свой главныйаргумент против моей экспертизы: а русские иконывообще недоступны познанию западных скептическихученых! Тетерятников высказывает одно мнение,а вот мистер Смит думает иначе — и получается,как в футболе, счет 1:1. Поэтому в моей книге нет никакоймистики, вообще сюжет икон почти не обсуждается,почти не говорится о религиозном значенииикон. И это всех шокирует. Как же вы, русский, аизучаете дерево, краски, кракелюры, вместо того, чтобы«молиться в экстазе»? !Поэтому некоторые здравомыслящие американскиеученые, ознакомившись с аргументами моей книгии задумавшись над тем, почему никто раньше необращал внимание на такие явные материальные следыфальши, сегодня поражены тем, что, разоблачивфальшивые иконы, я обращаю внимание на то, что,оказывается, русская икона — такое же серьезное дело,как и остальные памятники искусства в мире. Одинамериканский историк России в сердцах даже воскликнул:«Эта мистификация — дело рук старых русскихэмигрантов. Это они меня учили в американском университете:не трогай своими неправославными рукамиэти святые иконы!» Кстати, в этой реакции есть доля285
истины. Всем известны случаи, когда некоторые западныеторговцы иконами даже переходят в православие,чтобы «познать иконы глубже». Никто почему-тоне хочет идти в западные университеты и изучатьисторию мирового искусства и технику интернациональнойэкспертизы. Получается что-то вроде увлечениябуддизмом, столь распространенного среди уличныххиппи.Объяснив читателям на примерах, что мои предшественникибыли некомпетентны вообще в анализепамятников древних культур, я ответил на недоумение:«Почему до Тетерятникова никто никогда неусомнился в этих шедеврах?»Придется ответить также и на вопрос: «Прчемуименно Тетерятников первым заметил, и с первого жемгновения, то, чего никто не видел в течение полустолетия?»Дело объясняется просто, и тут нет никакой сверхъестественности.И никакой я не «гений человечества».Просто, в силу исторической случайности, я оказалсяпервым эмигрантом из России, который вырос и воспиталсяв атмосфере русской музейной науки, средиоригинальных древних памятников. Короче, я простопервый профессионал-эксперт, поглядевший на эти шедевры.Вот почему с первого же мгновения я почувствовал,что в этих «русских древностях» — нерусскийдух.Так начались мои первые сомнения. Остальныеаргументы уже чисто технического порядка и элементарныдля международных методов экспертизы. Кстати,я сознательно оперировал только фактами, доступнымилюбому профессиональному эксперту без специальныхзнаний иконописи. В этом подходе есть элементдействительного новшества, ибо и в России и вСССР никогда не было такой науки — экспертиза иконописи.Очутившись на Западе, я был вынужден «изобрести»научную экспертизу икон, чтобы быть поня-286
тым во всем мире. По моему мнению, никакой «мистическойрусской души» не существует. Мы нормальнаянация, а следовательно, и все, что мы сделали иделаем, должно быть доступно оценке с международныхпозиций, в том числе и с позиций законов мировойкультуры. Вот по этим-то законам, «вторая Третьяковка»— непременно «фальшивая Третьяковка».Поэтому большое место в моей книге уделено сопоставлениюявлений русской истории с аналогичнымисобытиями во всемирной истории. Пришлось убеждатьчитателей в таком «откровении», что Россия рубежаXX века была не «совсем дикой страной», в которой,вследствии отсталости, все продукты должныбыть натуральны и без синтетики. Что миф о «загадочнойдуше» русского народа был выдуман полурусскимиинтеллигентами, но не всей нацией и в слишкомособый период русской истории — так его и называют— «Серебряный век». Значит, он — ненормальный.Привожу примеры, что периодически в истории каждойнации возникают «серебряные и серебристые века»— так итальянский Ренессанс родился как подражание— фальсификация древности и лишь впоследствииразвился в самостоятельное движение. РусскийРенессанс был насильственно оборван еще на серебристомэтапе — не успел стать ни полноценно «серебряным»,ни, тем более, перерасти в «золото».Вот эта продукция полурусского серебряного векаи поступила на Запад. Запад с восторгом воспринялэту «русскую клюкву» как древних выразителей мистическойрусской души. Глава моей книги называется:«Влияние русского Ренессанса и Декаданса на иконыдвадцатого столетия».Небольшой парадокс — в течение всей книги ядоказываю, что эти иконы — фальшивки, но вот напоследних страницах неожиданно заявляю: «Я не верю,что большинство этих предметов было изготовле-287
но в качестве специальных фальшивок, для обманаколлекционеров-покупателей».Резон для такого «поворота» простой — знаясерьезность русской науки об истории иконописанияконца XIX — начала XX века, я не могу поверить, чтотакими «детскими шалостями» можно было бы обманутьстоль знающих русских коллекционеров, как Рябушинский,Остроухое, Третьяков. Невозможно быловвести в заблуждение и знаменитых русских ученых —Грабаря, Лихачева, Кондакова и остальных.Вот западные иконопочитатели массами «переходятв православие», чтоб потом молиться перед фальшивками,но простой здравый смысл заставляет меняусомниться, что глаза и сердце природного православногомогут хоть на мгновение ошибиться перед, например,такими фактами. На одной из фальшивокэтой коллекции св. Параскева держит в руках крестнеправильной формы. Косая перекладина осьмиконечногоправославного креста нарисована в другую сторону.Как вы думаете, может ли традиционный иконописецсредневековья «неожиданно ошибиться»? Дляпрофессионала и православного эта ошибка равносильнаошибке доктора или просто человека — с какойстороны у вас сердце?Но даже, если предположить, что невозможноесвершилось и крест неправильно нарисован, то, кольэта икона датируется XV веком, разумно ли допустить,что эту ошибку не заметили тысячи православных,видевших эту икону в течении полутысячелетия — 500лет — от XV до XX века?Западные «просвещенные скептики» упрекают меняв том, что я «срываю возвышенные мистическиечувства» с русских икон. И правда — большинствомоих аргументов сугубо материальны. Однако, именнос чисто теологической стороны, ошибочная формакреста значит очень много. Это значит, что святаяОТВЕРНУЛА лицевую сторону креста от зрителя.288
Спрятать или хотя бы отвернуть изображение Христаот оскверняющих взглядов язычников, атеистов естьдревний христианский обычай. Следовательно, еслихудожник отдавал себе отчет в том, что он изображает,то он сознательно нарисовал эту картину длядемонстрирования НЕВЕРУЮЩИМ во Христа. Онафишировал свое отвращение к атеисту-зрителю. Или,сам будучи атеистом, издевался над невнимательностьюверующего. Значит, данный предмет и не сделанв качестве иконы. А наоборот!На другой «святыне» из коллекции ДжорджаХанна, св. Николай благословляет молящихся рукоюс ШЕСТЬЮ пальцами. Вспомним опять старинныехристианские легенды, где говорится, что когда Антихристявится в мир, то он будет рядиться в одеждысвятых. И что его можно распознать лишь по специальнымдьявольским знакам — в том числе и пошестипалой руке. Получается, что вне зависимости отцелей художника, результат этого «творчества» —явно антихристианский, издевательский над чувствамиверующих.Переместившись на Запад, такие ухмылки серебристыхатеистов-интеллигентов стали тысячами размножатьсяв качестве «правильных православных икон»многими, даже церковными издательствами. Особенноуспешна деятельность западногерманского «ИконногоМузея» Реклингхаузен, регулярно снабжающего любителей«прекрасного и церковного» своими «ИконнымиКалендарями». Как я уже отмечал, именно деятельностьэтого музея больше всего способствовала распространениюславы этих фальшивок на европейскомконтиненте. Здесь же эти иконы и были экспонированыпублике, и именно этому музею принадлежат правана издание и размножение этих шедевров «в полнуюкраску».Остается добавить, что даже «христиански правильные»фальшивки не могут быть религиозными289
иконами в силу того, что их создатели меньше всегодумали о Христе. Вспомним, что настоящие иконописцыначинали свою работу над иконами долгим молением.Фалынивщики же создавали свои лжеиконы сухмылкой, «под водку», или с варварским гоготанием.Нередко вносилась даже антинатуральная бессмыслицаили шуточное циркачество. Так, архангелы на двухлжеиконах держат свои посохи оттопыренным мизинцем.Святые лекари — Косьма и Демьян — вместоестественного для человека способа держания трубочкидвумя пальцами задают нам загадку, употребляятолько один. Значит, трубочки с лекарством должныбыть приклеены клеем к пальцам? Традиционная архитектурачасто заменена на кубистического вида «пейзажи»,имитирующие не иконную традицию — нет,а модернистские декорации дягилевского «БалетаРюсс».Древний традиционный верующий иконописецсоздавал образ святого или священного события.Фальсификатор или серебристый имитатор старательнокопировал только «старину», «трещины»,«грязь столетий» — не более. Противоположные целидолжны были привести и к другим результатам, дажеи в случае внешнего подобия и без явных антихристианскихошибок. Где уж тут думать о «чистотериз» или даже о «воздержании от общения с женщинами»на период иконописания — а ведь так долженработать истинный православный иконописец!Вернувшись к «земной» истории этих лжеикон,остается проследить их шаги от кисти серебряной интеллигенциидо прилавка советского Торгсина.Все произошло очень просто. Пришедшие к властибольшевики конфисковали «все дореволюционное»,в том числе и частные и государственные коллекции.Когда пришла идея продать за валюту, то котбору вещей были привлечены лучшие русские ученые,оставшиеся на русской территории, — Игорь290
Грабарь, Лихачев, Анисимов, Остроухов и другие. Даи сами «творцы» из тех, кто уцелел, вынуждены былиподаться на кормежку в государственные музеи и реставрационныемастерские. Следовательно, лучшиезнатоки древних и фальшивых икон были собранывместе и вместе решали, какая икона есть что! Вот ипродавали оригиналы по цене оригиналов, фальшивкипо цене фальшивок.Как говорится, вся история проще пареной репы...«Непростота» началась лишь после прибытияэтих «шедевров» на Запад. Иконы встретили здесь двавзаимопомогающие мистификации явления. Во-первых,на Западе в те времена не было и не могло бытьни одного серьезного специалиста по русским иконам.Вспомним, что научная реставрация икон началасьи в самой России только с 1920-х годов. Второй факторбыл иного рода.Когда началась распродажа русского добра, тозападные бизнесмены в ажиотаже стали скупать, боясьупустить возможность поживиться скупкой краденого.Все мировые газеты того времени пестрелизаголовками, что большевики распродают «всю Россию»,и, конечно, все мировое вороньё быстро слетелось.Многие осознавали неэтичность своих действий— писали же газеты, что это «покрытые кровью ценности»,но... стеснялись, а покупали.В такой нервной обстановке полуморальных сделокпрожженные западные дельцы забыли о тысячелетнихзаконах торговли, когда товар красен ценою.Вопреки всем финансовым аксиомам, было потеряночувство разницы между ценою в миллион и ценою вкопейку.Вспомним, Меллон, купивший ряд шедевров изЭрмитажа, был вынужден отдать неслыханные в тевремена деньги. Торговались советские купцы жестоко,цены рынка прекрасно знали и даже покупателей291
выбирали разборчиво, еще и с политическим прицелом.Вот и заставили американского любителя прекрасноговыложить несколько миллионов. Многиезападные антиквары тогда говорили — да я бы емудостал точно такой же товар в пять раз дешевле.Однако многие тогда с радостью бросились в этищекотавшие нервы операции.Какое-то проклятие над этими окровавленнымипамятниками искусств все-таки висело. Меллон, обобранныйна миллионы, должен был много лет скрыватьсвою покупку, не осмеливаясь поделиться радостьюколлекционера с другими любителями. И, наконец,американское налоговое ведомство заставилоего отдать все свои — и эти и другие — шедевры вамериканскую казну.Ну, а что было с Джорджем Ханном? Еще проще.Вытянув «все жилы» из Меллона и торгуясь за каждуюкопейку до миллионов, те же самые купцы вдруг добровольнопредлагают никому не известному американцу«шедевры иконописи», запрашивая смехотворномало. Меньше чем за расхожие иконы, продаваемыеТоргсином повсеместно во всех столицах мира. Дажебез специальных эмоциональных комментариев ясно —Джордж Ханн получил только то, что должен бытьполучить. Никакой мистики, как известно, марксизмне проповедует, особенно по отношению к американскимкапиталистам.Таким образом, реальные факты зарождения этойамериканской коллекции «мировых шедевров» откровенножестоки. Лучшие в мире специалисты по русскимиконам продали за копейки очевидные для нихфальшивки. По другую сторону Атлантического океананашлись люди, неизвестно почему решившие, чтоони «лучше знают», что такое торговля и что такоерусские иконы. Можно предположить, как долго смеялисьтогда интернациональные любители русской экзотики,уверяя себя самих и друг дружку, что Третья-292
ковская Галерея «такая дура», что продала чистое золотопо цене простых кирпичей...Однако, несмотря на комизм многих аспектовэтой истории, все-таки здесь гораздо больше трагедии.Особенно относительно западной оценки памятниковрусской культуры. Если Меллон, покупая предметызападноевропейского искусства из Эрмитажа, хоть ипереплатил и перенервничал, то все-таки он подошел кэтому серьезному делу очень серьезно. Прежде чем онвыложил денежки, в Советскую Россию были посланынесколько западных экспертов, перепроверить ещеи еще раз подлинность каждого памятника. И этонесмотря на то, что все, казалось, было ясно. Ибо этишедевры были всем давно известны, много раз публиковалисьсамыми ведущими учеными мира, наконец,они сами были созданы в Западной Европе и сравнительнонедавно переехали в Россию. Короче — их происхождениеи достоинства были известны всем. Но, исправедливо, осторожность никогда не мешает. ИзРоссии эрмитажные шедевры были доставлены в Берлин,лучшие мировые эксперты их опять проверили,заново все было реставрировано, и, несмотря на нетерпениеколлекционера поскорее увидеть новые поступленияв коллекцию, Меллон распорядился, чтобыэти памятники проверило и время и широкая публика.Никто не был оповещен об истинном хозяине и самойоперации, картины несколько лет провисели в европейскихмузеях и лишь затем были, наконец, доставленысчастливому ценителю в Америку.Таково отношение Запада к своим собственнымпамятникам. А вот памятники русской культуры былиполуслучайно куплены за гроши, никакой экспертизыникто никогда не делал, и без серьезных размышленийвсе до одного были объявлены «шедеврами»'. Вместонаучного музейного исследования, «иконная экспертиза»проходила весело, под звон бокалов с шампанскими водкой и под хруст бутербродов с русской черной293
икрой. Так же весело и «с икрой» современные «знатокииконописания» расстались со своими денежками нааукционе 1980 г. в Нью-Йорке.Меллон, купив всем давно уже известные шедеврыиз Эрмитажа, не пожалел затратить еще миллион наповторную и тройную проверку. Джордж Ханн, купивза гроши никому неизвестные предметы, обошелсяуслугами специалиста по бабочкам. Такова разница вотношениях к неизвестному русскому и «родному»европейскому искусству. Поэтому и финал двух историйдолжен быть противоположен. Шедевры из Эрмитажастали ядром Национальной Галереи Америки, авот какая судьба ждет вскорости эти фальшивые лжеиконы?Остается объяснить роль некоторых главных действующихлиц всей мистификации.Джорджу Ханну на судьбу нужно жаловатьсяменьше всех. Заплатив копейки, он всю жизнь наслаждалсяславой обладателя лучшей коллекции русскихикон во всем западном полушарии. Кажется, он единственныйиз всей окружающей его компании имел болееили менее трезвую голову и, по-видимому, былединственным, кто хотя бы частично догадывался обистинном значении и его коллекции, и всей шумихивокруг нее восхищенных дилетантов. Вряд ли его действиябыли неразумны и тогда, когда он переделывалвнешний облик икон, и когда он отказывался ихдемонстрировать. Вот и «сделал» большие деньги напростофилях. Даже мое разоблачение пошло посмертноему на пользу.После прижизненной славы великого коллекционерав историю он войдет как организатор Ханновщины— самой продолжительной и успешной мистификацииво всей истории мировой культуры. И самой выгодноймистификации, ибо никто еще никогда не смог организоватьпродажу целой коллекции фальшивок за три294
миллиона долларов. Да еще и с такой шумихой. Этонастоящий мировой рекорд.Повезло и мне, автору этой книги-разоблачения.Каждый эксперт-профессионал мечтает в течение всейжизни найти хотя бы маленькую, но серьезную ошибкупредыдущих исследователей. Мне же судьба послалашанс разоблачения еще невиданной в истории человечестваполувековой мистификации. «Нормальные»фальшивки обычно раскрываются довольно скоро, иуж, во всяком случае, восхищение подделками еще никогдане принимало формы такой всеобщей мистификациии открытого публичного ажиотажа.Сенсационность, то есть громкая неожиданностьмоего открытия была сюрпризом прежде всего дляменя самого. Если публика была шокирована, в основном,моей смелостью по отношению к полустолетнемувосхищению и к опасности судебного преследования,то я был буквально обескуражен этой невольной инепредвиденной сенсационностью первооткрывателя.Неужели никто никогда не видел таких ясных и откровенныхследов нерусскости, фальшивости и антихристианствана этих «святых предметах»?Каждый человек в своих детских грезах мечтаетвидеть себя таким рыцарем-одиночкой, бесстрашно и,главное, в одиночестве сражающимся за ему одномуоткрывшуюся Правду. Однако когда такая мечта осуществляетсянеожиданно в окружении взрослой реальнойжизни, то положение одиночки угнетает.Мое озарение, действительно, произошло одиноко,неожиданно и основывалось на реальных непреложныхфактах, увиденных мною при встрече с этимифальшивыми древностями. Факты были настолько непреложны,что, с профессиональной точки зрения,были вполне достаточны. Но поскольку выводы изпрофессиональных деталей экспертизы воспринималисьи публикой и мною как остро сенсационные, тодля более безболезненного осмысления этой истории295
я стал искать оправдания моему открытию в историческихаспектах этой мистификации. Изучал с пристрастиемвысказывания и действия каждого персонажа, впоисках своих сообщников, может быть, единомышленников.Так мною была выяснена некомпетентность авторапервого каталога — А. Авинова, странные действияхозяина коллекции. Бездумное отношение Запада вообщек русскому искусству. И, в конце концов, я нашелуже подлинных единомышленников, которые еще гораздоранее меня пришли точно к таким же научнымвыводам о действительном значении этих «шедевров».Только тогда я, сознаюсь, и успокоился окончательно.Только тогда я и поверил полностью, что всеч моинаблюдения и заключения абсолютны. Мое страстноежелание найти единомышленников вполне объяснимои с точки зрения принципов науки. Во-первых, потому,что условия моего исследования были весьма ограниченыи даже жестоки. Мне ведь не разрешали примененияникаких инструментов, кроме моих глаз. От менябыли скрыты все архивные данные. Я не мог свободнопутешествовать, посещая Третьяковскую Галерею,выставку Кристи и г. Питтсбург столько раз и настолько времени, сколько требуется нормальному ученомудля обыкновенной научной работы. Наконец,в своей книге я не мог сделать ни одного предположительного,априорного высказывания, ибо знал, чтомои противники будут судить меня за каждое такое«предположение» настоящим, а не «научным» судом.Вот почему найти единомышленника было для менякрайне важно, и, лишь найдя его, я мог с уверенностьюопубликовать свою книгу, пускай пока не исчерпывающуюпо деталям экспертизы, однако истинную всвоих главных догадках.Я задумался, могла ли случайно возникнуть такаяколлекция концентрированных фальшивок. .Мог лиДжордж Ханн быть таким уникальным знатоком ико-296
нописи, чтобы соединить в своем доме такое количествофальшивок? Очевидно, нет. Значит эту коллекциюкто-то собрал для него. Следовательно, кому-то и доменя было ясно, что представляют собой эти предметы.Происхождение коллекции — ее продал советскийТоргсин в 1935-36 г. Становится понятным, исходя изничтожной цены, что для советских торговцев никакойзагадки это собрание не представляло. Значит, решениео поддельности этих предметов было вынесено ведущимирусскими учеными того времени, во главе ссоздателем музейного изучения русской иконописи —Игорем Эммануиловичем Грабарем. Никто в мире,кроме работников Научной Реставрационной Мастерскойв Москве, не обладал в те годы реальными знаниямидревнерусской иконы. Высокий научный уровеньрусских исследователей того времени был тогдаже высоко оценен мировой музейной наукой. Вспомним,как триумфально воспринимались и доклады истатьи И. Грабаря научной общественностью ЗападнойЕвропы и Америки. В помощь И. Грабарю, вэтой экспертизе участвовали и лучшие дореволюционныереставраторы, многие из них сами «промышляли»когда-то фальсификациями, импровизациями или многоеслышали о таковых. Да и проблема фальсификацийикон широко обсуждалась и в русском дореволюционномобществе и стала одной из забот новосозданныхГосударственных мастерских.Для русских ученых начала XX века существованиефальшивых икон было общеизвестным фактом.Даже на съезде Русских Архитекторов, незадолго дореволюции, обсуждался доклад о том, что «недобросовестныереставраторы делают фальшивые иконы ипродают их иностранцам». Воистину, Россия Серебряноговека была «не дикой» страной...Все революционеры всех эпох, как только «награбятнаграбленное», то незамедлительно пытаются продатьего за рубеж своей страны. Так французские яко-297
бинцы распродали многие дворцы в XVIII веке, и теперьза рубежами Франции больше предметов французскогоискусства, чем на ее территории. ДеятельностьТоргсина была достаточно масштабной. ЗнаменитыйАрманд Хаммер обеспечил «русским товаррм»всю Америку. Торговля есть торговля, и любой старыйржавый русский гвоздь стал носить этикетку«коронные царские драгоценности».Зная бесчисленные виды шарлатанства с русскими«царскими» предметами жуликов всего мира, признаюсь,я удивлен, почему Торгсин торговал с такоючестностью — фальшивки шли за копейки. Это заокеаном они уже стали «Рублевскими» и «Третьяковскими».Зная политическую обстановку Советской Россиитого времени, можно было бы предположить, что«культурные выдвиженцы» могли и настоящие древниеиконы продать. Я так и думал до эмиграции, чтопродали. И, лишь увидев Ханновщину, я понял великуютайну... Но тайна ли это, если она была проданаза такой «мизер»?Нет сомнения, что на фоне разгулявшегося тогдавоинствующего атеизма никаких икон никаким комиссариатамжалеть не могло прийти в голову. Единственными,кто мог жалеть и, главное, понимать религиозноеискусство, были уцелевшие остатки еще настоящейрусской интеллигенции. Только они и моглиоценить и отделить фальшивые иконы от настоящих.Поэтому я должен разделить честь своего разоблаченияс этими русскими учеными.Значит, это «мы с Игорем Грабарем» писали моюкнигу.Рассказ о разоблачении фальшивой американскойколлекции можно было бы и закончить этим признанием,что «все вернулось на круги своя». Перед намив конце XX века раскрылась истина, известная многимв начале XX века.298
С точки зрения истории искусств, фальшивки естьнепременная, но сравнительно маловажная досаднаяслучайность. Примерно такие реплики я услышал отмоих коллег из СССР, когда до них дошли вести о моемоткрытии.Действительно, фальшивые ценности сопутствуютшедеврам в культуре каждой нации, и их разоблачениеобычно свидетельствует только о профессиональномуспехе того или иного эксперта.Я, конечно, удовлетворен своим научным достижением,Джордж Ханн посмертно удовлетворен вдвойне:заработал три миллиона и дал имя Ханновщине —полувековой мистификации. Обычно после очередногоразоблачения публика и наука быстро теряют интереск разгаданным загадкам.Однако наша история представляет собою исключение.Надо только задуматься. Оригинальные памятникидревней русской культуры спрятаны далеко, в труднодоступныхрусских-советских музеях. Остальноймир их практически никогда не видел. Русскоязычныепубликации слишком экзотичны для остальных людейна земле. И вот перед глазами восторженного человечествауже полустолетие раскачивается своими ветвямиграндиозная «русская клюква», ничего не имеющаяобщего с истинными плодами русской культурыи нации. И западное, просвещенное человечество наивноприняло эту «деревянную матрешку» за живуюрусскую душу. Тысячелетнее искусство многомиллионнойстраны оказалось подменено полушутливыми подделкамиполурусских-полусеребряных интеллигентовнашего столетия.Репродукции Ханновщины заполонили все полкизападных университетов и библиотек и музеев. Западныепрофаны даже на аукционах платят за фальшивкицены в пять раз выше, чем за оригинальные древниеиконы. В таком солидном издании, как «Новая Като-299
лическая Энциклопедия», искусство всего православияпредставлено подделками из Питтсбурга, которые ине являются иконами вовсе. Глаз западного любителяискусств отравлен лжекрасотою лжеикон.Для истинных знаний требуется истинное образование,однако оказалось, что на Западе по отношениюк русской культуре последние полстолетия прошликак лженаука.Появление западной лженауки о «мистике русскихикон» — явление чисто психологическое, базирующеесяна почти средневековом ощущении «непонятности»этой непонятной России. Сыграли свою роль и политическиесобытия нашего столетия, вызвавшие изолированностьрусских ученых от западноевропейскихсобратьев. Вспомщш, что серьезное музейное изучениерусских икон началось лишь с 1920-х годов нашегостолетия и продолжается ныне в уже ставших советскимирусских музеях. Западная мистификация основанапрежде всего на незнании и заведомом недовериик не знаемому ими развитию истории изучения иконописи.Никто из иконолюбов Запада никогда не виделдаже большинства русских древних памятников, поэтомуи не был в состоянии отличить золото от шелухи.Признаюсь, иногда нескромно думаю, что вечнаяРоссия не случайно послала меня и всех нас, русскихэмигрантов, в иммиграцию — разоблачить мистификациюрусской нации, русской истории. Поэтомуистинная сенсационность моей истории заключаетсяв том, что я осознал, насколько мы, эмигранты,нужны самой России вне ее территории. Нужныи Западу, ибо мистификация, фальсификация дажечастички мировой культуры унижает всю мировуюцивилизацию.Коллекция лжеикон Джорджа Ханна, как самаяпрославленная на Западе, представляет нам и примерпотрясающих заблуждений одной части человечества300
относительно другой части. В далекое средневековьеевропейцы верили, что в «далеких странах» живутлюди «с песьими головами» и китайцы «на одно лицо».Сегодня музейный специалист, приехавший изатеистической страны, с ужасом обнаружил, что наСвободном, Христианском Западе местные руссолизбымолятся «кресту с другой стороны» и кладут поклоныперед Шестипалым.Цивилизация, сумевшая точно подсчитать количествовсех ямок на далекой Луне, «не захотела читать»четкой русской надписи в руках Спасителя, изображенногона предметах Ханновщины: «Не на лице судите...»ВОПРОСЫ К КОЛЛЕКЦИИ ДЖОРДЖА ХАННА1. Почему многие «уникумы» из Питсбурга являются точными копиямивсем известных шедевров из самого главного русскогомузея — Третьяковской Галереи в Москве?2. Почему эти «средневековые памятники» выглядят такими свежимии чистыми, что резко отличаются по внешнему виду отдревностей любых культур в любом мировом музее?3. Почему краски на многих иконах идентичны, несмотря на то,что их происхождение должно быть из разных городов, различныхэпох и различных художественных школ?4. Почему многие предметы имеют следы искусственного старения?5. Почему «следы времени» на многих иконах одинаковые?6. Почему «патина древности» легко соскабливается ногтем илипослюнявленным пальцем?7. Почему «патина древности» по цвету, составу и технике нанесенияидентична сразу на многих иконах? Неужели кто-то черпал«патину» из одного ведра?8. Почему слишком многие изображения на этих «уникальныхкартинах» живо напоминают нам книжные репродукции самыхпопулярных икон из русских коллекций рубежа XX столетия?9. Почему многие иконы, атрибутированные в качестве памятников15-16 столетий, нарисованы на досках от икон конца 18-19веков?10. Почему эти «музейные и всемирные шедевры» стали знамениты301
только после прибытия в Америку и не были известны русскимученым еще в России?11. Почему мы ничего не знаем о компетентности авторов первогои последнего каталогов в области истории искусств, музейнойработы или реставрационной практики?12. Почему эти русские древности никогда не были анализированытеми же методами экспертизы, которые применяются во всехмировых музеях, по отношению к предметам любой страны илюбого времени?13. Почему Третьяковская Галерея продала эти «шедевры» за копейки?Фальшивки из коллекции Джорджа Ханна заместили оригинальныедревние русские иконы и дискредитировали русскую культуру вмногочисленных западных публикациях, включая:Andrey Avinoff, Russian Icons and Objects of Ecclesiastical and DecorativeArts from the Collection of George R. Hann, Carnegie Institute,Pittsburgh, 1944.Christie, Manson & Woods International Inc. (Christie's), The GeorgeR. Hann Collection, Part One, Russian Icons, Ecclesiastical and SecularWorks of Art, Embroidery, Silver, Porcelain and Malachite, Auctioncatalogue, April 17th and 18th, 1980, New York.New Catholic Encyclopedia, McGraw Hill, 1967.Vladimir Lossky and Leonid Ouspensky, The Meaning of Icons, BostonBook and Art Shop, Boston, 1952 (also eds. 1952, 1962, 1981).Nicholas V. Riasanovsky, A History of Russia, Oxford University Press,1963.T. Froncek, ed., Intro. J. Billington, Consult. F. Starr, The HorizonBook of the Arts of Russia, The Horizon Magazine, American HeritagePub. Co. Inc., New York, 1970.Cyril G. E. Bunt, A History of Russian Art, The Studio, London-NewYork, 1946.Tamara Talbot Rice, A Concise History of Russian Art, Praeger Pub.,New York-Washington, 1963.Tamara Talbot Rice, Russian Icons, Spring Books, London, 1963.Robert Wallace, et al., Rise of Russia, Great Ages of Man Series, TimeInc., New York, 1967.George Every, Christian Mythology, The Hamlyn Publishing Group,Ltd., London, 1970.Titus Burckhardt, Sacred Arts in East and West, London, 1967.Nathalie Scheffer, Symbolism of the Russian Icons, Gazette des Beaux-Arts, Vol. XXVI, Series VI, Feb. 1944.302
Nathalie Scheffer, Religious Chants and the Russian Icons, Gazette desBeaux-Arts, Vol. XXVII, Series VI, March 1945.Andrey Avinoff, The Story of Russian Icons, The Russian OrthodoxJournal, July 1944.Andrey Avinoff, A Loan Exibition of Russian Icons, The MetropolitanMuseum of Art Bulletin, Vol. il, No. 8, April 1944.Andrey Avinoff, Russian Icons, Carnegie Magazine, Vol. XVII, No. 8,Jan. 1944.Intro. Phillipp Schweinfurth, Russian Icons, Oxford University Press,New York-Toronto.Alexander Koiransky, Russian Icons: Timely Aesthetic, Art News, Vol.XLI, No. 7, May 15-31, 1942.Royal Cortissoz, From Russian and Other Sources, The New York HeraldTribune, Dec. 14, 1941.Maryellen L. Dwyer, Hann Collection of Icons, Carnegie Magazine,Vol. XLII, No. 8, Oct. 1968.Sophia L. Fahs and Reginald D. Manwell, The Church Across The Street,The Beacon Press, Boston, 1951.Harvey Gaul, A Memorable Icon Exibition Hangs at Carnegie Institute,The Musical Forecast, Feb. 1944.Robert J. Griffin, Saints Nicholas, Lands East, Vol. Ill, No. 10, Dec.1958.Jeanette Jena, Russian Icons Being Shown at the Pitt, Pittsburgh PostGazette, June 25, 1959.The Martyrs, The Observer, 23 April, 1967.The Russian Orthodox Journal, Vol. XIX, No. 6, Oct. 1945.Icon Calenders, Postcards, etc., publ. by Verlag Aurel Bongers, Recklinghausen.Russian Easter Liturgy, The Russian Orthodox Cathedral of Paris, MonitorMFS441.A Selective Introduction To Iconography In The George R. Hann Collection,Christie's, 1982.Horst Bannach, Weihnachten in Meisterwerken christliche Kunst, Katzman-Verlag,Tübingen, 1963.H. P. Gerhard, Welt der Ikonen, Verlag Aurel Bongers, Recklinghausen,eds. 1957, 1963, 1970, 1971, 1974.Leonhard Kuppers, Der Heilige Georg, Verlag Aurel Bongers, Recklinghausen,1964.Gunter Ristow, Die Geburt Christi, Verlag Aurel Bongers, Recklinghausen,1963.Heinz Skrobucha, Meisterwerke der Ikonenmalerei, Verlag Aurel Bongers,Recklinghausen, 1961.Heinz Skrobucha, Von Geist und Gestalt der Ikonen, Verlag Aurel Bongers,Recklinghausen, 1961.Watter Felicetti-Liebenfelts, Geschichte der russischen Ikonenmalerei inden Grundzügen, Graz-Austria, 1977.303
Robert H. McNeal, et al., Knowing Our Neighbors in the Eastern Hemisphere,Holt, Rinehart and Winston, Inc., New York-London-Toronto,1968.Единственная ежедневная русская газетаза рубежом«НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО»выходит в Нью-Йорке, СШАГлавный редактор Андрей Седых71-й год издания«Новое русское слово» регулярно печатает документысамиздата, протесты из СССР, произведения лучшихэмигрантских писателей, публицистику и прочее.Подписная цена 70 долларов в год,35 дол. — 6 месяцевВоскресное издание — только 35 дол. в годГодовая подписка воздушной почтой(пачками по 6 номеров) — 150 долларов в годПодписку с платой направлять по адресу:243 West 56 St., New York, N. Y., 10019 USA.NOVOE RUSSKOYE SLOVO304
Литература и времяЭмиль КоганСОВРАЩЕНИЕ СОВРАТИТЕЛЯ(Заметки о «Ленине в Цюрихе»)«Автор ТУЛага' нашел своего демона»*, — с возмущениемреагировала на книгу левая французская печать.Разделяя или нет ее негодование, читатель неможет не разделить ее мнение. Недаром Ленин, как отраскаленной сковородки, отдергивает руку от образка,протянутого ему наивной монашкой на вокзале. Недаромон видит в христианстве своего злейшего врага,«развратившего, расслабившего» русскую нацию, лишившегоее имманентной «страсти к топору и огню».Недаром он готов «взять в союзники хоть и Вильгельма,хоть и сатану — только бы сокрушить царя», помазанникаБожьего, гаранта народного целомудрия.И если Ленин рассчитывал на содействие нечистойсилы, то, очевидно, потому, что и сам он был из еелегиона. Выступление Ленина в цюрихском Кегельклубе(«Октябрь Шестнадцатого») снабжено прямымина этот счет указаниями. Романист называет оратора«косо-крылатым», помещает его под красным фонарем,отсветы которого на «оскудевшей рыжине» «Учителя»подобны языкам адского пламени. Прокручиваетиступленную фонограмму ленинской речи:Глава, не вошедшая в книгу «Соляной столп».* Заголовок статьи В. Фая в «La Quinzaine Littéraire» от 16 декабря1975 г.305
«...Швейцарский народ голодает все ужаснее [...]! Немедленноначать пропаганду в армии! Разъяснять [...] неизбежность и законностьприменять оружие для освобождения от наемного рабства!..Издавать летучие листки за немедленный социалистический переворотв Швейцарии!»Подвергая педагогическому гипнозу своих учеников,будущих руководителей европейских компартий,Ленин умело нагнетает психологическое крещендо проповеди:«Когда трудно входит — навалить еще тяжелее,и тогда прежнее трудное уже входит легче». Некоторыеиз ораторских приемов Ленина с успехом используетдругой партийный проповедник, начинавшийкарьеру в мюнхенских пивных...Автор «Архипелага» действительно создал демона,но только не «своего», не индивидуально-частного,наподобие гётевского Мефистофеля, а всеобщего, безграничного,интернационального... Ему, «косо-крылатому»,тесна швейцарская аудитория. Великий Соблазнитель,он репетирует здесь выход на широкую историческуюсцену. И чудилось, что он, «взлетев отсюда,из зальчика ресторана Штюссихов, — вот взмоет сейчаснад площадью»...Сначала «над черепичными крышами старого Цюриха»,а затем и над морем людских голов в далекомреволюционном Петербурге. Ведь его выступление вКегель-клубе, считай, готовые «Апрельские тезисы».Ими Ленин оглушит с броневика пришедших встречатьего на вокзальную площадь жителей восставшейрусской столицы. Он призовет их «отвернуться» отбуржуазно-демократического «подлого правительства»,«создавать всенародную милицию от 15 до 65лет обоего пола». «Осыпать войско камнями и обливатькипятком» и кислотой с верхних этажей.Всю жизнь он мечтал парить над толпой, над площадямиЕвропы и России. «Излечивать от религии»,«внедрять понимание насилия в истории». Внушать,что он один может принести хлеб, мир и свободу306
уставшим от войны народам, а в обозримом будущем— окончательное разрешение всех человеческих проблем.Но мир не внимал зажигательным речам Ленина.И за исключением русской «крохотной группы, называемойпартией», и «Кегель-клуба — зародыша III Интернационала»,Европа и Россия были абсолютно равнодушнык его роковым чарам.Ленин, однако же, не поддавался отчаянью и былуверен, что положение совершенно изменится, кактолько наступит революция. Он не сомневался, что революционныйхмель откроет сердца и уши его глаголу,что никому тогда не устоять перед его горячечныммонологом, перед неотразимым его проектом. И неумея ни склонить к революции, ни даже ускорить еенеизбежный приход, Ленин изводился ожиданием, мучился,что сохнут на корню его «несравненные способности»вождя и укротителя мятежных масс.О революциях, бывших и будущих, он размышляет«нежно», пылко и похотливо, как о женщинах, которымиему не довелось обладать, как о «возлюбленной»,которую того и гляди уведут у него из-под носа:«Пока читается тут реферат, а там, в Петербурге, что-то утекаетнеповторимо, кто-то жалкий и недостойный все более вцепляетсяво власть».Революция разразилась там, где он меньше всегона нее рассчитывал. Не в Швейцарии, не в Швеции, ав России. Послушная религии и родительскому наказуРоссия внезапно и без видимых Ленину причин взбунтовалась.На этом, собственно, обрывается действиекниги, но будущее не сулит особых сюрпризов. Потерявголову и прогнав царя-батюшку, Россия повалитна площадь Финляндского вокзала встречать Ленинаи станет легкой добычей Великого Соблазнителя.Отрезвление не заставило себя ждать, но былопоздно. Соблазнитель, как явствует из статей и «Архипелага»,оказался жестоким г. циничным насильником.Он и не помышлял выпускать из когтей свою307
жертву, чьи вопли не нарушали сонного спокойствиясытой и добропорядочной мюнхенской Европы. Европасчитала коммунизм локальным явлением, вспышкойазиатского безумия и внутренним делом самихрусских. Ей было невдомек, что Россия — лишь начальныйэтап ленинского восхождения, очаг и плацдармугрожающей миру красной чумы. Что идея национальногокоммунизма (социализма в одной стране)была для Ленина ересью и чушью. Что он не любилсовращенной им нации и не собирался задерживатьсяна ее территории:«Из-за того, что четверть крови в тебе русская, из-за этойчетвертушки привязала судьба к дрянной русской колымаге! Четвертушкойкрови, но ни характером, ни волей, ни склонностяминисколько он не состоял в родне с этой разляпистой, растяпистой,вечно пьяной страной».Другою четвертью крови Ленин состоял в родствес евреями. Они-то и понимали его с полуслова. Они-тои составляли большинство его гвардии: Радек, Зиновьев,Ганецкий, «верный Абрамович»... И если в ихсписке случается русская фамилия, например, Харитонов,автор не забывает добавить к ней имя ее владельца:Моисей. «Моисей Харитонов».Две остальные четверти ленинской крови былинемецкой и азиатской. Романист регулярно подчеркиваетнерусскость ленинского лица: «монгольские глаза»,«азиатский оскал», калмыцкую улыбку.Ленин у Солженицына — собиратель враждебныхРоссии кровей, алчущих ее гибели и выжидающих внем своего часа. Ленин — азиатский смерч, подгоняемыйв будущее методичной прусской палкой. Ленин —усовершенствованное татаро-монгольское иго. И, сожравРоссию, оно неминуемо покатится дальше, втрупах и пожарах мировой революции...Разумеется, не каждому читателю придется повкусу солженицынская легенда, не каждому покажутсянадежными ее исторические и моральные сваи. Мно-308
гие, пожалуй, найдут, что автор злоупотребляет анализомкрови своих героев. Борис Суварин резонно замечаетСолженицыну, что кровь российских царей Романовыхбыла в значительной мере немецкой. И труднопоручиться, продолжает критик, что в жилах самогописателя, родившегося на Дону, не течет иудейскаякровь далеких хазар, обитавших когда-то в тех краях ирастворившихся в славянском половодье. Подобнаягипотеза, однако, не мешает читателю, шутит Суварин,глотать книги Солженицына и выражать ему«восхищение и признательность. Но только не за 'Ленинав Цюрихе 4 »*.Отрадно, что наш «рационалистический гуманизм»**морщится от мифов, как от зубной боли. И яне решаюсь обострять его страданий этической защитойсолженицынской легенды. Моя задача — выпаритьиз нее информационную соль и поднести как наладони читателю.Да и что сказать в защиту политических мифов?Любой из них настоян на предрассудках и страхе, иредкий безвреден для духовного здоровья. Легко осудитьмиф, сложнее от него освободиться. Изгнанныйна задворки сознания, он застревает в глубине душизалогом нашей ментальной принадлежности к группе,классу, нации.Миф, реакционный или прогрессивный, удовлетворяетмассовому спросу. А спрос на Ленина-человекаеще не наступил и неизвестно, когда наступит. Спросже на Ленина — безгрешного херувима, мудрого патриархакоммунистического культа, в России резкоупал. Коллективное воображение разбило его раззолоченнуюстатую на тысячу острых осколков, на тысячу* Статья «Солженицын и Ленин» в журнале «Est et Ouest»,1976.** Выражение Солженицына из Гарвардской речи. «ВестникРХД», №125.309
беспощадных, убийственных анекдотов. И теперь онотребует реконструкции памятника, стройной и целостнойверсии антимифа. Солженицын взял на себя и этоттруд. Память о загубленных миллионах сжимала егосердце, боль изувеченной родины двигала его резцом.И мастер не обманул надежд заказчика. Скульптурадемиурга сработана им так, чтобы занять место вхраме коллективного сознания. И, как каменные демоныв старинных эльзасских храмах, она наделенасемитскими чертами и вздыбленным фаллосом Совратителя....Либретто этого мифа мне довелось зачитать наодном научном семинаре, который пришел к единодушномузаключению, что я извращаю (а в более мягкомварианте: обедняю) образ героя, сводя его к однойи сплошной чертовщине. И, поскольку обвинение неутеряло актуальности и совпадает, быть может, с мнениемтех, кто читал и не забыл самого Солженицына,я не могу обойти его молчанием. Мне бы не хотелосьразочаровывать читателя и показаться ему мифоманом.Никто не отрицает, что книга о Ленине гораздошире мифа о нем. Как всякое тело шире своего скелета.Давно прошли времена, когда мифы усваивалисьв натуральном, «скелетическом» виде. Костяк современногомифа облекают нынче для вящей удобоваримостив волокнистую ткань романической прозы. Ах,проза, иллюзия жизнеподобия, эквивалент нашейгрешной трехмерной реальности, ты позволяешь любойлегенде выглядеть кинодокументом эпохи!И в «Главах о Ленине», помимо чисто мифологическихэлементов, имеется немало всякой всячины.Бытовые подробности, биографические справки, кускистатей и дискуссий, сведенья о здоровье, погоде, одежде,эмигрантские прогулки и сплетни.Но весь этот кропотливо собранный материал такбы и остался конгломератом разношерстных фактов310
и не ожил бы в характере Ленина, не вдохни в негоавтор своих же грехов, реакций и тиков, не подстегнион его к своему же сердцу, к своей системе кровообращения.И ленинская плоть розовеет на наших глазах,пульсирует жилкой, трогает голизной и беззащитностью,делает книгу самым интимным из всех произведенийСолженицына.Тем не менее, «человечность» и жизнеподобие Ленинаубеждают полностью лишь тех, кто испытывалпотребность в мифе, кто дал на него социальный заказ.Левая же критика моментально раскрыла в героедемона. Потому что раскрыть в герое демона — значитотказать ему в достоверности. Как будто мифнуждается в достоверности и от нее зависит его успех.• * •Союз с Вильгельмом и сатаной Ленин обрел в лицеПарвуса. Выдающегося деятеля европейского рабочегодвижения, теоретика марксизма, красного миллионераи, помимо всего прочего, — агента германскогогенштаба. Парвус задумал сокрушить воюющуюРоссию, подорвав ее изнутри. Первую русскую революциювозглавил его ставленник Троцкий. Вождемгрядущей он избрал Ленина.Образовалась целая литература, опровергающаяили отстаивающая историчность такого подхода к событиям,изменившим лицо земли. Но какое отношениек исторической действительности имеет роман Ленинас Парвусом, их ночные контакты, протекающиев больной голове Ульянова, в затронутом смертнойплесенью его мозгу? Разве искусство не реальнее любойреальности? И разве ленинская археография, составленнаясоветскими и зарубежными мифотворца-311
ми, уже не истребила настоящего Ленина, не подмялапод себя всякие остатки правды о НЕМ?Эксперт из «Монда», признавший в солженицынскомтворении «подлинный портрет, даже если отдельныеего черты и выписаны с нажимом»*, мог познакомитьсяс настоящим Лениным разре что на спиритическомсеансе. Но он не сообщает, кем привиделсяему Ульянов, подлинным революционером илиподлинным дьяволом.У Солженицына он был и тем и другим сразу. Иесли до встречи с Парвусом демонизм героя с легкойруки наивных рецензентов сходит еще как-то за художественнуюметафору, то в обществе Парвуса демоническаясущность Ленина проявляется самым недвусмысленнымобразом в адекватном себе четвертом измерении.О приближении Парвуса возвещает пустая керосиноваялампа, вдруг загорающаяся тревожным пламенем.А также толстокожий баул на полу, вдруг начинающийшевелиться, увеличиваться в объеме, вырастаясначала в свинью, в затем в «слоноподобного»Израиля Лазаревича.Парвус плюхается на кровать рядом с хозяином.И принимается «теснить легковатого Ленина своимипудами». Тот отстраняется от нахального гостя. Парвусснова наседает на Ленина. И, «рукою повиснув наего плече», умоляет: «Открывайте трубы, по которымлить!», «Подайте мне трубы!». Этот призыв становитсялейтмотивом ночной сцены. Парвус стремитсявлить немецкую денежную манну в тело ленинскойорганизации и зачать революцию.Жорж Нива совершенно прав, называя Парвуса«Искусителем»**. Но хотелось бы знать, зачем искушатьему Ленина, если тот «для революции только и312* Статья Д. Симона в «Монде» от 14 декабря 1975.** G. Nivat. Soljénitsyne. Ed. du Seuil, Paris, 1980.
родился и жил»? Почему ломается Владимир Ильич,почему он «крутит динамо» и оттягивает кульминационныймомент в своих сношениях с Парвусом?Объяснения самого Солженицына по этому поводудовольно расплывчаты и путаны. С одной стороны,Ленин вроде бы печется о своей репутации и, опасаясьпредоставить миру вещественные доказательствапостыдной связи, не спешит забеременеть революцией.С другой стороны, Ленин в книге «совершенносвободен от предрассудков, от чистоплюйства».Так неужели соображения чести помешают его революции,ради которой «родился и жил он», издать свойпервый крик?Очевидно, нет. Как выясняется через несколькостраниц, Ленин отнюдь не гнушается немецкими деньгами.Он просто не принимает их в данную минуту,поскольку не может истратить по назначению. Его организацияслишком слаба, малочисленна и совсем ненастроена на революцию. То есть, переводя на языкмифа, тело ленинской организации еще не созрело дляспермы Парвуса. Потому и отстраняется ВладимирИльич от кипящего страстью «слонобегемота». Отстраняется,правда, не всерьез, а нарочно, чтобы крепчеприворожить богатого женишка.Да, но при чем тут тогда соображения чести, ипочему отведено им столько страниц? Неувязка, думается,происходит из-за того, что миф об искушенииЛенина автор бессознательно старается согласовать вовремени и пространстве с другим мифом о Ленинеискусителе.А мы уже знаем из этого предыдущегомифа, что Ленин неспособен сделать революцию, чтооца вспыхнула без его ведома и воли. Ленин умеетлишь прийти на готовое, оседлать, укротить, совратитьвосставшую без него толпу, вызвать к жизниОктябрьскую контрреволюцию. Но сначала ему нужнодождаться Февраля.313
В Феврале наступит у Ленина период оплодотворения.И в предвкушении той томительной минуты«кровать швейцарская, массивная с ними могучими двумя —плыла над миром, беременным революцией, ожидавшим революцииот них двоих, с ногами свешанными, — неслась по темномукругу опять».Неравномерно-спиральный синтаксис фразы передаетполет брачного ложа, на котором в одну из вальпургиевыхночей ленинского наваждения было зачатоомерзительное детище — коммунистический режим.Но спрашивается, чье ж таки это дитя? Какой издвух родительских пар принадлежат родительские нанего права? Ленину-нации или Ленину-Парвусу? Процитированнаяфраза содержит две различные беременностии две различные революции. А колебания Ленинана швейцарской кровати передают,, по всей видимости,колебания самого автора за его письменнымстолом. Ибо замысел Солженицына на протяжениивсей книги осциллирует между двумя мифами, междудвумя концепциями о происхождении советской власти.Рассмотрим оба мифа. В соответствии с первым,коммунистический режим есть дитя совращенной (илиизнасилованной?) нации и Совратителя, пришедшегоиздалека в заграничной идеологической одежде. (Любопытнаядеталь: от Февральской революции до Октябряпрошло почти девять месяцев.) Хотя это и незначит, что миф о национал-большевизме бытует водной России. Именно от него проистекает вечныйспор «националистов» с «универсалистами» разныхстран: какие гены преобладают в наследственностирежима — местные или иностранные? Кто виноват вего крайней бесчеловечности — марксизм или местнаяотсталость?Второй миф — назовем его условно мифом о военномкоммунизме — предлагает иную генеалогическуюверсию. По нему, режим возник в результате сговора«пятой колонны», или «иностранной партии»314
(сюда входят: еврейский коммунизм, центробежныенацмены и доморощенные квислинги-гусаки), с враждебнойдержавой, с коварным империализмом. Врагштыками и золотом помогает обосноваться в странесвоему сатрапу, привезенному в идеологических фургонахоккупационной армии или завербованному наместе, с целью получения от него законного наследника.Одна легенда приписывает коммунизму активную,мужскую функцию. В другой — ему выпадает пассивная,женская. Сам он, естественно, предпочитает легендуномер один. Приятнее казаться соблазнителеми даже насильником, чем «шлюхой оккупанта», «немецкойовчаркой». И аппарат пускается во все тяжкие,лишь бы отвязаться от этого гнетущего впечатления,лишь бы не дать ему никакой пищи. Он ратует за независимостьот идеологического папства, провозглашаетсебя революционным*, сжимает процентнуюнорму евреев в руководящих инстанциях партии, а сприходом к власти и вовсе избавляется от них. Легенданомер два обрекает коммунизм, вопреки отправнымубеждениям его адептов, на антисемитизм и ксенофобию.Ибо нет у него лучшей возможности доказатьсвою патриотическую закваску и завоевать довериемасс, как вытолкнуть на середину круга виновникаобщих бед и слез.Оба предания противоречат одно другому в силубисексуальности их основного протагониста, что, отметим,не слишком препятствует им уживаться в коллективномвосприятии. Они синхронизируются в нем,наплывом набегая друг на друга. Первый миф соотноситсяобычно с образованием коммунистического госу-* Революционным идейно-теоретически и по происхождению.Так, беззастенчиво фальсифицируя историю, КПСС преподноситбескровный, в сущности, Октябрьский путч, простой переход властив руки большевиков, грандиозным народным восстанием в стилеЭйзенштейна.315
дарства, второй — с нарождением его правящего класса:идеократии, номенклатуры.В первом мифе Ленин выступает отцом режима.Во втором — его матерью. Отцовские прерогативы вовтором принадлежат Парвусу. Легко догадаться, ктоон таков, принимающий наружность то бегемота, тотурецко-немецкого банкира, то одесского еврея, «презирающиймир тамошний, далеко внизу, под кроватью»,дышащий Ленину в лицо «болотным дыханием».Только от сатаны может исходить столь лютая,переплескивающаяся за края человеческого пониманияненависть к России, к этой христианской твердыне,преданной Богу и патриархальному завету.Остается раскусить самого Ленина и роль, которуюон играет в солженицынской космогонии. ЕслиПарвус открыто ненавидит Россию и является ее откровенным«внешним» врагом, то Ленин тайно болеетза победу германского оружия. Он «внутренний» врагсвоей страны, который прячется под личиной русского.Дальше. «Бегемотина» не боится «вываляться вгинденбурговой грязи». Жрец марксизма и равенства,он всюду размахивает дорогой сигарой и бриллиантовымизапонками, разъезжает в роскошном автомобиле.Он любит дебоши, шампанское, дам. О его оргияхзнает вся социал-демократическая Европа. Словом,Парвус живет на широкую ногу (с копытом).Ленин же как зеницей ока дорожит «честью социалиста»,слывет «разборчивым и чистоплотным»,влачит нищенское существование (хотя в партийнойкассе и водятся денежки). Моральный консерватор, онпорицает в печати свободную любовь и любителейклубнички (хотя на глазах родной жены уходит с любовницейв альпийские «спальные хижины»). И малокто подозревает, что безупречный партийный лидерпримыкает к подпольной группе, на счету которой —экспроприации (ограбления) банков, производствофальшивых ассигнаций, подделка завещаний, женить-316
ба на богатых наследницах по партийному мандату,продажа оружия бандитам. У большевиков свои законы,свой партийный суд, выносящий смертные приговорыи приводящий их в исполнение.Истинный революционер-коммунист, говорит Ленин,находится «на виду, в жизненном кипении и занятчем-то полезным для всех [...], — а главная тайнаядеятельность его течет рядом». Пройдет еще немноговремени, и эта «тайная главная деятельность» станетсистемой управления, административной пружинойсозданного Лениным государства.А пока что о ней известно не более, чем о встречахс посланником кайзера, чем о ночных полетах сдьяволом. Разделяя формально судьбу человечества,его условия жизни и нравственные нормы, Ленин, вотличие от Парвуса, стоит одной ногой (без копыта)в миру. Другой ногой он пребывает в аду. Днем напартконференции, ночью на Лысой горе.Судя по всему, Ленин в солженицынском воображениииграет роль, которую в коллективном сознанииминувших веков играли ведьмы. Отдает ли себе авторв этом отчет? Кто знает, хотя и вряд ли. Скорее всего,он не ведает, что творит. Но, подчиняясь безотчетномузамыслу, автор не упускает в герое ни одного изструктурно-родовых признаков ведьмы.Так, в сценах со «слонобегемотом» Ленин демонстрируетсовершенно явные женские манеры и поведение,ведет себя «переборчивой невестой». «Маленький»,«легковатый», капризный, обидчивый, хрупкий,он как нельзя лучше справляется с обязанностямисексуального объекта Парвуса.Какой контраст с Лениным, изображенным внеконтактов с дьяволом, в «реальной сфере» книги!Здесь он — плотный, твердый, «широкий от кости».У него железная хватка и «железное тело». В героепроступают черты вожака клана, первобытного племени.Ленин держит его в страхе и подчинении, не счи-317
таясь ни с кем, назначает маршрут, делит добычу,меняет самок, и все окружение у него на побегушках.По своей физической и психологической морфологииоба Ленина разнятся друг от друга, как мужчина иженщина. И просвечивая лучом анализа двойственностьгероя, художественную плоть его образа, мынаходим под нею два организующих костяка, две независимыемифологические программы.Одна из них подает Ленина главарем революции,отвергнутым идеологическим отцом. Его в прошломдолго и упорно искал писатель вместе со своими соотечественникамичерез магический кристалл «нравственногосоциализма», чтобы в конце концов отшатнутьсяот него, опознать в нем искусителя и погубителянации и сделать своим психологическим нужником.Из другой программы встает Ленин — зачинательсоциалистической стихии, тот, кто понес от дьявольскойспермы, в чью формулу входят идеология и золото.Ленин — матриарх коммунистической бюрократии,глава стаи номенклатурных фурий, растлившихдушу и тело нации, отведавших ее крови.Бюрократическое в герое есть продолжение егодемонической женственности. Партийный активизмЛенина носит моторный, механический и, в этом смысле,пассивный характер. «Бесперебойная машинность»вождя, его приемы и методы не зависят от конкретныхусловий и ситуаций. Они одинаковы для Швейцарии,Швеции, России. И всюду его партию подстерегаютте же просчеты и неудачи. Всюду Ленин обнаруживаетту же узость и слепоту, неизменную уверенностьполитического технократа, что «одна хорошаялистовка — и поднята вся Европа».Но Ленина не смущают ошибки и поражения. Унего была цель — обуздать мировой хаос, и он шел кэтой цели прямым путем. Он верил, что когда она будетизбавлена от спорадических и анархических завихре-318
ний, от эксцессов буржуазной свободы — исчезнет самавозможность ошибки.Реализовав в герое свою же разрушительнуюстрасть к мировой гармонии, Солженицын нарек еесоциалистическим проектом. Он только заменил в нейгармонию на казарму, обусловил голой ненавистью инасилием и лишил какой бы то ни было привлекательности.В чем, возможно, и заключается основная слабостьобраза. Читатель не восприимчив к соблазнамсоблазнителя, насмехается над чарами харизматическойличности и питает к ней жалость и отвращение.Простим Солженицыну такое тенденциозное сгущениекрасок. У него немало смягчающих обстоятельств.Во-первых, миф не терпит нюансов. Во-вторых,не писателя это вина, если каждое слово, тезис иобещание Ленина отдается в исторической памяти читателязловещими последствиями сталинизма.А в-третьих, не приходится удивляться тому, чтоЛенин, плетущий паутину организации, впечатляет насбольше, чем Ленин — бес и трибун революции, чтов тоталитарном гении вождя «женский фашизм» весомее«мужского». Ведь этот перевес и предопределилсимвблический пол рожденного Лениным режима.Многие критики, и в особенности Суварин, собралив книге обильный урожай неточностей, ошибок,искажений. Отдадим должное их стараниям. Писательи в самом деле безбожно искажает Ленина. Он искажаетего в той мере, в какой мифологическая оптикарасходится с реальными контурами явления. Но в тойже оптике амплифицируется подспудная сущность ленинизмаи фокусируется главная истина века, открытаяна родине Солженицына. И, если принимать ее врасчет, осуществление социалистической идеи, как,впрочем, и любой бюрократической утопии, сулит намвсем гражданскую смерть и статус счастливого донора в319
царстве партийных ведьм и всякой идеологической нечисти...Солженицын заснял ее дебюты, когда в 1916 годуона, как призрак, бродила по Европе. Движимая заемнойкровью и пьяная от запаха крови пролитой, доносящегосяс полей сражений, она с упорством сомнамбулыискала слабое звено, искала брешь в здании человеческогообщежития, чьи защитники занимались взаимнымистреблением...Бросим последний взгляд на это странное и жуткоешествие ленинской гвардии.Вот мешковато-рыхлая, безвольная фигура Зиновьева.Приходя в движение по команде вождя, Зиновьевбезотказен и эффективен, как робот, как длугавампира. А из-за ленинского плеча высовывается оскаленнаямордочка «русско-польского товарища» Радека.«Обмазанная курчавостью, в боевых веселых очках»,с вечной пеной у рта. «Озорником», «мерзавцем»,«говенной душой», «плутом» — ласково величаетего Ильич.И где ни появляется Учитель со своею кодлой«единопослушных» бесов, тут же возникают раздоры,скандалы, расколы, что вызывает у них такое же удовлетворенноепотирание ручек, такое же удовольствие,какое испытывали гоголевские черти, столкнув лбамичестных людей, заведя их в заколдованное место, заплевавочи помоями. Людские горести и несчастьяприводят Ленина со товарищи в самое лучшее расположениедуха:«Шли январским вечером с Надей — навстречу Луначарские,радостные, сияющие: 'Вчера, девятого, в Петербурге стрелялив толпу! Много убитых! 4 Как забыть его, ликующий вечер русскойэмиграции!!»В приведенном отрывке легко улавливается уличныйанекдот о Ленине, один из бесчисленных осколковразбитой государственной статуи. Ими богато инкрустировантекст книги. И тем, кто нарек ее «реакцион-320
ным пасквилем»*, не худо бы взять в толк, что этоопределение относится прежде всего к народному представлениюоб их идоле, к коллективному антимифу онем....Австрийская территория. По перрону затеряннойжелезнодорожной станции, расположенной неподалекуот русской границы, лихорадочно ходит Ленин,спрашивая себя, успеет или нет. Успеет или нет сестьна поезд, пока сюда не нагрянула толпа, толпа «галицийскихмужиков, тупых, как все мужики в мире — вЕвропе ли, в Азии, в Алексеевке», и не растерзала егокак русского шпиона. С таким же трепетом прислушивалиськогда-то ведьмы и колдуны к ропоту подокнами, в тоскливом и беспомощном ожидании толпы,которая вот-вот ворвется в дом и потащит их,врагов рода человеческого, на костер.Заклинатель революционных масс, вождь мировогопролетариата, всю жизнь призывавший к топору инасилию, сам теперь ждет своей очереди. «Да мало лизнает история вспышек простонародной безобразнойярости!», — комически теоретизирует он, с надеждойпосматривая на стоящего поодаль жандарма австровенгерскойимперии.На сей раз Ленину удалось избежать расправы. Нопредчувствие не обмануло его. Пройдет полвека, инетленная мумия идеологического вампира будет извлеченаиз хрустальной гробницы на Красной Площадии взметена на костер Солженицына.* В. Фай. «La Quinzaine Littéraire», 16 декабря 1975.321
Памяти ушедшихВладимир МаксимовМОЙ ДРУГ ПЕТР РАВИЧIОн почти никогда не говорил о себе. О чем угодно:о книгах, о поездках, о женщинах, о друзьях иснова о женщинах, но реже всего — о себе. Поэтомумне пришлось собирать его цельный облик годами:по фактам, по черточке, по случайным проговоркам исторонним свидетельствам. Людям, близко знавшимсяс ним, трудно было представить, чем закончит онсвой скитальческий век на земле, хотя многим частоприходилось слышать от него мысль о самоубийстве.Но большинству казалось, что слишком часто, чтобысделаться былью.Помнится, я встретился с ним в день своей первойпресс-конференции в Париже. В обычной в таких случаяхсуетливой мельтешне, когда меня лихорадочнонесло сквозь хлопушки фотовспышек, встречные улыбкии многоречивый говор, передо мной вдруг возниклоострое, но в то же время удивительно располагающее,с чуть насмешливыми, навыкате глазами лицо иопределился странно молодивший это лицо, почтиюношеский голос:— Я — Петр Равич, мне много приходилось говоритьи писать о вас, в частности, в «Монде». — Застенчивоулыбнулся, предложил: — Может быть, посидимгде-нибудь в кафе?322
Затем мы сидели с ним в ближайшем кафе, мимонас плыл, шелестел, растекался мартовский город.Мой визави потягивал красное вино, насмешливо, новсе так же дружелюбно посматривал куда-то сквозьменя, изливался, будто вызывал невидимых духов:— Если бы ты знал, — на «ты» мы перешли послепервой же рюмки, и это тоже была одна из его особенностей:он сходился с людьми сразу и навсегда, арасставаясь, никогда не сожалел об этом, — как мучительнонаблюдать за собственной старостью, такоевпечатление, словно бы разлагаюсь заживо, стариков,которые не в состоянии сами прекратить свою агонию,следовало бы, по-моему, приговаривать к смерти,а то мы только занимаем чужое место. — И сразу жебез перехода: — Если ты думаешь обосноваться в Париже,тебе необходимо познакомиться с моей женойАнной. При всех обстоятельствах, это тебе не повредит.Давай, я теперь же и позвоню ей, сколько сейчас?Сверяя время, он вскинул руку и с ее запястья вглаза мне, расплавленной вязью брызнул, уже сильнопотраченный временем лагерный номер: оставь надеждувсяк сюда входящий! Труд освобождает!И это было первое, что я узнал о нем без него,но в наше смутное время — лагерь! — достаточнонадежная точка отсчета для человеческой личности.Во всяком случае, для такой, как Петр Равич.IIИтак — Освенцим. Но что было до этого, до лагерныхбараков, ежечасного ожидания смерти, дистрофии,.счастливого освобождения и затем — «праздника,который всегда с тобой»?— Знаешь, — как-то походя рассказывал он мне,— у меня был дядя, человек болезненно отзывчивойдуши, этакий еврейский Мышкин. В ранней молодо-323
сти, пользуясь его беззащитностью, ему сосваталисамую богатую, но самую некрасивую девушку в нашемместечке. Когда он впервые увидел свою невесту,ему сделалось не по себе. Тогда он все же решил отказатьсяот выгодной партии, считая себя не вправеобманывать чувство будущей жены, а решив, отправилсяк ее родителям, чтобы объясниться с ними начистоту.Но те приняли его с таким радушием, с такойсердечностью, что он так и не посмел сказать им правду,лишь бы их не обидеть. Он женился и прожил сосвоей женой всю жизнь. Жизнь эта, как ты понимаешь,была не сахар, но дядя с достоинством нес свое бремя.Возвращаясь домой, дядя обычно ложился на диванлицом к стене и читал газету, а уходя, забывал о своемсупружестве, как о страшном сне. Если же какойнибудьшутник пытался напомнить ему о его несчастье,он в таких случаях спокойно пожима плечами: «Когданибудьведь это кончится!» Он был философ — мойдядя!Или в другой раз:— У тебя новый энский издатель X.? Говоришь,замечательный человек? Не знаю, не знаю. Можетбыть. Спроси-ка лучше у Анны, она была с ним в однойпарторганизации во Львове. В свое время онпопортил ей немало крови. И не только ей. Разумеется,в эмиграции люди меняются, тем более, что доэтого ему еще пришлось отведать и тюремной пайки,но у Анны на людей нюх почти безошибочный. О X.она говорит, как о горбатом, которого исправит толькомогила. Впрочем, я не настаиваю...Анна была для него мерилом всех ценностей. Ейон нес все: свои и чужие рукописи, беды и злоключения,сокровенные тайны и литературные открытия. Кней приводил новых знакомых, так сказать, на смотрины.Ее суд всегда оставался в его глазах решениемвысшей инстанции, дальнейшему обсуждению не подлежащим.324
— Мы с Анной одно целое, — не раз повторял онмне, — наверное, это банально, но это так, Володя.Без нее все для меня потеряло бы всякий смысл. Состороны, конечно, трудно понять, как это такие физическидалекие друг от друга люди могут быть так душевноблизки? Слишком многое у нас позади с ней,Володя, слишком многое. Такое не расторгается. Всвое время она ради меня бросила все. Сначала семью,потом — партию, а с партией и карьеру, которую ейтам сулили. Когда Путрамент был послом в Париже,он приглашал ее заведовать культурным отделом.Впрочем, это не самое главное, что нас связывает...И отвечая на мое молчаливое недоумение, пояснял:— Тебе, конечно, непонятно, зачем вообще она сэтой шайкой связывалась? На первый взгляд, действительноможет показаться непостижимым, как это девушкаиз зажиточной еврейской семьи вдруг становитсяпартийным функционером? Но что нам всем былос той зажиточности, Володя, если в то время вПольше нас не считали за людей. Мы были в страненизшей расой, раз и навсегда выброшенной из ее активнойжизни. Нам милостиво оставили единственнуюобласть для общественного самоутверждения —торговлю, связанную с мелким ремеслом. И поэтому,когда однажды нам пообещали золотые горы равенствас кисельными берегами братства, мы бросилисьза этими обещалками, сломя голову. Четвертый разделПольши показался нам и вправду долгожданнымосвобождением. Я знаю, что ты можешь пойматьменя на слове, но все, о чем ты мне можешь сейчаснапомнить, было потом, а в те годы мы жили не фактами,но надеждой. Для того, чтобы это понять, Володя,надо хотя бы однажды побыть в нашей шкуре— в шкуре евреев...И я представил себе захолустное еврейское местечков Восточной Польше и хрупкого мальчика с вечной325
присказкой из Шолом-Алейхема на чувственных губах:«О, если бы я был королем, я ел бы каждый день белыйхлеб с арбузом!».IIIГоворят, в своей парижской молодости, едва изучивфранцузский язык, он написал прекрасный роман,о котором в ту пору было много шума. Не читаю нина каком языке, кроме русского, и мне трудно об этомсудить; но зато мне хорошо известна судьба его второйвещи, написанной им по горячим следам майскихсобытий шестьдесят восьмого года: «С похмелья», сподзаголовком «Записки контрреволюционера». Спустягоды мы опубликовали эту вещь в «Континенте».Хирургическая беспощадность этого замечательногоэссе тем более уникальна, что в интеллектуальнойатмосфере тех лет она неминуемо влекла за собойстоль же беспощадную реакцию со стороны так называемогоЛевого берега — законодателя всех политическихи эстетических мод во Франции и не только вней одной. Необходимо было обладать подлиннымдуховным мужеством, чтобы позволить себе сказатьто, что тогда позволил себе сказать в своей книге ПетрРавич.Автор не возмущался и не разоблачал. Автор беззлобно,скорее даже сочувственно иронизировал, но она—эта ирония гораздо эффективнее любого сарказма илиобличительного пафоса обнажала разрушительную,но убогую по своему историческому содержанию сущностьтолько что отгремевшего события. Именно этойснисходительной иронии ему и не простили. Его нестали травить, для травли он был слишком неблагодарнымобъектом: в присущем ему неискоренимомскептицизме захлебнулась бы всякая лобовая атака. Сним рассчитались проще, но мстительнее — его за-326
молчали. И, как это ни странно на первый взгляд, такойнехитрый прием надломил в нем что-то душевноочень существенное, после чего он как бы махнул насебя рукой.(Теперь я по своему собственному горькому опытузнаю, как это делается, но во мне, к счастью, в отличиеот него, невзгоды только укрепляют сопротивляемость,но — увы! — мы с ним были скроены изслишком разного материала и слишком разной оказаласьнаша жизненная школа.)Он еще что-то писал, печатался, выступал, нодух творчества, который только один и может сохранитьв пишущем человеке надежду, уже отлетел отнего, оставив ему лишь инерцию первоначального запала.Он плыл по течению, слепо держась за единственныйоставшийся ему в жизни ориентир — женуАнну.К этому времени она отошла от активного профессиональногодела в кинематографии (только послеее смерти я узнал действительную причину этого), ивместе они занялись собою и окружавшими их людьми,как бы предуготавливая себя к последним расчетамсо своей земной плотью. В них заново, сквозьнеукорененное французское наслоение вдруг проросжадный интерес ко всему славянскому, словно горькоеместечковое прошлое отсюда, из парижского далека,прощально поманило их к себе, властно напоминаяим о доме, о роде, о вере. Оглянись на домсвой, ангел!В последние годы я не помню эмигрантского собранияили посиделок, где бы их не было и, как правило,вместе. Жизнь славянской, а в особенности русскойи польской эмиграции сделалась отныне неотъемлемойчастью их жизни и, разумеется, незаметно втянулаих в свою мелочную суету, болезненные страстии амбициозное соревнование «кто первый?» Но и вэтой, далеко не такой простой, как может поначалу327
показаться, ситуации каждый из них ухитрился остатьсясамим собой, не поддавшись соблазну разменятьсвою душу живу на медные пятаки соучастия враспахнувшейся перед ними ярмарке эмигрантскоготщеславия. Их роль в ней, как, впрочем, и во многомдругом, раз и навсегда ограничилась кругом посильнойпомощи всем тем, кто в ней нуждался. Сколько скитальческихсудеб устроено, сколько литературныхимен открыто и не для одного лишь эмигрантскогочитателя, сколько мятущихся душ успокоено, благодаряпоследовательной, хотя и крайне ненавязчивойподдержке этой гармонически взаимодополняющейпары!В отличие от нее, у него практически не быловрагов, ибо не было у него ее страсти и ее пристрастий.Он сгорал внутри себя медленно, мучительно,сокровенно, как спекшийся по верху, остывающий кокс.Людей, которых он почему-то перестал уважать, онпросто вычеркивал для себя из списка живых и болеене вспоминал о них. Самое большее, на что его хваталопо отношению к ним — это снисходительнаяусмешка при одном упоминании их имени: была безгоречи любовь!И лишь теперь, после их кончины разъяснилось,что все поиски и поступки их последних лет были совсемне случайны, а продуманно цельны и осмысленны.Она готовилась к смерти почти четыре года, сразуже с того дня, когда узнала от своего друга — врача,что приговорена. Готовилась сама и готовила его кбудущему одиночеству. Приводила в порядок имущественныедела, довольно многообразное хозяйство,бумаги. При этом вела себя так, во всяком случае налюдях, будто собиралась жить еще по крайней мерелет сорок: строила планы, повсюду предлагала всеновые и новые проекты, моталась по миру в поискахинтересных дел и перспективных компаньонов. И всеради того, чтобы в посмертном завещании твердой328
рукой начертать: «Все мое имущество Иерусалимскомууниверситету на изучение проблем еврейства в Россиии Восточной Европе».Она преуспела во всем, кроме одного, она не сумелапримирить его с мыслью об одиночестве. Одиночества-тоон и не вынес.— Анна оказалась счастливее меня, — сказал онмне в нашу последнюю встречу, — ей не пришлосьувидеть меня умирающим.И вся мера его опустошенности сказалась в этихкоротких словах.IVЧаще всего он говорил о смерти. Он говорил оней так часто и так просто, что я в конце концов сталбездумно отмахиваться от этих его разговоров, считаяих обычной данью интеллектуальному кокетству.К сожалению, людям свойственно бездумно проходитьмимо главного в самых, казалось бы, близкихим существах. Да и вслушайся я в его душевную бездну,мне едва ли удалось бы предотвратить уготованныйему роковой конец. Облегчить, может быть. Нопредотвратить — никогда. Он приговорил себя сам и впомиловании не нуждался.Но всё же, если бы не мальчик Мотл, а я когданибудьстал королем, то я бы тоже каждый день елбелый хлеб с арбузом, но только на двоих с тобой,Петя, Петр Равич, только на двоих с тобой!329
Сергей ГригорьянцСЛОВО О ВАРЛАМЕ ШАЛАМОВЕНо вдруг, умывшись на заре,Водою ключевою...Мы еще не в состоянии понять истинное значениетворчества и судьбы Варлама Тихоновича Шаламова,как неспособны осознать смысл и последствия трагическогопериода русской истории, внутри которого находимся.Шаламов неотделим от России, как Волга, какУральский хребет, для него не было выбора: уезжатьили оставаться — ему, как Божье испытание Иову,дана была судьба всей России, и он повторил ее в своей— человеческой судьбе. Вместе с тем — Шаламоввсемирен, всечеловечен, ибо его свидетельство не умещаетсяв рамки национальной литературы или истории,свидетельство, в существовании которого мы ужечетверть века боимся себе признаться, ставит вопросо возможности дальнейшего существования всего человечества,о праве человечества на существование.Солженицын не верит в способность европейскойцивилизации выжить, Шаламов не видит оправданиячеловеческой природе.«Мертвый дом» Достоевского — не более, чемдетский сад в сравнении со столь близким нам домом,вызвал у Шаламова и отношение к надежде Достоевского(«красотой спасется мир») —- как к детскомулепету. В своем «Желании I» Шаламов ответил:330Я хотел бы так немного!Я хотел бы быть обрубком,
Человеческим обрубком.Отмороженные руки,Отмороженные ноги...Жить бы стало очень смелоУкороченное тело.Я б собрал слюну во рту,Я бы плюнул в красоту —В омерзительную рожу,На ее подобие БожьеНе молился б человек,Помнящий лицо калек...В молодости — университетской, позднелефовской— он еще успел вдохнуть воздух творимого искусства— в разломах и свободе не знающего своегопути XX века. Не по возрасту рано и очень определенно— с так называемой троцкистской молодежью —Шаламов узнал, что ни ему, ни России дышать этимвоздухом не суждено.Мы вышли в наш тягостный путьВ покорном угрюмом молчаньи...Не все уроки в то время были еще смертными,для Шаламова они стали — спасительны. Через нескольколет:— Не боясь я иду в темноту, —уже с миллионами других вернувшись на каторгу, он— благодаря этим урокам — не погиб в первую жезиму, как Мандельштам, как Святополк-Мирский.Впрочем, кто знает, сколько сотен раз Шаламов счелмилосердным и счастливым быстрое, по его понятиям,убийство Мандельштама. Впереди у Шаламовабыло еще двадцать лет гибели. «Среди беспамятногольда» он увидел и испытал то, что не довелось пере-331
жить ни одному на земле поэту. Он не покончил с собой,не бросился под автоматы в запретку, не усталдумать «о всемогуществе могил», чтобы свидетельствоватьо том, что не должен ни пережить, ни увидетьни один человек в природе:Потухнут свечи восковыеВ еще не сломанных церквах,Когда я в них войду впервыеСо смертной пеной на губах...Там, где вся Россия в сотнях каторжных песентворила величайший многоголосый реквием самойсебе, небывалую в мировой истории сагу своих страданийи гибели, там Варлам Шаламов в своей угловатой,судорожно рыдающей прозе нашел новый жанрповествования (нет завязок и кульминаций среди тысячеликойсмерти), чтобы сохранить лики и души погибших,их место казни и последние шаги, а в стихах велнескончаемый спор с Богом о смысле и праве такогомира на земле.Тот мамонт выл, дрожа всем телом,В ловушке для богатырей,Под визг и свист осатанелыйПолулюдей, полузверей.И побиваемый камнямиИ не мудрец и не пророк,А просто мамонт в смертной яме,Трубящий в свой Роландов рог.Он звал природу на подмогу,И сохло русло у реки,И через горные отрогиПеремещались родники.332
Стихи Шаламова уже жили: синяя его тетрадь,тайно вывезенная с Колымы врачом, уже была переданаПастернаку и стала предметом его гордости зарусскую поэзию, а Шалимов все еще шел, как первопроходецчерез свою судьбу — с упорством и без надежды.«У жизни на краю» не было уже ни сил, ни гордости,но оставался последний отблеск человеческогодостоинства и высокого предназначения.Может быть тому порукойБыл огарок восковой,Осветивший столько муки,Столько боли вековой, —написал Шаламов не столько о Пастернаке, сколько осебе.Но и второй «урок» кончился для Шаламова. Совсей Россией ему померещилось, что жить опять, кажется,можно. Оказалось, что можно пока не умирать.Прозы — огненного свидетельства, сравнимого потрагическому пафосу лишь с «Житием» протопопаАввакума —...Тетрадь тряслась от плачаВ любых натруженных руках,—печатать не хотел никто («какие-то очерки...» — считалосьв либерально-литературных кругах), стихи печаталисьв отрывках, с разрушенными циклами, чтобыраздробить, придушить, заглушить насколько возможно,рвавшийся из них к Богу и людям предсмертныйхрип русской души и русской культуры. И дажев еще шедший в эти годыНаш спор о свободе,О праве дышать,333
О воле ГосподнейВязать и решать...его — главного свидетеля — пускать не хотели и боялись.В литературных кухнях-салонах к Шаламовуотносились с заметной и насмешливой снисходительностью(а потом и злорадством: «мы еще тогда этоговорили»), а он жаждал какого-то действия, или,вернее, действенной жизни литератора-профессионала:переводил, писал об уголовном мире, создавал наставлениядля наминающих поэтов, разбирал раннеетворчество Репина, — и все это никому не было нужно.Кое-что, правда, издавалось, но проходило, какправило, незамеченным. Известность Шаламова былатакова, что когда году в 70-м появилась наконец перваякнижка его прозы (разумеется, по-немецки, а непо-русски), и фамилия и имя автора были перевраны.Но песня петь не пересталаПро чью-то боль, про чью-то честь,У ней и мужества досталоМученье славе предпочесть.Не только стихи и прозу его понимать было —страшно, но и с ним самим было — трудно. Шаламоввсегда оставался строг, не прощал даже близким: одному— вынужденных компромиссов, другому — смесикрови с розовой водицей, третьему — заемногословаря. Но каким же беспощадным судом судил онв одиночестве (никого рядом не было) самого себя,если смог написать:Всего я касался лишь краемИ стал чересчур обтекаем.Это о себе, почти голодающем, но полтора десятилетияне вступавшем в Союз писателей; о себе, не334
написавшем ни строки не только «датской» (к датам),но и просто проходной; о себе — отказавшемся отпомощи полуприличного литературного бонзы, приславшегок Шаламову (по генетически-непроизвольномухамству) за прозой и стихами своего секретаря. Иесли он, изнемогая в одиночестве, и делал хоть что-то,чтобы уцелеть, то лишь потому, что видел себя всееще полным сосудом не переданного людям бесценногоопыта.Внезапная, но весьма закономерная смерть Шаламова(вскоре после опубликования его последних стиховв «Вестнике студенческого русского Христианскогодвижения») — это не только огромная, поистиненевосполнимая потеря для нас, для русской и мировойкультуры, для нравственного бытия всего человечества.В ней чудится и зловещее пророчество.Жизнь Шаламова, как мы говорили, повторяласудьбу всей России. В последние месяцы ему уже былоуготовано место в психушке, куда его перевели, понашему обыкновению, тайно и, очевидно, против еговоли, — его, поэта, создавшего незадолго до этогоцикл замечательных стихов.Шаламов не уставал предупреждать:Она еще жива, Расея,Опаснейшая из Горгон.Заржавленным щитом ПерсеяНе этот облик отражён...Но дом Горгон находит МузаИ — безоружная — войдет,И поглядит в глаза Медузе,Окаменеет — и умрёт.Иногда кажется, что, если бы Достоевский неумер, Александр Второй не был бы убит и эпоха русскогоидеализма, веры в Народ-Богоносец и во всемирноепровиденциальное значение России не закон-335
чилась бы так трагично. Так и судьба Шаламова, таинственная,загадочная, какой только и может бытьистинная судьба, судьба, поставившая перед человечествомвопрос о смысле его бытия среди немой, ночистой природы, эта судьба оборвалась, когда, кажется,и для других жизней человеческих места ужене остается. Впрочем, сам Шаламов не был настроенстоль безнадежно: себе и своим читателям он предрекжизнь славную и бесконечную. Он сказал:Тебе обещаю,Далекая Русь,Врагам не прощая,Я с неба вернусь.Пускай я осмеянИ предан костру,Пусть прах мой развеянНа горном ветру.Нет участи слаще,Желанней конца,Чем пепел, стучащийВ людские сердца.19-20 января 1982 года336
Литературный архивМихаил ВолинРУССКИЕ ПОЭТЫ В КИТАЕКто бывал в Харбине, знает небольшой скверикна углу Мостовой и Сквозной улиц, занесенный снегомзимой, с чахлым и пыльным газоном летом. В началетридцатых годов, поеживаясь от утренней прохлады,я пробегал этот скверик, торопясь в редакцию газеты«Заря», где я тогда работал. И вот из кустов навстречумне поднялась странная фигура — приземистая,плотная, в смятой шляпе, в черном, видавшем лучшиедни пальто, с приставшими травинками и сором. Лицоу фигуры было помятое, заспанное, с проросшей заночь светлой щетиной, какого-то фиолетового оттенка.Я не сразу узнал поэта Арсения Несмелова. В пивномбаре «Момент», который находился в этом жесквере и славился водками шестью сортов, обжигаясьгорячим кофе, он поведал мне, как накануне, выпивлишнее в этом баре, он вышел посидеть в садик и заснулна траве. Утром китайчата ворошили его хворостиной,стараясь выудить бумажник. Проснувшись, онувидал бледный городской рассвет, пыльные цветы,одуванчики, примятые телом. Еще не вставая с травы,он написал восьмистишье:Пыльны цветы на кустах акаций,Смят одуванчик под теркой ног.Твой дьяволенок посажен на цепь,Вырасти в дьявола он не смог...337
Будешь светить ты неярким светом,Где-то воруя голубизну,И завершишь небольшим поэтомЗакономерную кривизну.Несмелов не завершил «закономерную кривизну»небольшим поэтом. Он вырос в оригинального творца,наиболее крупного поэта гражданской войны с«белого берега»... Но об этом позднее. Мне хочетсясперва рассказать о группе дальневосточных поэтоввообще и о ее судьбе, тесно связанной с судьбой городаХарбина — последнего оплота Российской Империина чужой земле. Возникшая в двадцатые годы, этагруппа просуществовала до окончания второй мировойвойны, когда советские полчища, разгромившие японцевв так называемой «молниеносной война», оккупировалиХарбин, вывезя на «родину» тех, кто к томувремени был еще жив...Эта дальневосточная группа всегда была «пасынком»эмигрантского литературного рассеянья. Парижане,во главе с тогдашними вершителями литературныхсудеб — Ходасевичем и Адамовичем, — снобировали«китайцев», тогда как другие литературныецентры — берлинский, варшавский или белградский —почти ничего о ней не знали. Оторванная от Европы,предоставленная самой себе, эта группа окрепла, вырослаи приобрела свое определенное лицо.Во многом творчество этой группы было некойантитезой «парижской ноте». Творчество ее было жизненнейи эмоционально здоровей, если и уступало парижанамв изысканности. Эта группа дала зарубежнойпоэзии двух крупных поэтов — Арсения Несмеловаи Валерия Перелешина, которые останутся в русскойлитературе. Творчество других членов этой группытоже небезынтересно для будущего составителямонографии поэзии эмигрантского рассеянья.338
Недавно я особенно ясно осознал, что последнийзанавес скоро опустится над этой группой. Все старшеепоколенье уже в лучшем мире, а молодежь двадцатыхи тридцатых годов превратилась в седовласыхстарцев, и ряды ее заметно редеют. В свободном миреиз этой группы осталось только трое — широко разбросанныепо всему свету: Валерий Перелешин — вБразилии, Лариса Андерсен — во Франции и пишущийэти строки — в Америке. Для будущего историкаэмиграции каждое свидетельство будет очень важным,ибо живую связь с прошлым так легко потерять...Группа «дальневосточников» при своем основаниинасчитывала примерно 25 человек. Из них АрсенийНесмелов, Всеволод Иванов, Василий Логинов и АлексейАчаир принадлежали к поколению, писавшему ещев России до революции, остальные была молодежь нестарше 25 лет, начавшая писать уже в Китае. Основателемгруппы был поэт Алексей Ачаир, из семьисибирских казаков Грызовых, а его псевдоним «Ачаир»был именем казачьей станицы, где он родился ивырос. Внешность его никак не вязалась с его происхождением.Тонкий в кости, изящный, с золотой шапкойвьющихся волос, хороший пианист, он скорее походилна рафинированного эстета петербургских гостиных,чем на сибирского казака. Был он секретаремнедавно открывшегося в Харбине Христианского СоюзаМолодых Людей, филиала одноименной американскойорганизации, и группа поэтов обосновалась там.Харбин в те годы был спокойным и счастливымгородом. Там было три университета, полдюжинысредних школ, три русских газеты, два кафедральныхсобора и несколько церквей.. Маньчжурия в те годы была диким и первобытнымкраем. Многие китайцы носили еще длинные косы,а китаянки ковыляли на ногах, изуродованныхпеленаньем. Китайский суд, если и не всегда справедливый,часто был очень скорым. Бандитов, пойман-339
ных на месте преступленья, казнили тут же, и их отрубленныеголовы подвешивались к телеграфнымстолбам. Но, в общем, Харбин жил как чисто русскийгород. Русские оказались прекрасными колонизаторами.Китайские лавочники стали Иванами Ивановичамиили Васильями Васильевичами, научились говоритьпо-русски. Пышно справлялись Рождество и Пасха,двунадесятые праздники, именины. На Радоницувесь город бывал на двух кладбищах — Старом иНовом, а поминки справлялись прямо на могилах,которые превращались в хорошо накрытые столы.Удар по этому буколическому уюту был нанесенв 1931 году японской окупацией. Генералитет и советникиКвантунской армии избрали своей штаб-квартиройХарбин и сразу повели сложную и страшную политику.Маньчжурия была переименована в государствоМаньчжоу-Го, и главой ее сделался японский ставленникимператор Пу-И. Портреты его высочества, молодогочеловека в круглых роговых очках, появилисьв каждом присутственном месте. Портрет был задернутзанавесочками, и каждое утро происходилацеремония поклонения императору. Занавесочки раздвигались,и все в полном молчанье должны быликланяться, после чего занавески снова задергивались.Нельзя же даже изображенье императора утомлятьвсякими обиходными делами...Японцам нужна была Маньчжурия с ее природнымибогатствами, но планы их были много сложнее ишире. Они мечтали о Сибири, особенно о ее восточнойчасти, и называли Владивосток «пистолетом, приставленнымк японскому сердцу». Русская эмиграция, особенномолодежь, были для Японии очень важным фактором.Играя на русском патриотизме и ненависти ккоммунизму, японцы создали Бюро по делам русскихэмигрантов, вокруг которого вскоре развилась сетьвсевозможных организаций, полувоенных ячеек, спортивныхклубов и т. д. В ряды истинных патриотов340
затесывались и провокаторы. Отряды русских мальчиковпосылались диверсантами в СССР, часто на вернуюгибель. Поощряемая японцами, возникла РусскаяФашистская Партия. Работала пропаганда и шпионскиеорганизации. Хозяйничала в стране жандармериясо своим русским отделом, возглавляемым «большимдругом русских» Николаем Ивановичем Накамура —маньчжурским штабс-капитаном Рыбниковым...Наиболее страшным аспектом этих маньчжурскосибирскихфантазий японцев было их желание сломитьдух сопротивленья, который всегда подспудно присутствовалкак у китайцев, так и у русских. С чисто азиатскойжестокостью японцы легализовали или полулегализоваливсевозможные наркотики. Шепотомпередавались слухи, что четыре фабрики героина работаликруглые сутки невдалеке от Дайрена, понюшкакокаина стоила 20 копеек (!), а опиекурильни открытоторговали почти на каждом углу города. В довершеньеко всему этому появились таинственные шайки похитителейлюдей, на которые полиция смотрела сквозьпальцы...Все это стало зловещим фоном, некими трагическимикулисами когда-то уютно-тихого Харбина, гдевнешне жизнь проходила по-прежнему и продолжаласуществовать группа русских поэтов, известная тогдакак «Молодая Чураевка». Название это, не совсемпонятное для многих, было предложено поэтом АлексеемАчаиром в честь русской деревни Чураевка, созданнойписателем Гребенщиковым в Америке.Собранья этой группы происходили еженедельно вгостеприимном зале XCMJI и были исключительнопопулярны. Наряду с молодежью там выступали ипредставители старшего поколенья. Появлялся писательи поэт Всеволод Иванов, такой огромный и грузный,что при виде его китайские рикши разбегались встороны, боясь, что он раздавит их коляску. Обладательвеликолепного «барственного» голоса, он был341
редким мастером художественной читки. Читал онсвои стихи — отличные сонеты — и прозу — умные,хорошо слаженные исторические рассказы. Потряхиваязолотистой гривой, мелодекламировал АлексейАчаир. Выступал писатель и поэт Василий Логинов,самый старший из этой группы, уже пятьдесят леттому назад казавшийся Мафусаилом. Выступал АрсенийНесмелое, на открытых вечерах всегда подтянутый,с военной выправкой. Читал он гнусаво, монотонно,но все слушали его, затаив дыханье...После «старших» выступали молодые. НиколайЩеголев, сменивший карьеру пианиста на литературу,читал свои холодноватые, технически интересныестихи; робея и заикаясь, декламировал Сергей Сергии;выступал совсем юный, с пухлым детским лицом,Георгий Гранин, который всегда стремился поразитьаудиторию чем-нибудь необычным; выступала красавицаЛариса Андерсен.Пользовались успехом лирические поэты МихаилВолин, Владимир Слободчиков и поэтесса ЛидияХаиндрава.Однако этой группе в ее полном составе не удалосьпросуществовать долго. В 1933 году двое из еенаиболее активных членов покончили жизнь самоубийством.В маленьком китайском отеле застрелились19-летний Георгий Гранин и 24-летний СергейСергин. Тайна их смерти полностью никогда не быларазгадана, но после этого двойного самоубийства«Молодая Чураевка» никогда не оправилась. В ихсмерти не последнюю роль сыграла трагическая поэзияпарижан — особенно Владимира Смоленского,Бориса Поплавского и Георгия Иванова. Будущемуисторику русской литературы в рассеяньи будет небезынтересноузнать, что поэт Гранин в своей предсмертнойзаписке просил, чтобы на его могильномкресте, помимо его имени, даты рожденья и смерти,342
было бы написано восьмистишье из стихотворенияГеоргия Иванова:Синеватое облако,Холодок у виска,Синеватое облакоИ еще облака...И старинная яблоня(Может быть, подождать?),Простодушная яблоняРасцветает опять...К середине тридцатых годов дальневосточнаягруппа начала распадаться. Черные тучи сгущались всеболее и более над Харбином, который из тихого провинциальногогорода постепенно превращался в центрмеждународных интриг. Наркомания сыграла страшнуюроль в жизни не только китайского населения,но и русской колонии. Сотни, если не тысячи молодыхлюдей погибли, став героинистами. Вначале героинкурился в сигаретах — потом его начали вспрыскивать.Страшная, типично восточная деталь этой операциибыла в том, что вспрыскивание совершалось изэкономии бамбуковой иглой, которую нельзя былостерилизовать, и многие жертвы погибали от зараженьякрови. Наркоманов обычно не пускали в притоны.Отворялось небольшое окошечко в двери, кудаплатились деньги, и затем туда просовывалась рука сзаранее закатанным рукавом. Пожилая кореянка (японцысами не держали притонов), просчитав деньги, делаласвое дело, а наготове был уже другой посетитель...Все, кто мог, старались уехать в «свободный»Китай, главным образом в Шанхай, где уже давносуществовала значительная русская колония. К началувторой мировой войны группа уже распалась как организованныйкружок. В 1945 г. она перестала существовать.343
Интересно проследить судьбы ее участников. Единственный,кто сделал известную карьеру в России,был Всеволод Иванов, написавший несколько романово сибирских землепроходцах. Умер ли он своей смертьюили нет — мне неизвестно. Алексей Ачаир был арестовани погиб. В. Логинов умер. Арсений Несмеловбыл вывезен «на родину», и судьба его мне неизвестна.Хаиндрава, Слободчиков, Померанцев (однофамилецпарижского Померанцева), Щегол ев — уехали в СССРуже из Шанхая по своей воле. Все давно замолчали,за исключением Лидии Хаиндрава, издавшей на Кавказетоненький сборник стихов. В заключенье мне хочетсяпривести выборки стихов членов этой группы ипредоставить читателю судить самому о качестве ихстихотворного мастерства. Я сделаю исключение дляпоэта Арсения Несмелова, уделив ему больше места,представив его более подробно.* **Арсений Иванович Несмелов (настоящая фамилияМитропольский) родился в 1890 году. Окончил ВторойМосковский кадетский корпус и прошел первуюмировую войну офицером Фанагорийского полка. Воевалв гражданскую войну и лишь в 1922 году, проделавЛедяной Поход, попал в Маньчжурию с частямигенерала Каппеля. В Харбине много лет работал врусской газете «Рупор», сотрудничал в журнале «Рубеж»,«Луч Азии» и других периодических изданиях.Выпустил четыре сборника стихов, отдельным изданиемдве поэмы: «Через Океан» и «Протопопица» —и сборник рассказов о войне. Все эти книги давно сталибиблиографической редкостью. Многие из его стиховне вошли ни в один из его сборников и рассеяны подальневосточным журналам. Некоторые из его стиховя цитирую по памяти.344
Еще шестьдесят лет тому назад Арсений Несмелоеписал стихи, как бы предвосхищая лучших поэтовзарубежья сегодня. По характеру своего творчества онблизок к Ивану Елагину, а по лиризму перекликаетсяс Димитрием Кленовским. Хотя я начал рассказ о Несмелове с анекдотической встречи, пьяницей он никогдане был. Но он остро чувствовал свое духовноеодиночество в провинциальном Харбине и иногда«срывался».Вот два стихотворения, говорящие об этой внутреннейтрагедии:Уезжающий в Африку илиУлетающий на ЦелебесПозабудут беззлобно бессильеОставляемых бледных небес.Я же не путешественник-янки,Нахлобучивший пробковый шлем, —На китайском моем полустанкеДаже ветер бессилен и нем!Ни руля, ни крыла, ни кабины,Ни солдатского даже коня,И в простор лучезарно-глубинныйТолько мужество взносит меня.Во втором стихотворении тема личного одиночества:Печью истопленной воздух согрет,Дым от бесчисленных сигарет.Лампа настольная, свет ее рыж,Рукопись чья-то, с пометкой «Париж».Лечь бы, чтоб рядом кругло, горячоЖенское белое грело плечо,345
Чтобы отрада живого теплаВ эти ладони остывшие шла!Связанный с тысячью дальних сердец,Да почему ж я один наконец?Участь избранника? Участь глупца?Утро в окне как лицо мертвеца...Несмелов, как Гумилев и Денис Давыдов, былпрофессиональным воином. Восемь лет войны наложилиглубокий след на его творчество, но писал онскорее о страшных буднях войны, чем о ее пафосе.Вот строки из «Поэмы о револьверах»:Труп лежал с открытыми глазами,А наутро, рано поутру,Подошел солдат, лицо как камень,И присел, обшаривая труп.В сумерках рассвета мутно-серыхЛязгнет, думалось, и станет жрать...Впрочем, мой рассказ о револьверах,Так о них и надо продолжать...А вот другая мастерская зарисовка:Тяжко сопя, лобастый,Из лесу вышел лось.А над полями частыйДождик, повисший вкось.Смотрит дикарь рогатый,Пену роняя с губ,А у ручья солдатаОкостеневший труп.346
Понял, в испуге кинулВетви рогов к спине.К лесу скачками ринул,К черной его стене.И, в замиравшем хрусте,Слышен был тяжкий лось...Веял последней грустьюДождик, повисший вкось.Первый сборник Несмелова был издан в 1921 годуво Владивостоке, когда город был еще в руках белыхармий. Уже в этом сборнике становится очевиднымего талант, мастерство и собственный почерк. В большинствестихи страшные. Это кровавая изнанка гражданскойвойны с ее жестокостью и динамизмом обреченности.Вот короткое стихотворенье «Враги»:На висок начесанный вихор,На затылок сдвинутая кепка,Под плевок и выдохнув «хо-хо»Фразу он собьет площадно, крепко.У него глаза как буравцы,Спрятавшись под череп низколобый,В их бесцвет, в белесовость овцы,Вкрапла искрь тупой хоречьей злобы.Поднимаю медленно наган,Стиснув глаз, обогащаю опыт:Как умрет восставший хулиган,Вздыбивший причесанность Европы?Но, как голубые оконца среди черных туч, попадаютсястихи какой-то особенной чистоты, пронизанныедуховным сияньем:347
Над дверью сосульки леденчик,Дорога бела и пуста,И солнце, надевшее венчик,Похоже на образ Христа.Ты слышишь? Ворчливо и вескоМороз заворчал за плечом,Но радуюсь радостью детской,И песня моя ни о чем.Ведь строчки вдогонку за рифмой,А рифме легко и свежо,И этот мгновенный порыв мой —Мальчишка, швырнувший снежок.Вышедший из Маяковского и Цветаевой, своейлюбимой поэтессы, Несмелов рано преодолел их влиянье.Творчество его было вполне самостоятельным иразвивалось в трех главных руслах: военные стихи,гражданская поэзия и лирика. Творчество Несмеловазаслуживает отдельной монографии. В короткой статьеможно наметить только ее координаты. Меня, знавшегопоэта в течение многих лет, всегда поражала вэтом сильном и гордом человеке, наряду с предельно«мужскими» стихами, его лирика:Мы блуждали с тобой до рассвета по улицам темным,И рассвет засерел, истончив утомленные лица,Задымился восток, заалел, как заводская домна,И сердца, утомленные ночью, перестали дымиться.Я тебя целовал. Ты меня отстраняла спокойно.В жесте тонкой руки почему королевская властность?Отчего в наши души вошла музыкальная стройностьСтихотворной строки, заменившая темную страстность?348
Было таинство счастья. На его изумительном кодеПрозвучали слова, как улыбка ребенка простые:«Посмотри-ка, мой милый, над городом солнышковсходитИ лучи у него, как ресницы твои золотые!»Несмелов обладал тремя качествами, необходимымикаждому настоящему поэту: умом, талантом игорячим сердцем. В его стихах никогда не было неопределеннойрасплывчатости. Он один из наиболеемужественных поэтов во всей русской литературе.Он знает, что он хочет сказать, и находит новые иверные слова, чтобы это сделать:Когда придет пора сразитьсяИ ждут сигнального платка,Ты, фехтовальщик, встав в позицию,Клинком касаешься клинка.За этим первым ощущеньемПрикосновения к врагу,Ты шпагу сладостного мщеньяО грудь его согни в дугу!Но нет. Но нет, не то, пожалуй, —Клинок отбросив на лету,Я столько слез и столько жалобВ глазах противника прочту.И, салютующий оружьем,Скажу, швырнув в ножны клинок, —«Поэты, смерти мы не служим,Дарую жизнь тебе, щенок!»Один из сборников стихов Несмелова назван «Кровавыйотблеск». На титульном листе его стоит двустишьеиз А. Блока: «От дней войны, от дней свободы,349
Кровавый отблеск в лицах есть». Несмеловская поэзиясохранила этот кровавый отблеск. Вот случайнаявстреча с бывшим боевым товарищем:Василий Василич Казанцев...И огненно вспомнились мнеУсищев протуберанцы,Кожанка и цейс на ремне.Какая-то шутка, насмешка,С ума посходили мы все.Казанцев под пулями мешкалСо мной на Ирбитском шоссе.Нас дерзкие дни не скосили.Забуду ли пули ожог?И вдруг шевиотовый, синийНаполненный скукой мешок!Года революции, где вы?Кому ваш грядущий сигнал?Вам в «счетный» — так это налево.Он тоже меня не узнал!Состаримся скоро и вымремВ безлюдье китайском, глухом...Но все же, конторская мымра,Сам Ленин был нашим врагом!На темы гражданской войны стихи писались и вРоссии и за рубежом. Но, пожалуй, никто не дал такойширокой панорамы, как Несмелов. Никто не сумелрассказать о ее отдельных эпизодах с глубокимлиризмом:350Ты просто девочка-ломака,Тебя испортила Сморгонь.
Штабная моль, дрожа от смака,Прошепелявила: «огонь!»И смотрит щуристо и падко,Как воробей на мирабель.А мне почудилась лампадкаИ тишина и колыбель...И вот угрюмо от драбантаЯ узнаю твою судьбу —Как ты страшна была без банта,В сосною пахнувшем гробу!...Я особенно люблю его коротенькое стихотворенье«Раненый»:Шел, пробираясь чащей,Хрустя и ломая, лез.А ветер, дракон рычащий,Взлетел, опрокинув лес.Упал, захлебнувшись потом,Не в силах тоски сломать,На миг, шелестя капотом,Проплыла над павшим мать.И лес зашумел все гуще,Был прежним осенний лес.И заяц, наставив уши,На кочку картинкой влез.Можно еще много сказать о его двух поэмах, особенно«Протопопице» — повествовании о житии протопопаАввакума, — и о его прозе, умной, отточенной,предельно насыщенной, чем-то напоминающейпрозу Лермонтова. Я не сомневаюсь, что в будущемтворчество Несмелова найдет своего пристального351
исследователя. Оно выдержало испытанье временем иприобрело новую ценность художественной и правдивойзаписи роковых лет русской истории...* **Помимо Несмелова, из группы дальневосточныхпоэтов в первую очередь должен быть упомянут поэтВалерий Перелешин (Салатко-Петрище). Из Китая онпопал в Бразилию, где живет уже много лет и выпустилв общей сложности 11 сборников стихов. В молодости,еще в Китае, он постригся в монахи с именемГермана и провел несколько лет в пекинском православномподворье. Но монашество его продолжалосьнедолго, и он вернулся в мир. Человек он весьмаученый. Помимо оригинальных стихов, он сделал многопереводов с китайского, английского и португальского.О нем очень хорошо отзывался один из кандидатовна Нобелевскую премию эстонский поэт АлексисРаннит — прекрасный знаток русской поэзии.В. Перелешин — неоклассик. Одна из любимых формего творчества — сонет, в котором он достиг большогомастерства. Пишет он и гекзаметры, и паузники,и многостопные дактили. Знает он свое поэтическоемастерство превосходно, и возможно, что сегодня онодин из крупнейших знатоков русской поэтики. Привожуодин из его ранних сонетов.ДВОЙНИКНорманн и римлянин, вам розный шагПредначертали вышние скрижали,Но каждому мерещилось едва лиВ веках столкнуться и не крикнуть «враг!»352
Так кто ж судил, о милый мой варяг,Чтоб люди нас за братьев принималиИ чтоб твоих очей морские далиЛаскали глаз моих стигийский мрак?Зачем отступнику латыни трубной,Близки мне флейты севера и бубны,И, варварские звуки возлюбя,Свое с твоим я спутываю имяИ сумрачные очи — с голубыми,Когда гляжусь, как в зеркало, в тебя?Сонет помечен 1936 годом, когда поэту было всего23 года. А вот стихи, написанные год спустя, незадолгодо пострига, и отражающие его внутреннююдраму, — «Прощанье с музой»:Владеет мной не демон своеволий,Не Асмодей, не баснословный змий:Бесам ли замирать от сладкой болиПод рокот византийских литургий?Итак, не плачь, обманутая муза,Язычница прекрасная моя,Что для иного, горнего союзаТебе впервые изменяю я.Ты хочешь следовать за мной — служанкой,Не повелительницей, не сестрой?...Тебя за мной не пустят, чужестранкуВ плаще и с непокрытой головой.Итак, вздохнем о нерожденной книгеИ распростимся у парнасских чащ,Чтоб одному носить свои вериги,Другой же — древний простодушный плащ.353
Не плачь же! Если снова нрав лукавыйТебя сведет со мной на краткий миг,Быть может, вновь земной забредит славойВеликолепный ангельский язык.Перелешину сейчас 68 лет. Написал он после своего«китайского» периода множество стихотворений.Я сознательно цитирую его ранние стихи, как будупоступать и с другими поэтами, чтобы показать лицодальневосточной группы, до того как она пересталасуществовать. Большинство стихов я цитирую по памятии хочу заранее извиниться за возможные неточности.* **Я уделю лишь по одному стихотворению на каждогочлена этой группы.Георгий Гранин, был одно время секретарем «МолодойЧураевки». Покончил самоубийством в 19 лет.За свою короткую жизнь написал много стихов. Считалсяодним из подающих большие надежды. Вотодно из последних его стихотворений:354Ничего, что душа в девятнадцать изменчива, —В двадцать пять она будет точней.И, под бдительным оком какой-нибудь женщины,Ты забудешь о ней...Отмелькает и подпись с манерными точками,Непременно двумя у конца.Но зато будет домик и ящик с цветочкамиНа карнизе крыльца.А молиться и верить тебе будет не во что,И, забывшись безрадостным сном,
Ты об этой, тебе предназначенной, девушкеПозабудешь потом...А вот стихи Сергея Сергина (Петрова), покончившегосамоубийством вместе с Граниным:Час пробьет. И по ступенькам шаткимТы сбежишь с высокого крыльца.И сойдет со взмыленной лошадкиТвой избранник в шапке, в бубенцах,В пестрых лентах. И с улыбкой пьяной,Размалеванных небрежно губ.А соседки разом песню грянут,А соседки вас подстерегут.А потом они о вас расскажутНа ушко друг дружке, шепотком...Дни пойдут за штопкою и пряжей,Дни пойдут размеренным шажком.От кровати только до кастрюли.И замрут, часы остановив.Это будет вечером, в июле,У пруда меж низкорослых ив.Ты придешь и встанешь между прачекИ глубоко первый раз вздохнешь.А ведь все бы быть могло иначе —Только прожитого не вернешь!И пойдет вода, кругами пенясь,И затихнет громкий стук валька.У дверей соседки, подбоченясь,Не услышат крик издалека.Вот Алексей Ачаир, создатель кружка, со своимимузыкальными, но не отлитыми из полновесного материаластихами:Рассмейся мне, молодость, снова,Рассмейся и вновь увлеки355
К печальной убогости кроваУ тихой татарской реки.К позициям первой казачьейНа гатях Уфимских болот,Где в селах оставленных плачутЛишь ржавые петли ворот.По улице ветер — как буря;Как буря, как ветер, — судьба.У леса, с судьбой балагуря,Тревожно взывает труба.И лавой, распластанной в вихре,Мгновенный казачий налет.Теперь мы, согнувшись, отвыклиУсмешкой встречать пулемет.Теперь не смогли б подружитьсяЗа чаркой простого винаС тобою, шальная тигрица,С тобой, баловница-война.Стихотворение Николая Щеголева, единственногоиз всей китайской группы «удостоившегося» попастьв парижский журнал «Числа»:От замыслов моих, не подкрепленныхНи силою, ни верой, ни трудом,От чувств моих, всегда полувлюбленных,Полупрохладных, как забытый дом,От вечно спутанных и сероватыхТуч, копошащихся над головой,И даже от просветов синеватых,От всей земли, летящей по кривой,Бежать! Бежать! Бежать!.. Куда, в какое царство?О ложь, о бесполезное бунтарство!356
В заключение мое стихотворенье — одно из первых,которым я дебютировал в «Молодой Чураевке»в возрасте девятнадцати лет.Отчего нам так страшно? Мы только ночные повесы.Но сжимается сердце, как в детстве бывало, во сне...Погляди, погляди — оживает японский профессорНа аптечном плакате, на дальней кирпичной стене.У него иероглиф на груди и холодные желтые руки,Он весь в прошлом столетьи, в торжественном фракедо пят.Это он нас обрек на ночные скитанья и муки,Весь отравленный сам, подносящий с усмешкою яд.Начинается ветер. Грохочут трамваи пустые.Убежим поскорей из проклятого места на свет,В голубой ресторан, в озаренные залы большие,Где танцует канкан над могилой своей Мистингет.Поднимается солнце. Наверно, все это лишь снится,Как и вся наша жизнь, в эти злые, глухие года...Ты проходишь в костел, опуская густые ресницы,И прекрасной и нежной такой я не видел тебя никогда!В заключение мне хочется сказать, что, оглядываясьс пятидесятилетней дистанции на творчестводальневосточной группы, сравнивая его с творчествомсовременных поэтов за рубежом, я думаю, что забытым,списанным целиком со счетов оно не должнобыть. Творчество же Несмелова и Перелешина безусловнонайдет своего исследователя. Вопрос только:когда?357
СахаровсновслушаниеОБРАЩЕНИЕ13-15 апреля 1983 г. в Лиссабоне (Португалия) состоится 4 сессияМеждународных Сахаровских Слушаний. В повестке дня два вопроса:1. Социально-экономические права трудящихся в СССР.2. Свобода интеллектуального творчества в СССР.На Слушаниях компетентному жюри будут представлены свидетельствалиц, покинувших Советский Союз не ранее, чем 5 лет назад, иобладающих личным опытом в указанных выше вопросах.Исполнительный Комитет Слушаний обращается ко всем лицам,которые могли бы дать свидетельские показания о несоблюдении илисоблюдении основных прав человека в названных областях. Слушанияинтересуют, среди прочих, следующие темы:1. Условия труда рабочих и служащих: техника безопасности,оплата труда и др.2. Прием на работу и увольнение с нее: наличие или отсутствиедискриминации по национальному, религиозному, политическому илииному признаку.3. Принудительный труд, преследования за «тунеядство».4. Помощь, оказываемая профсоюзами в защите основныхправ трудящихся или отсутствие такой помощи.5. Условия труда женщин.6. Условия труда инвалидов.7. Особенности труда колхозников, свобода выхода из колхоза.8. Наличие или отсутствие дискриминации по какому-либо признакув сфере интеллектуального творчества: литература, искусство,наука.9. Цензура.10. Преследования авторов за неортодоксальное интеллектуальноетворчество.Приведенный перечень, разумеется, не является исчерпывающим,а лишь примерным. Обращаем еще раз внимание на то, что показаниядолжны быть представлены о личном опыте, либо о том, чему данноелицо было прямым свидетелем.Исполнительный Комитет просит прислать показания (в развернутойили тезисной форме) не позднее 31 января 1983 г. по адресу:Dr. Cronid LubarskyInternational Sakharov HearingsWolfratshauser Str. 68D -8000 München 70Представитель Исполнительного Комитета Слушаний будет радвступить с Вами в контакт и обсудить вопрос о возможности Вашегоприглашения в Лиссабон для личного выступления на Слушаниях.
Колонка редактораСКВОЗЬ ПЛЕН ЛОГОКРАТИИОдной из главных проблем современности мнепредставляется проблема духовного преодоления диктатурыидеологической логократии в окружающем насмире.Под этим понятием я имею в виду магию социальных,общественных и политических клише, с помощьюкоторых тоталитарная психология, как на Востоке,так и на Западе пытается овладеть плотью и духомЧеловека, сделать его послушным орудием для различногорода радикальных экспериментов, функциональнойединицей государственного организма.В удушающей атмосфере этой магии общество,незаметно для самого себя, теряет всякие моральныеи нравственные критерии, послушно отдавая свое сознаниево власть полых слов и ложных понятий, когдабелое в нашем сознании превращается в черное, жертвыв палачей, проявление добра в свою сущностнуюпротивоположность. Фундаментальнейшие ценностичеловеческого бытия — Свобода, Милосердие, Справедливостьприносятся в жертву социальным мифам иполитическим утопиям.Чтобы вопреки собственным утверждениям неоказаться в плену голословных утверждений, я позволюсебе привести ниже конкретный пример из нашейс вами собственной литературной действительности,пример, который красноречиво отражает механизмугрожающего нам нравственного и профессиональногорелятивизма.Как известно, в Федеративной Германии два Союзаписателей — «прогрессивный» и «реакционный».Как и во всякой уважающей себя организации, в каж-359
дом из этих Союзов значатся почетные члены, разумеется,соответствующие им по своим литературными общественным качествам. В первом, к примеру, таковымчислится один русский переводчик с немецкого,во втором — ваш покорный слуга, политический илитературный ретроград, авторитарный религиозныйшовинист, друг (Господи, спаси!) самого Акселя Шпрингераи (шутка ли сказать!) Франца-Йозефа Штрауса. Вобщем, как выразился поэт, все поровну, все справедливо!Оба союза, каждый в меру своих сил и возможностей,опекают коллег из России. Первый обеспечилсвоему триумфальный въезд в Федеративную республику,второй своему — дружеское внимание и моральнуюподдержку: чем богаты, тем и рады! Во всякомслучае, не бывало в «реакционном» Союзе скольконибудьзначительного события или собрания, куда быменя не приглашали, со всеми приятными для такихприглашений респектами.Казалось бы, и в этом гостеприимном соревновании«прогрессивный» Союз должен был бы первенствовать:как-никак, марка! Но на деле оказалось, чтоплюралистическая широта его в высшей степени толерантныхруководителей не простирается далее сугубоидеологических потребностей текущей социал-демократическойполитики откровенно просоветского направления.Стоило западногерманским ревнителям демократии«без берегов» встать перед выбором, кого пригласитьна созванный ими Форум Мира в Кёльне: своегопочетного члена и, кстати сказать, лауреата немецкойпремии того же названия или редактора «Литературнойгазеты» (да, да, той самой газеты, которая из номерав номер восхищается советской оккупацией Афганистанаи шельмует польскую «Солидарность»!) матерогосталиниста и графомана Александра Чаковскогос таким же матерым литературным чекистом Сергеем360
Михалковым (да, да, тем самым Сергеем Михалковым,который на одном из писательских съездов провозгласилздравицу в честь КГБ, своего единственного,по его собственному выражению, защитника), какони, не раздумывая долго, предпочли последних.И не постеснялись, не сочли для себя зазорнымзападногерманские «прогрессивные» писатели с трибуныэтого, с позволения сказать, Форума обсуждать соштатными сотрудниками отдела дезинформации советскогогестапо проблемы международной безопасностии разоружения, не спросили у этих, вооруженныхдо зубов голубей мира, чем занята страна, которуюони представляют, в том же Афганистане, на Кубе, вЭфиопии, Никарагуа или Анголе и нескольких другихдовольна далеких от ее границ странах? Не поинтересовалисьони и тем, за какие такие «государственныепреступления» тянут теперь лагерную лямку их советскиеколлеги вроде Миколы Руденко, Анатолия Марченко,Виктора Некипелова и еще многих и многих?Пришлось их почетному члену из России напомнитьхозяевам об этом в «самиздатских» листовках,распространенных им среди участников данного Форумав лучших традициях русского марксистского подполья,так сказать, нелегально и с оглядкой на бдительныхказаков, то бишь полицию.После всего вышеизложенного невольно хочетсяспросить у «прогрессивных» писателей ФедеративнойРеспублики Германии:— Почем нынче демократия, господа хорошие? Ипо какой цене идет сегодня на вашем рынке профессиональнаясовесть?Хочу привести еще один пример подобного рода.Колумбийский прозаик — ныне лауреат Нобелевскойпремии — Габриэль Гарсия Маркес, выступая помосковскому, подчеркиваю, московскому телевидению,поклялся советским читателям, что он не возьметсяболее за перо до тех пор, пока в Чили не бу-361
дет свергнута ненавистная ему диктатура генералаПиночета, но в то же время с похвалой отозвался овьетнамской диктатуре, которая вынуждает десяткитысяч людей бросаться в поисках спасения от нее воткрытое море. Мучительную гибель многих из нихв этом бегстве «писатель-гуманист» спокойно относитза счет издержек классовой борьбы.Его русский коллега Василий Аксенов справедливозаметил по этому поводу, что в таком случае он личноподождет наслаждаться шедеврами господина Маркесадо тех пор, пока не прекратит свое существованиедорогая сердцу колумбийца диктатура вьетнамская.Угрожающая всем нам троглодитская логика писателейвроде господина Маркеса свидетельствуем нетолько о том, что этот литературный борец за освобождениестраждущего человечества явно не умрет отскромности, но и о том, что она, эта логика, имеетхождение среди широких и, что еще опаснее, довольновлиятельных кругов современной интеллигенции. И нетолько интеллигенции.К сожалению, таких примеров из нашей печальнойлитературной действительности можно привестивеликое множество.Если проблемы мира и разоружения позволительнообсуждать с официальными представителями самогоагрессивного и военизированного государства наземле, ведущего в это время ничем не спровоцированнуювойну против целого народа, дирижирующеговоенным положением в Польше и организующего диверсионныедвижения на всем земном шаре от Сомалидо Сальвадора, а ни в чем не повинные чилийскиежертвы противопоставлять еще более неповиннымжертвам Вьетнама, то, согласитесь, что клишированнаядемагогия тоталитаризма, наподобие раковой опухоли,уже властно укореняется в интеллектуальном сознании,грозя запутать нас в своей смертельно удушающейпаутине.362
Поэтому я вижу основополагающую задачу современныхписателей, осознающих грозящую нам всемопасность, в том, чтобы попытаться преодолеть инерциювоинствующей логократии, вернуть слову его изначальныйсмысл, сделать слово не средством достижениясоциальных или политических целей, а инструментомдобра и взаимопонимания между людьми.Сказано: в начале было Слово. Я убежден, чтоСлово будет и в конце. И отныне только от человекаи его способности воспринимать Благую Весть зависит,каким оно, это слово, в конце концов окажется.ИЗДАТЕЛЬСТВО YMCA-PRESS11, rue de la Montagne Sainte-Geneviève — 75005 PARISШАЛАМОВ В. - КОЛЫМСКИЕ РАССКАЗЫ.900 стр. 150,00 фр.Рассказы В. Шаламова, проведшего 20 лет в заключении— самое страшное свидетельство о жизни в лагерях, «девятый»круг ГУЛаговского ада.ВОЛОШИН М. — Полное собрание стихотворений и поэм, вдвух томах, под общей редакцией Г. Струве, Н. Струве,Б. Филиппова.Том 1. Годы странствий — Selva Oscura — НеопалимаяКупина. Вступительные статьи Б. Филиппова и Э. Райса. ПримечанияБ. Филиппова. 8 фотографий. 650 стр. 160,00 фр.Том 2. Выйдет в ближайшее время.363
Условия подпискина журнал «КОНТИНЕНТ»На 1 год — 40 н. м.; на 6 месяцев — 20 н. м.Цена одного номера — 12 н. м.Пересылка за счет подписчика.Подписка может быть оформлена в генеральномпредставительстве «Континента» по адресу:A. Neimanis • Buchvertrieb8000 München 40 • Bauerstraße 28 • Germanyа также у корреспондентов журнала (адреса навторой странице обложки) или у представителей«Ассоциации друзей «Континента»:США: Вост. побережье — Э. Штейн (Е. Sztein),594 Chestnut Ridge RoadOrange, CT. 06477, USAГенеральное представительство«КОНТИНЕНТА»A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB8000 München 40 • Bauerstr. 28 • Germany
Наша почтаПИСЬМО В РЕДАКЦИЮсекретноПеред нами две книги:George Orwell, Animal Farm, a Fairy Story, PenguinBooks, 1968 и ее русский перевод —Джордж Орвелл, СКОТСКИЙ ХУТОР, сказка,авторизованный перевод с английского Марии Кригери Глеба Струве, третье проверенное и исправленноеиздание, «Посев», 1971 г.Хочу обратить внимание редакции на две важныекупюры, сделанные неизвестным цензором в русскомпереводе (в советском издании был бы хотя бы указанномер цензора).1. На стр. 16 перевода, внизу, после слов «Моллисогласилась, но это как будто не совсем убедило ее»(см. стр. 17 оригинала):Еще труднее было свиньям бороться с ложнымиверованиями, которые распространял Моисей, ручнойворон. Моисей, любимчик фермера Джонса, был егоосведомителем. Кроме того, у Моисея был ораторскийталант. Он возвещал, что существует некая чудеснаястрана — Леденцовая гора, куда все животныепереселяются после смерти. Находится эта странагде-то на небесах, за облаками, утверждал Моисей.На Леденцовой горе — вечное лето, круглый год цвететклевер, на кустах растут жмыхи и кусковой сахар.Животные не любили Моисея, потому что онболтал языком и не работал. Но кое-кто верил в Леденцовуюгору, и свиньям приходилось долго доказывать,что такого места не существует.365
2. На стр. 95 перевода, после слов «Раны на спинеСнежка, которые некоторые животные все еще помнили,были причинены зубами Наполеона» (см. стр. 99-100 оригинала):Несколько лет отсутствовавший ворон Моисейнеожиданно снова появился на ферме в середине лета.Он почти не изменился, по-прежнему не работал ирассказывал прежние сказки о Леденцовой горе. Онсадился на пень и, размахивая черными крыльями, часамипроповедовал всем готовым его слушать. «Тамнаверху, товарищи, — говорил он торжественно, показываяна небо своим большим клювом, — там наверху,вон за той тучей находится Леденцовая гора.Это — райская страна, где мы, бедные животныеобретем вечный отдых от наших трудов!». Он дажеутверждал, что, когда залетал очень высоко, бывалтам и видел своими глазами вечно цветущий клевер икусты с растущими на них жмыхами и кусковым сахаром.Многие животные верили ему. Наша теперешняяжизнь, размышляли они, — это голод и изнурительныйтруд. И если бы где-то существовал лучшиймир — разве не было бы это прекрасно и справедливо?Не очень понятно было отношение свиней к Моисею.Они с презрением отвергали его выдумки, но всеже разрешили ему остаться на ферме и, не работая,ежедневно получать четверть пинты пива.В этих купюрах в образе ворона Моисея выведенслужитель культа. Образ явно отрицательный: осведомительпрежнего хозяина, пособник новой власти пооболваниванию простых зверей, тунеядец... Уж не разделяетли Дж. Орвелл неприемлемый для нас, антикоммунистов,тезис «Религия — опиум для народа»?Поэтому я хорошо понимаю цензора, изъявшего этиизмышления, порочащие религию и церковь.И все же опасения цензора за читателей, которыемогли бы подпасть под дурное влияние изъятых пассажей,справедливы лишь в отношении НЕОКРЕП-366
ШИХ ДУШ. За тех же, кто ИДЕОЛОГИЧЕСКИ ВЫ-ДЕРЖАН И МОРАЛЬНО УСТОЙЧИВ (как, например,сам цензор), можно не бояться — никакая вражескаяпропаганда им не повредит. С другой стороны,эти люди не только могут, но ДОЛЖНЫ БЫТЬ облеченыдоверием (хотя бы потому, что иначе неоткудабудет набирать цензорские кадры) и обладать всейполнотой информации. В частности, информации обидеологических ошибках Дж. Орвелла (так сказать, скем вы, мастера культуры?).Вот я и предлагаю хранить эти купюры в СПЕЦ-ХРАНЕ редакции «Континента» (если такового нет,то его придется создать) и выдавать на предмет прочтениялицам, облеченным доверием. И лишь для тех,кто доверием НЕ облечен, будет существовать наша,демократическая, антитоталитарная, одним словомХОРОШАЯ цензура.С уважением.Юлиус Телесин367
75 ноября 1982 г. БостонДорогой Владимир Емельянович!Я только что просмотрел свою статью, опубликованнуюв 33-м номере «Континента». Там на 214 страницеесть какой-то «пропуск в рукописи». То ли этомоя вина, то ли в типографии потеряли лист, но, бытьможет, Вы смогли бы в 34-м номере допечатать потерянныйотрывок? Если нет, то, конечно, ничего страшного,хотя, думаю, у многих это вызовет недоумение.Все-таки я ведь в Бостоне живу, а не в России, и неясно,почему же нельзя было потерянный лист восстановить.На всякий случай прилагаю потерянную страницу.С искренним уважениемвсегда ВашЮ. Фелыитинский«Вы* пугаете читателей «политизацией патриотизма»,«духовным изоляционизмом», от имени анонимной«эмигрантской публицистики» еще и лозунгом«демократия не для русских». Вы прекрасно знаете,что у советских эмигрантов можно найти любые высказывания.Но это не значит, что следует смешиватьих в общем котле — ложкой дегтя бочку меда портитьне стоит. Вы же запутываете читателя настолько, чтоон уже не понимает, где мысли А. И. Солженицына,где высказывания безымянной эмигрантской публики,где ваши собственные комментарии и предположения.Это метод советской пропагандистской машины — встатье о Солженицыне разбирать суть Власовскогодвижения. Вы идете по тому же пути. Вы обвиняете* В статье приводятся цитаты из публикаций В. Чалидзе и другихоппонентов А. Солженицына. По просьбе редакции автор опустилих фамилии, ибо мы стараемся придерживаться правила полемизироватьс идеями, а не личностями. — Ред.368
А. И. Солженицына в фашизме! И как! Сначала, ссылаясьна авторитет Сахарова («Сахаров обратил предостерегающеевнимание...»), вы обвиняете «Письмо квождям» А. И. Солженицына в «националистическихтенденциях», а затем переходите к более сложномупримеру, речи, произнесенной в Испании:«Сколько раз ругали мы тех незадачливых туристов, кои, приезжаяв СССР, пишут потом небылицы, как-де прекрасно. Тут иБ. Шоу и Л. Фейхтвангер оставили по себе дурную память. Но вотСолженицын приезжает в страну, пережившую десятилетия фашистскойдиктатуры и заявляет: «Я удивляюсь, знаете ли вы, что такоедиктатура, что называют этим словом?» И это пробыв 10 дней встране и увидев что-то отличное от диктатуры, к которой он привык.Это в стране, в которой закрытые военные суды рассматривалиобвинения против гражданских лиц, в которой была цензура изапрет всех политических партий, кроме партии ген. Франко. Десятилетиялюди жили с этой диктатурой.Вот и гадай, читатель, — легкомыслие ли это или способ сказать,что франкистский режим — это то, что и должно быть длянадежной охраны страны от коммунистов».Вы намекаете, что А. И. Солженицын видит спасениеот коммунизма — в фашизме; но не приводитени одного доказательства, ни единой цитаты из егоречи. Сравнение А. И. Солженицына с Шоу и Фейхтвангером— поверхностно. Сквозь опыт западной демократиини Шоу, ни Фейхтвангер не смогли разглядетьсущества коммунистического режима. Закрытаядля иностранных корреспондентов, туристов и западнойинформации, советская Россия не спешила рассказатьо себе правду и в своих собственных газетах, хотяо процессах и Шоу, и Фейхтвангер знали. Не имея никакойинформации об СССР, подкупленные пышнымприемом и встречами с высокопоставленными лицами,они составили о режиме в корне неправильное мнение.Так ли с А. И. Солженицыным? Нет. Он приехал вИспанию с опытом участника войны, заключенного ичеловека, познавшего на себе диктатуру коммунистическогорежима. Он прибыл туда не из лагеря, но со369
свободы (в том ее узком значении, под которым вСССР «свободой» именуется нахождение вне лагерныхи тюремных стен). С другой стороны, Испания никогдане представляла собой закрытого государства.»Читайте в следующемномере «Континента»Проза:ф. Горенштейн, О. Орнальдо,Б. Брикер и А. ВишевскийСтихи:В. Попадюк, Д. Бобышев,С. ГандлевскийПублицистика:М. Кулмагамбетов, И. Бирман,Лев ШестовИнтервью с Аркадием Шевченко370
Критика и библиографияБОЙ КРОВАВЫЙ, СВЯТОЙ И ПРАВЫЙПосле замечательной «Истории либерализма в России(1762—1914)» В. В. Леонтовича и сборника документов «Независимоерабочее движение в 1918 году» в той же серииИНРИ, где эти книги появились, вышел третий сборник, насей раз о народном сопротивлении коммунизму на Урале и вПрикамье. Для уха советского человека само словосочетание«народное сопротивление коммунизму» звучит совершеннодико. Тема эта в Советском Союзе по вполне понятным причинамявляется сугубо запретной, криминальной, массаархивных материалов попросту уничтожена, остальныестрого засекречены. Работа исследователя в подобных условияхстановится исключительно трудной.В 1918-1919 гг. на Урале и в Прикамье бушевала настоящаявойна народа, пытающегося в отчаянных попыткахсбросить ярмо большевизма. Но из сознания людей этовытравлено, участники почти все поголовно уничтожены,черным, глухим забвением покрыта целая историческая полоса.Разорвать роковую цепь могут только факты, свидетельства,показания очевидцев и порою сухие, бесстрастныецифры.Составителю этого огромного, в 600 страниц, сборникаМ. С. Бернштаму пришлось проделать гигантскую, скрупулезнуюработу историка, собирая по крупицам необходимыематериалы. Опираться пришлось, к сожалению, в гораздобольшей степени на показания карателей и подавителей,прошедшие и самоцензуру, и цензуру, чем на объективныепоказания участников сопротивления. Вот почему ученомупришлось овладеть мастерством шифровальщика и научитьсячитать спрятанный за идеологической трескотней скрытыйсмысл.Исследования новейшей русской истории. 3. Урал и Прикамье.Ноябрь 1917 — январь 1919. Документы и материалы под общейредакцией А. И. Солженицына. ИМКА-ПРЕСС, Париж, 1982.371
Очень ценны воспоминания очевидцев и участников событий,мемуары которых впоследствии появились на Западе.Но исключительную роль в освещении событий сыгралиразличного рода военные и служебные донесения, постановлениянародных собраний, а также двухнедельные и месячныесводки НКВД. Особенно интересны доклады по прямомупроводу между высшими военно-партийными советскимичинами, которые при наиболее опасных обстоятельствах неочень-то заботились о самоконтроле. Наркомвоен Берзиндокладывает наркомвоену Подвойскому: «Дела в Екатеринбургепечальны. Нет никаких сил, на которые можно былобы надеяться, все бегут с фронта. Боюсь, чтобы на дняхЕкатеринбург не пал. Рабочие относятся очень враждебно кСоветам».Драгоценным посверком мелькнет в воспоминании одногоиз деятелей разговор со случайным попутчиком-рабочим,который печально заметит, что плакал от радости,когда революция приключилась, а теперь не знает, куда отнее деваться: «Хуже старого гнут несуразное...» В одной изранних советских публикаций встречается поразительныйдля коммунистической литературы заголовок: «Побитымисобаками оставляли мы Ижевск». То попадается рассказ острашном голоде в одной из деревень, вызванном продразверсткой,то донесение о страшных зверствах, чинимыхкрасногвардейцами. И постепенно, от документа к документу,перед потрясенным читателем встает картина страшнойволны — общенародного антибольшевистского сопротивления,которое охватило огромную территорию Урала иПрикамья.8 августа 1918 года в Ижевске вспыхнуло восстание рабочих,которое перекинулось в Воткинск и в те же дни зажгломассовую крестьянскую войну в Вятской губернии. Чтоже случилось? Почему рабочие и крестьяне поднялись набеспощадную борьбу против своей же, «родимой» рабочекрестьянскойвласти? А получилось вот что. Кроме тотальногозахвата власти, большевики хотели немедленного насаждения«полного коммунизма» повсеместно. Материалыпоказывают, что особенно ретивыми в исполнении центральныхдиректив были местные заправилы, которые усиленно,грубо, не считаясь с жертвами, проводили всеобщуюнационализацию, а та, в свою очередь, с неизбежностью372
несла хозяйственное разорение, голод и смерть. В один прекрасныйдень ижевские рабочие узнали, что их дома переходятк государству, а многие Советы их даже обложиликвартирной платой. Началась разруха и анархия, станкиостановились, всеобщее недовольство росло. Когда большевикивидели, что остаются при настоящих выборах в ничтожномменьшинстве, они просто-напросто разгоняли Советыс помощью латышей и мадьяров. И доведенные до отчаяниямассы восстали. Один из его участников впоследствиивспоминал: «На этой небольшой территории России,освобожденной от кошмара советского режима, можно былонаблюдать, как происходило воскресение из мертвых населения,как все стало постепенно приходить в себя, оживать».Приблизительно та же самая картина разворачиваласьв деревне. На многочисленных материалах Вятской губерниивидно, что большевики приняли курс раздавить крестьянствопутем создания голода в деревне. В комбеды шли самыеленивые, нерадивые и пьяницы. Работящие, крепкие крестьянскиесемьи, все члены которых, включая детей, трудилисьот зари до зари, назывались кулацкими и разорялисьвчистую. Хотя план продразверсток по деревням был выполнентолько на тридцать процентов, население было обреченона голодную смерть. Волна крестьянских восстанийвылилась в настоящую войну против большевизма. Сводкивсех партийных и советских учреждений того времени вынужденыпризнать «сплошную контрреволюционность» населенияПермской и Вятской губерний и с горечью констатировать,что все слои уральского крестьянства занимаютантибольшевистскую позицию.Народное восстание обрело и своих талантливых руководителей,как правило — из среды кадрового русского офицерства.Из воспоминаний об увиденном и пережитом особыйинтерес представляют свидетельства главнокомандующеговойсками Прикамского края полковника Д. И. Федичкинаи генерала В. М. Молчанова. Последний пишет: «Япобывал почти во всех деревнях волости и видел, что коммунистыбыли до того ненавистны, что каждый день яузнавал — такой-то убит, такого-то поколотили...» Изовсех уездов и волостей к руководителям являлись многочисленныеделегации с просьбой о помощи, а главное — за ру-373
жьями, с целью формировать дружины и народные армии.Вскоре громадная территория оказалась охваченной стихийнымкрестьянским восстанием. В июле 1918 года красныевойска были разгромлены на Южном Урале повстанческимии партизанскими отрядами. Любопытно, что среди красноармейцевбыло чрезвычайно распространено явление дезертирстваи порою целые отряды переходили на сторону восставших.Свидетельство о том находим в материалах советскихизданий тридцатых годов, в особенности в книге «Устныерассказы уральских рабочих о Гражданской войне». Хотявсе события излагаются в них только с одной — коммунистической,то есть подавительной — стороны, через безискусственныйи наивный разговорный рассказ пробиваетсямного правдивых ценных сведений.В конце сентября 1918 года сосредоточенные в Прикамье,сведенные с разных частей страны Красные войска2-й Армии, благодаря крайнему напряжению сил и средств,подавили народное сопротивление в основных узловых районахВятской губернии. Главной установкой большевистскойвоенной верхушки было сплошное подавление и истреблениевосставших. Восстание в самом полном значении этого словабыло потоплено в крови, причем, если бы это потребовалось,крови пролилось бы в десять, в сто раз больше. Появилсяспециальный приказ Троцкого «О беспощадном уничтожениирабочих». По свидетельству английской «Белойкниги» 1919 года, восставших расстреливали тысячами, многихтопили или разрубали ударами шашек. В одном толькоИжевске погибло около 8ООО тысяч рабочих и их семей.Многие ижевцы и воткинцы ушли в Сибирь и вели борьбус большевиками вплоть до 1922 года. По единодушномупризнанию как белых, так и коммунистических источников,уральские рабочие и крестьяне, боровшиеся в Сибири, оказалисьсамыми упорными, стойкими и мужественными бойцами.Они не помышляли возвращаться в родные места,где их ждали одни лишь холодные могилы. Ижевские и воткинскиезаводы остались пустыми, и Ленину пришлось издаватьспециальный приказ о переводе на Урал московских ипитерских рабочих.Большевистских руководителей сплачивала ясно осознаннаяцель любой ценой удержать власть и установить господствокоммунистической идеологии. С первых дней револю-374
ции активно работал умело налаженный, мощный пропагандистскийаппарат, в армии были подобраны способные идеятельные командирские кадры. Коммунисты прекраснопонимали, что подавить столь мощное народное сопротивлениеможно лишь напряженной до предела, собранной в кулаквооруженной массой.К величайшему сожалению, антибольшевистские силы,несмотря на личное мужество почти всех участников сопротивленияи стремление победить во что бы то ни стало, необладали ясным осознанием цели и организованной сплоченностьюбольшевиков. У столь блестяще начавшегосяижевского восстания не оказалось достойных вождей. К властипришли слабые, случайные и бесхарактерные люди,насквозь проникнутые узкой партийностью, погрязшие вбесконечных политических интригах. Внутреннее ослаблениеи деморализация, напрасная растрата времени и духа, серьезныестратегические ошибки привели к тому, что народныйповстанческий порыв 1918 года потерпел поражение.Да, народное сопротивление коммунизму потерпело поражение.Но несмотря на это, коммунисты трепещут лишьот одного сознания, что оно, это сопротивление, было, естьи будет. Призрак народного бунта страшит их, вот почемународу ежедневно, ежечасно вбивается в мозги, что народ ипартия едины. Развеять это роковое заблуждение, показатьистинное лицо явления, вырвать правду из недр мертвогонебытия — вот главная задача в целом всей серии ИНРИ ив частности — этой книги.Майя МуравникЧЕЛОВЕК ДВУХ ВЕКОВВышедший несколько лет назад 84-й том Литературногонаследства, посвященный Ивану Бунину, открывается любопытнойфразой: «Изучение художественного наследия Буни-Устами Буниных. Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевныи другие архивные материалы. Под ред. Милицы Грин. «Посев»,Франкфурт-на-Майне, 1977-1982, тт. 1-3.375
на только начинается». С этим грустным признанием можноцеликом согласиться. Величие Бунина, сложность Бунина,актуальность Бунина — лишь совсем недавно стали осознаватьсянами по-настоящему. Фигура этого крупнейшего иоригинальнейшего нашего писателя первой половины XXвека как бы растет на наших глазах. Одно за другим выходяти мгновенно раскупаются все новые и новые издания егокниг как в России, так и на Западе (беспрецедентный в эмигрантскойпечати случай: разошлось уже четвертое изданиекниг Бунина, выпущенных канадским издательством «Заря»!).Растет и интерес критиков. Но советские литературоведы немогут со всей откровенностью обсуждать проблемы творчестваБунина. Книги о нем В. Афанасьева, Т. Бонами,А. Волкова, О. Михайлова останутся свидетельствами того,до какого унижения может дойти человеческий разум, вынужденныйследовать абсурдным схемам принудительнойидеологии. Читать эти книги тягостно и тоскливо. Болеечестные критики, чтобы не писать обычной официальнойлжи, занимаются исследованием узких локальных проблем:стилистики писателя, его языка, приемов сюжетоведения ит. п. В их статьях можно встретить много интересных иметких частных замечаний, но все это, конечно, не можетвозместить недостаток глубокого и всестороннего анализатворчества Бунина.До сих пор нет еще полного собрания сочинений Бунина.Самое крупное, девятитомное собрание сочинений, изданноев Советском Союзе, не может служить надежной основойне только научного исследования, но даже просто серьезногочтения: многие произведения Бунина, запрещенные цензурой,не вошли в него, многие вошедшие обезображены цензурой(в частности, искажения бунинского шедевра, романа «ЖизньАрсеньева», и литературных мемуаров — одно из самыхпозорных деяний советской цензуры). Манипуляциям подверглисьне только поздние, послереволюционные произведенияБунина, но даже ранние, дореволюционные: произвольнолавируя меж разными редакциями того или иногопроизведения (разночтения даются лишь тогда, когда этосовершенно безопасно), составители выбрали наиболее приемлемыедля себя варианты. Подготовленное же самимБуниным в 30-х годах одиннадцатитомное берлинское издание— неполно: в нем нет как поздних, написанных Буниным376
после того, произведений, так и ранних, несправедливо отвергнутыхсамим автором.На Западе в последнее время тоже наблюдается стремительныйрост буниноведения, появились уже интересные книгио Бунине — Сергея Крыжицкого, Балдура Кирхнера, ИванаБерзупа, Джеймса Вудварда. И тем не менее многие загадкибунинского творчества все еще остаются нераскрытыми,а особенности его прозы и его стихов все еще не получилисвоего исчерпывающего истолкования.Тем более своевременным представляется предпринятоенедавно хранительницей бунинского архива в Эдинбурге,профессором Ми лицей Эдуардовной Грин, издание дневниковИвана Алексеевича Бунина и его жены Веры НиколаевныМуромцевой-Буниной. Дневники Бунина охватывают периодс 1881 года (то есть, когда Бунину было всего лишь 10 лет)и до смерти. Их во многом поясняют и дополняют параллельноим писавшиеся дневники Муромцевой, усердного летописцажизни Бунина. Милица Грин сделала довольноудачный параллельный монтаж дневниковых записей Бунина(и выдержек из некоторых его писем) и записей Муромцевой.Получилось легко и увлекательно читаемое, последовательноразвивающееся единое целое. М. Грин подразделилаего на четыре части: 1 часть — дореволюционный период,2 часть — 1918-1920 годы, пребывание в Одессе иотплытие за границу (обе эти части вошли в первый томтрехтомника), 3 часть — эмигрантский период до полученияНобелевской премии в 1933 году и 4 часть — последний периоджизни.Все эти ценнейшие архивные материалы представляютбольшой интерес в первую очередь, конечно, для исследователейтворчества Бунина: они проливают свет на многиеэпизоды его жизни, раскрывают его метод собирания и обработкиматериалов, объясняют некоторые его замыслы, помогаютпонять лучше его вкусы и его отношения с другимилитераторами — Мережковским, Зинаидой Гиппиус, Куприным,А. Толстым, Алдановым, Шмелевым и другими.Но не только литературоведы будут читать эту книгу.Эти дневники — захватывающий монолог одного из умнейшихрусских людей нашего времени и одного из тончайшихценителей и знатоков нашей литературы. Человека, прожившегоогромную жизнь, — бывшего другом Чехова,377
современником Толстого и дожившего до хрущевского царствия.Мало кто так знал и так понимал Россию и русскийнарод, как Бунин, мало кто так любил и одновременно такненавидел этот народ. Мало кто был так прозорлив, такрано и точно угадал опасность. А когда катастрофа разразилась,мало кто с таким мужеством и с такой последовательностьюоставался в жутких обстоятельствах верен себе.Ни террор чекистов в залитой кровью Одессе, ни уговорысталинского эмиссара «Алешки» Толстого, сулившего Бунинув Советской России молочные реки и кисельные берега,ни циничные заигрывания Гослитиздата с уже смертельнобольным и нищим, стоящим на краю гроба писателем —ничто не сбило его с одинокого и гордого пути. Он предпочелриск и бедность. И никогда ни в чем не изменил своимидеалам. Он переживал трагедию России с такой страстьюи с такой силой, что она стала его личной трагедией и придалаего фигуре подлинное величие. Его высказывания о сутисоветского режима даже сегодня поражают своей точностьюи остротой. Его понимание исторической ситуации и того,что происходит в России, было удивительным.Дневники помогают нам понять философию Бунина. Вхудожественных произведениях он всегда облекал свои идеив образную и потому многозначную, а часто даже противоречивуюформу. Это служит источником многих споровсреди исследователей и толкователей творчества Бунина. Ноздесь, в дневниках, писатель высказывает свои самые заветныемысли в ясной, рациональной форме и позволяет проникнутьв святая святых его внутреннего мира.Удивительно интересны суждения Бунина о литературе.Его смелость часто граничит с кощунством, его пониманиетончайших нюансов, неуловимых простому глазу промаховили неожиданных удач — поражает. Именно это чрезвычайноразвитое и сложное художественное сознание позволилоБунину занять совершенно особое место в нашей литературе.Весь укорененный в традициях нашей русской классики,сам — последний наш классик, он в то же время стоитсовершенно особняком в нашей литературе, привнося в неенекую флоберовскую, французскую отточенность, строгостьи изысканность. Страстный враг декаданса и модернизма— не приемлемого им прежде всего, и в основном, поэтическим мотивам, — он в тр же время принес столько378
неслыханного в нашу литературу, что даже и сегодня ещепоражает своей новизной. Он сумел соединить в себе двавека — рыцарское благородство, высоту идеалов, романтическийполет старого искусства и болезненные сомнения,мятущееся беспокойство, поиск, эксперимент, стоическое отчаяниеискусства нового.Юрий МальцевДВУЛИКИЙЯНУСПеред нами увлекательная детективная повесть, основаннаяна фактах советской действительности начала 60-хгодов. Закат хрущевской эпохи. Ретивый реформатор рубитголовы дельцам «двойного дна», пытаясь найти очереднуюпанацею для оздоровления советской экономики. Смертоноснаякампания подминает под себя чьи-то свободы ижизни, но положение вещей не меняется ни на йоту. Потомучто советские законы можно, конечно, обойти, однако нельзяобойти законы жизни, законы человеческой природы исоциального бытия. В частности — законы обмена, торговли,предпринимательства, конкурентной борьбы и частнойинициативы.Книга обнажает мертворожденность доктрины социализмаи доказывает, что именно спрятанное в недрах системы«двойное дно», частный капитал и бизнес, помогли ейжить и выжить. Страна двулика, двулична. Обращенное кмиру ее лицо — это фасад, идеология, оболочка пустых лозунгов,лишенных реального содержания. Зато живо, жизненнои реально другое тщательно прикрываемое лицо. Еготовласти боятся, стыдятся и скрывают, как дурную болезнь.На худой конец изобразят существование бизнеса всоветском государстве как пережитки проклятого прошлого,но сутью системы... Помилуйте! Это же попрание святогосвятых!Заслуга Н. Гутиной в том и заключается, что она в непритязательнойформе стремительного детектива на совет-Нелли Гутина, «Двойное дно», изд. КАНЭ, Тель-Авив, 1967.379
ской почве сумела показать важное социологическое явление— мир частного предпринимательства и наживы как нормукоммунистического бытия. Показала она и другой, еще болеелюбопытный феномен, а именно: существование теснойспайки, некоего уродливого симбиоза между государственнопартийнойверхушкой и миром подпольного бизнеса. Проходящиепо страницам книги секретари обкомов, директоразаводов, все эти «Крестные», благословляющие рождениечастных предприятий и левой торговли и получающие за эточудовищной величины мзду, — вовсе не плод авторскоговоображения, но типичное и распространенное явление советскойдействительности. Кстати, прорывающиеся времяот времени, при самой тщательной маскировке, на страницысоветской печати факты их мафиозной активности — прямоетому подтверждение.«Двойное дно» — книга, которая раскрыла «тайноебратство причастных», однако немаловажно отметить, чтописательница никоим образом не порицает ни тех, ни других.Партийные боссы, как и воротилы подпольного бизнеса, ненарушают никаких законов, кроме возведенной в закон нелепойдвойственности экономической системы. Ставится прямойвопрос: что же такое по сути так называемое «экономическоепреступление», и получается недвусмысленный ответ:в государстве, которое само по себе является преступлением,подобные явления не являются преступлением, ноприспособлением человеческой натуры к неестественной средевыживания.Рыцари «двойного дна» и партийные «Крестные» у Гутиной,как правило, личности незаурядные, одаренные размахоми деловой сметкой, вызывающие симпатию и сочувствиечитателя. И они вызывают жалость, подобную той,которую вызывают красивые и сильные животные, заключенныев клетку зоопарка. Один из центральных героев книгиГлавный босс, прирожденный талантливый делец и организатор,который имел свою долю едва ли не во всех предприятияхобласти, созданных им на паевых началах с государством,с горечью думает о том, что свои планы и идеион никогда не мог воплотить сам. Всякий раз неизбежноеспаривание с властью вызывало острое чувство стыда,«будто за неимением женщины он совершал скотоложество».380
Партийные чиновники, в соответствии с концепцией автора,могут искренне ненавидеть капитализм с его «волчьимизаконами», но как люди трезвые, жаждущие толковой идейственной работы, они сознательно идут на сделку с подпольнымибизнесменами, понимая, что без них не обойтись.Общий язык, основанный на доверии и деловой спайке, находитсялегко. В среде партийных и подпольных боссовкурсируют такие, к примеру, разговоры: «Ленька Брежневне один год в делах крутился. В Днепропетровске ходилислухи, что работать с ним было легко... Хитрый мужик. Говорит— держи язык за зубами. В случае чего вытащим...»По-настоящему отвратительными, даже отталкивающимивыступают в повести представители ОБХСС и КГБ. Полицейско-карательнаясистема всех времен и народов былавсегда продажна. Однако в Советском Союзе она продажноомерзительна,ибо держится на лицемерном утверждении о«неподкупности наших чекистов». ОБХСС из отдела борьбыс хищениями и спекуляцией с неотвратимой закономерностьюпревращается в «нахлебника» противной стороны.Бизнесмена, упаси Боже, не надо искоренять, пусть живет иблагоденствует, чтобы стражи порядка могли с любовью изнанием дела его доить. Чиновники шутят: «Если бы подпольногобизнеса не было, его стоило бы изобрести». Гебист,вымаливающий деньги у приговоренного к смерти«Крестного», произносит душераздирающий монолог о несправедливости,царящей в органах, сотрудники которых обреченывозиться с так называемыми политическими, а нагреватьруки могут только работники ОБХСС.Подобно кадрам необычного документального кино протекаетв повести жизнь «двойного дна», когда зрителю вдруготкрывается, что в первой в мире стране победившего социализмаесть частные игорные дома, разгульные оргии, накоторых просаживаются сотни тысяч рублей, эйфорическиекурортные сезоны для незаметных в жизни людей, которымденьги магически открывают все двери и закрывают рты снеотвратимым вопросом: «Ваши паспорта». Здесь бизнесмены-лихачизаказывают оркестры для вокзальных приветствий,здесь стыдливые девушки из ансамбля «Березка»устраивают стриптиз перед номенклатурными партийнымибонзами...381
Однако странный этот мир призрачно-хрупок и в основесвоей трагичен. Шальные деньги просаживаются с надрывоми ощущением близкой гибели, их гораздо труднее скрыть,чем заработать. Раскрываются блеск и нищета подпольныхмиллионеров, жены которых с утра напяливают норковыешубы и вечерние платья и уверяют знакомых, что их украшения— фальшивые. Сладкая жизнь по-советски несет всебе огромный привкус горечи. Главное зло проистекает изузаконенной лжи, на которой здесь построена жизнь. Дельцамтрудно балансировать на грани, когда сотрудничатьопасно, а не сотрудничать смертельно, когда власти ждутумелого лицемерия сверху и тщательного камуфляжа снизу.А жизнь идет своим чередом. Лихорадочные кампании«по искоренению» сменяются годами временного затишья,советский потребитель, этот « полубуржуа-полунищий >>, попрежнемутратит себя в тщетной погоне за вещами, и попрежнемуподпольный бизнесмен с неотвратимой закономерностьюему эти вещи поставляет. Нежизненная, анемичнаясоциалистическая экономика лихорадочно ищет руку помощи,и экономика подпольная услужливо эту руку подставляет.Об этом и написана книга Нелли Гутиной.MMЖАЛЕЙТЕ СИЛЬНЫХ!Писатели хранили в России историческую память современ легендарного летописца Пимена. Писатели в Россиисоздавали не просто сочинения для услады слуха или глаза,но свидетельские показания перед «судом людским», историческим.Это можно считать недостатком русской литературы(она всегда была несвободна от поставленных самойсебе внеэстетических задач, несвободна по доброй воле).Можно считать ее особенностью. Но она развивалась врусле такой традиции. «Литература в России заменяла собойполитику и подготовляла ее», — заметил нелюбимыймною политик Лев Троцкий.Так было в самые лихие времена, когда творили Булгаков,Ахматова, Мандельштам, Лидия Чуковская, потом при-382Феликс Кандель. Первый этаж. «Оверсиз», Лондон, 1982.
шли Солженицын, Галич, Зиновьев, Высоцкий... Писали в«стол», если нельзя было напечатать, надеясь, что историяоткроет их столы и узнает правду — «о времени и о себе».Иногда кому-то удавалось прорываться на журнальныестраницы, на издательские полосы. Кто-то вел двойное существование— писал для заработка нечто нейтральное илиже правду, но вполголоса... Это не было двуличием: литература,как всякое ремесло, требует максимальной отдачи,это — работа, как всякая другая, ревнивая работа, не любящаядележа между собой и посторонними занятиями. Хочешьработать в ней, уходи в профессию, что-то кропай длязаработка, а попутно — созревает дело жизни.Среди тех, кто вел в Союзе «двойное существование»,был преуспевающий кинематографист-сатирик Феликс Кандель(напомню, что он один из соавторов самой знаменитойсоветской мультсерии «Ну, погоди»). Несколько лет назадКандель переехал из Москвы в Израиль, и тогда из его писательскогостола вышли на суд читателей одна за другойкниги, созданные «для памяти» еще в Союзе: «Врата Исхода»,«Зона отдыха», «Коридор»... Только что издательствоOPI (Лондон) выпустило четвертую московскую книгу Ф. Канделя,написанную ровно 10 лет назад, — роман «Первыйэтаж». Кончился ли тайный ящик одного из московскихстолов?Ф. Кандель — писатель городской, и персонажи у негобыли .городскими: еврейские отказники во «Вратах Исхода»,работяги в «Зоне отдыха», жильцы коммунальной квартирыв «Коридоре». Горожан он знает доподлинно, точнодогадывается, о чем они думают, да и весь быт их схваченв мелочах цепкой памятью москвича: па-де-катр, которыйкогда-то танцовали, и книги, которые любили (включаясенсационную некогда «Книгу о вкусной и здоровой пище»),и правила игры в дворовый футбол («Три корнера — пенальти»).И «Первый этаж» посвящен горожанам, но особым:крестьянам из поглощенных Москвой деревень. Одиниз них, дед, основатель семейства Никодимовых, когда переселялсяв Москву, попросил в райжилотделе «первый этажокнами на улицу» — как в бывшей деревне. Отсюда название— «Первый этаж»; о людях из деревни, ставших горожанами.383
Кандель знал досконально, о чем писал, и потому прозаего иногда производила впечатление хроники, живой зарисовки,хотя сам он творил вовсе не хронику, а сказы, насквозьорганизованные ритмами — ритмом строки, абзаца,главы.Новый роман заметно отличается от прежних. Мне, например,он нравится меньше «Коридора»: сквозь «материюпрозы» проглядывает конструкция, видна обдуманность врасстановке героев, в повторяемости сюжетных ситуаций сразными группами героев — нечто вроде «тестов» для испытанияперсонажей. Я не могу отделаться от подсознательногоощущения, что эта большая искусность (которая самапо себе, может быть, достоинство) возникла потому, чтокрестьянские персонажи духовно дальше от автора, чем«Полуторка» из «Зоны» или Костя Хоботков из «Коридора»,и Кандель смотрит на них не изнутри, как в прежний романах,а изучает извне, в действии, потому и ставит композиционныеэксперименты над задуманными фигурами...По традиции русская литература всегда жалела слабых,сочувствовала «маленьким людям». Кажется, Чехов сказал:«Мы должны быть адвокатами человека. Прокуроров и безнас хватает». В самом деле, чего заступаться за сильного,он и сам себя защитит, наше, писательское дело о слабомзаботиться! Но наступила советская власть, и внимание литературыпереместилось к сильному....Конечно, Кандель тоже жалеет слабых — полуюродивогоЕгорушку, мужа Ани Никодимовой, или того помешанногоиз больничной палаты, который, задерганныйжизнью и женой («добивайся своего! мужчина должен добиваться!»),вдруг «тронулся», «зациклился» на... расписанииэлектричек. Конечно, его сочувствие «деревенским в городе»вызвано также и тем, что они слабы в Москве, непривычнык новой жизни: «первое — жить им страшно... второе:на улицах боязно... третье: работа незнакомая... четвертое:заботы трудные... Кругом тебя люди живут, с пеленокк городу привыкшие. Крутятся волчком, изворачиваютсянаизнанку, раскидывают верткими мозгами. А эти —топчутся на месте, ворочаются медведями, угнаться никакне могут. Вот и выходит: жизнь у всех одинаковая, а живут— по-разному.Те — просто, эти — с натугой.»384
Но деревенские люди в изображении Феликса Канделявовсе не традиционные «несчастненькие» мужики из классическойлитературы.В свое время, размышляя о русской истории, Лев Толстойзаметил: перебирая ее страницы, постоянно читаешь,как грабили, как жгли, как разоряли. Всё правда, всё —факты. Но почему никто не задумывается: что разоряли?что грабили? Ведь для того, чтобы непрерывно с кого-тодрали семь шкур, нужно, чтоб эти семь шкур сначала были,чтоб они наросли, чтоб кто-то создал те бесконечные богатства,которые другие непрерывно грабят.Герои Феликса Канделя — это те самые люди, которыесоздавали богатства России. От природы они не обиженысилушкой, просто автор подстерег некоторых из них в годы,когда внезапно ослабели. Вот, к примеру, дед Никодимов:дорвался старик в городе до вкусной еды — впервые в жизниможет поесть в кафе «азу» или ветчинку, да пожирнее, истал он собирать мусор по помойкам, чтоб сдать его, получитьденьги и в кафе — покушать. Жутко читаются страницыпро старика, у которого отнимают лом и мусор конкуренты,жутко читать, как со страхом поглядывает он напионеров, вышедших в поход за «макулатурой», — вдруг иони отберут у старика его добычу, его право на мяснуюеду... Но пожалеть — дело простое, а вы вчитайтесь, скольков нем осталось нечеловеческого упорства в борьбе зажизнь и маленькие её удовольствия, сколько силы там, гдевы, читатель, давно бы свалились! И тогда вспомнится началоглавы, где автор обмолвился: деду бы в другое времяродиться, он бы разинским подручным был...Это упорство, эту способность преодолеть всё, но выстоять,выжить — как у того репейника, который побудилЛьва Толстого написать «Хаджи Мурата», — подметил Кандельи у дедова потомства. Вот Леха, дедов сын: по определениюавтора он «послабее». Именно те, кто послабее, сталив городе алкоголиками, и Леха — алкоголик, значит, слабак.Но в детстве его хвалила учительница в деревне: «Вырастешь— ученым станешь», с малых лет пахал и сеял, вармии всю лесотундру на брюхе исползал, а в 30 лет сломаласьжизнь — исчезла деревня, так он на токаря высшегоразряда выучился: «Запрятана была в Лехе великая сила:подыщи только ключик, отомкни замок с хитростью. Да385
никто не искал». И постепенно стал Jlexa в Москве — алкашом,матерщинником, дачуном, потом... Потом, в 43 года,это уже полутруп, и старенький фельдшер в вытрезвителеистошно кричит ему: «Вы вырождаетесь, люди! Что выделаете с собой!»Как ни странно, как раз слабым в том мире, где живутгерои Феликса Канделя, приходится более сносно: кто-то оних позаботится, кто-то пожалеет, поддержит. Слабому ещеесть к кому воззвать, на кого опереться: даже деда пожалелапродавщица утиля, приняла у него товар, несмотря на вывеску:«Приема нет» (только кричала: «Ты меня на жалостьне бери»)... Жалеет Егорушку Анна, жалеет Jlexy Клавдия,жалеет больного юрода жена. Но кто пожалеет, кто поможетсильным?Вспомнились строчки из поэмы Вл. Луговского «Берлин,1936»: про гитлеровскую Германию:— Нам говорил закон: жалейте слабых.Жалейте сильных, так я говорю.Отчаянье, отчаянье какое!...Бывают в истории такие страны: государство прогнило,а общество полно сил. Эти силы растрачиваютсявпустую, народ постепенно вырождается. Но стоит появитьсячужому охотнику до национального добра, которое какбудто совсем плохо лежит, и вдруг оказывается, что в больнойстране скрыта великая мощь, которую она не умелаиспользовать, губила. Горе врагу, который за внешним фасадомраспущенности и бездарности не разглядит накопленнуюэнергию нации! Такой была Испания в начале XIX века,разложенная, распущенная, битая и презираемая всеми вЕвропе и — внезапно сокрушившая наполеоновскую полумиллионнуюармию, едва лишь победитель полумира посмелвторгнуться на ее землю. Такой была и Турция, «больнойчеловек Европы», стоявшая против России насмерть подПлевной и насмерть дравшаяся у Шипки, Турция, что вопрекиволе Антанты, сохранила в XX веке за собой Константинопольи Эгейское побережье.В романе Ф. Канделя «Первый этаж» мы видим подобноеже общество: видим мертвую пасть города и сильных,работящих, волевых героев, «первый этаж» страны, вчерашнихкрестьян, превратившихся в сегодняшних горожан, ищущихприложения своим рукам, своим мозгам, своим навы-386
кам. Да дайте им только немного возможностей, да они, этиперсонажи Канделя, землю способны перевернуть! Прочитайтехотя бы про якобы «отрицательных» героев — промужика, соблазнявшего Клавдию, жену Лехи (да и про самуКлавдию), или про соседа, который жилы выматывает изАнны и Егорушки, выпрашивая у них землю под огород...От подобных людей шла в мир и сила добра, и от нихже упорная, корневая сила зла, сила угнетения. Ибо силасама по себе не нравственна или безнравственна — она простосила, и куда ее употребить — зависит от человека иобстоятельств. Как именно сила Никодимовых уходила иуходит во зло, как возникают паразиты и угнетатели надними, но ведь и из них же — это изобразил Кандель, написавЗою Никодимову, упругую и беспощадную хищницу,рвущуюся наверх, в «элиту».И всё-таки книга его оптимистична, ибо пока ползутвверх ростки былой деревни, вроде бы уничтоженной подкорень, ползут, продырявливая асфальт, до тех пор жива вавторе надежда на возрождение России, на конечную победужизни над смертью.И если жизнь победит и сильным людям будет открытвыход, и приложат они свои руки к делам, к земле, к просторамроссийским — вот тогда русская литература полностьювернется к своим традиционным функциям и начнетжалеть и защищать слабых — жертв тех, кто, увлеченныйсвоей мощью, снова начнет забывать о красоте, милосердиии Боге.М. Хейфец387
ИНТЕРВЬЮ С МАСТЕРАМИ«И в обжорном ряду,Там, где заваль кабацкая пела,Где сивухой разило,Где было от пару темно,/~с)е кричали дьяки:«Государево слово и дело!»Мастера христа-радиПросили на хлеб и вино».Дм. Кедрин «Зодчие»Немало книг на русском языке вышло в последнее время.Появляются новые имена, новые издательства. Правда, покаеще никто не подсчитал, сколько именно книг на русскомязыке выходит за пределами СССР. И тем более никто непроводил опроса читателей, не определял степень популярноститой или иной книги среди русской эмиграции.Некоторые новоизданные произведения отражают проблемысегодняшнего дня и вызывают временный интересчитателей. Другие касаются более серьезных вопросов иимеют шанс пережить своих авторов. Иногда можно встретитьи такие книги, которые интересны сегодня, но, несомненно,вызовут интерес и завтра, которые будут изучатьсяисториками и искусствоведами, специализирующимися напроблемах 20-го столетия.Именно к таким книгам относится сборник интервью смастерами культуры, выпущенный Беллой Езерской.Занимательна судьба этого сборника. Сначала многиеиз интервью были опубликованы в американской англоязычнойпечати и были отмечены в прессе. И лишь после этогоони стали достоянием русских читателей.Сборник называется «Мастера». Сюда вошли интервьюс крупнейшими деятелями современной культуры, которыев то или иное время вынуждены были покинуть свою родинуи оказались на Западе.Среди героев книги М. Ростропович и Г. Вишневская,Бел Кауфман и Э. Неизвестный, В. Максимов и И. Бродский,А. Гузик и Пановы, J1. Тарасюк и И. Шенкер. Судьбаэтих людей — это судьба русской культуры в советскую388Белла Езерская. Мастера. Нью-Йорк, 1982.
эпоху, культуры, гонимой властью, преследуемой и, в концеконцов, изгнанной. Эта книга, насыщенная дыханием времени,является еще одним свидетелем обвинения коммунизмана будущем суде истории.«Меня просто выгнали».МстиславРостроповичПервым в книге стоит интервью с Мстиславом Ростроповичем.Всего лишь несколько страниц, но до предела насыщенныхинтереснейшими мыслями о жизни и творчестве,о неотъемлемой связи нынешнего поколения с культуройпрошлого. За высказываниями о Чайковском, Пушкине илиШостаковиче встает мир самого Ростроповича, раскрываетсяего характер, его жизнь. Здесь не монумент великого музыкантанашего времени, а живой человек. Читая страницыинтервью, чувствуешь темперамент Ростроповича, слышишьинтонации его голоса, видишь его жестикуляцию. И в этом— мастерство автора «Мастеров». За скупыми строкамиинтервью Белла Езерская сумела показать обыкновенногочеловека и, одновременно, Человека с большой буквы. В открытостии ранимости героя интервью видится пушкинскийМоцарт, образ гения.Интервью с Мстиславом Ростроповичем — одно из самыхинтересных в книге.«Человек, уважающий в себе божеское и человеческое,не мо^кет жить в этой стране».Галина ВишневскаяЗатем следует разговор с Галиной Вишневской. И здесь— та же искренность высказываний, из которых вырисовываетсяобраз цельного, честного, сильного художника, бескомпромиссногочеловека и в то же самое время — образизящной женщины, преданной жены и матери. Удивительно,как удается автору книги Белле Езерской «раствориться»в герое каждого интервью, показывая выпуклые и яркиехарактеры, и одновременно с этим проявить и собственнуюавторскую индивидуальность, которая чувствуется во всем.Узнаваемы краски Езерской, которыми она рисует своихгероев, рисует как-то по-своему, по-Езерски.389
«Люди не хотят знать правду о себе. Человека, которыйнесет ее, они называют идиотом».Валерий ПановХудожник — не политик. Он скорее жертва политики.Далеко не всякий художник хочет быть политиком, но егочасто принуждают к политической борьбе, если он хочетсохранить свое человеческое достоинство. Интервью с Галинойи Валерием Пановыми, мастерами балета, пронизаноболью за прошлую их жизнь в Советском Союзе, где имприходилось больше заниматься политикой, чем классическимтанцем. Но со страниц интервью веет и радостьюих новой жизни, где их закрутил и увлек вихрь творческихисканий. Этот рассказ — еще одно обвинение тоталитаризму.Сколько же нужно таких документов, таких исстрадавшихсясердец, чтобы суть коммунистического деспотизмастала ясна не только его жертвам? !«За всю мою жизнь в СССР я только дважды имел отдельнуюквартиру: первый раз в Вильнюсе, в экспедиции Козинцева,и второй — когда я сидел в тюрьме».Леонид ТарасюкИнтервью с Леонидом Тарасюком читается как захватывающийдетективный роман. Археолога, которого интересовалалишь история старинного оружия, советская действительностьпревратила в непримиримого борца с нею же.Интервью с Л. Тарасюком заканчивается удачно найденнымсравнением его с поэтом, бунтарем, дуэлянтом и острословомСирано де Бержераком.«Что бы там ни говорили, а вся жизнь прошла в России.Очень тосковали. Потом привыкли. Полюбили Израиль. Мыздесь — дома. Это, пожалуй, главное».Анна ГузикАнна Гузик всю жизнь борется за еврейское искусство,за язык идиш. Она всю жизнь отстаивает право на свое национальноеискусство. Ее не сломили ни советский антисемитизм,ни равнодушие к культуре на идиш в Израиле. Она— Гоцмах, бескорыстный рыцарь театра из «Блуждающихзвезд» Шолом-Алейхема. Любовь автора книги к актрисе390
заражает читателя. Да и как не любить эту маленькую женщину,обладающую великим талантом.Это интервью, как и все другие, написано предельноискренно, честно и открыто. Без недоговоренностей. Мы,приехавшие недавно Оттуда, не привыкли к такому на русскомязыке. Там мы выискивали правду между строк, мы«догадывались», докапывались до истины, продираясь сквозьдебри словоблудия, трескучих фраз, сквозь пустоту, приправленнуюподобием мысли.Читая о мастерах в этой книге, мы читаем и о самихсебе. Это — наша жизнь, в которой все до глубокой болизнакомо. Это — наше детство и наша зрелость.Никак не хочется согласиться с авторской концовкойэтого интервью, в которой Б. Езерская называет Анну Гузик«блуждающей звездой умирающего еврейского театра». Вопервых,звезда уже обрела, наконец, свой дом. А во-вторых,очень не хочется хоронить еврейский театр. Хочется веритьв возможность его возрождения.«Уезжали мы очень комфортабельно. Мать пошла кТроцкому, сказала, что она дочь Шолом-Алейхема, и намдали отдельный вагон. Мы поехали в Ригу, а оттуда морем— в Америку».Бел КауфманИнтервью с писательницей Бел Кауфман, автором нашумевшейкниги «Вверх по лестнице, ведущей вниз», внучкойвеликого Шолом-Алейхема, стоит в книге несколько особняком.Дело в том, что у Бел Кауфман иной опыт, она не пережиласталинского террора и послесталинских зигзагов. Длянее Советский Союз — это Россия ее детства, вишневый садее старого имения, который теперь далеко и в котором, говорят,что-то там вырубили...Но поразительно, как крепка связь этой американскойписательницы с русской культурой!«Белла Езерская: Почему вы решили эмигрировать? Васне преследовали, не угрожали тюрьмой и ссылкой. Материальновы были вполне обеспечены. Иными словами — чеговам не хватало?391
Илья Шенкер: Я вам отвечу вопросом на вопрос: есливы заметили, что в клетке, где вас продержали всю жизнь,кто-то выломал несколько прутьев, неужели вы будете ждать,пока клетку починят?»Книга Беллы Езерской пронизана болью за страну, неумеющую ценить и беречь своих мастеров. Символическойфигурой Мастера, любовь к которому объединяет всех героевкниги, является Пушкин. Он как бы возглавляет гонимуюплеяду мастеров, неразрывно связанных с русской культурой.И он же — олицетворение непримиримого конфликтас властью, символ трагедии художника, физически (но не духовно!)уничтоженного родиной-матерью.Пушкин является героем многих полотен Ильи Шенкера,картины которого одновременно воспевают и отпевают Россию.В картинах Шенкера звучат сказки русского леса, рассказанныееврейским художником.«Я уехал от смерти — к жизни. От богатой и почетнойсмерти к небогатой и трудной жизни».Эрнст НеизвестныйЗа интервью с Э. Неизвестным встает образ человека,собравшего в единый кулак силу физическую и силу духовную,вооруженного целой творческой философией, творческойсистемой. Он — скульптор, творящий самого себя.«Пусть противостояние диктатуре начиналось с мучеников-одиночек,но их влияние на последующие поколения —огромно».Владимир МаксимовОбраз писателя и публициста Владимира Максимова данв книге как бы одной краской. Здесь художник уступил местополитическому борцу, деятельному и одержимому своейидеей. Интервью, пожалуй, несколько перенасыщено изложениемполитических взглядов героя. Маловато художественныхдеталей, которые могли бы показать многообразиехарактера. Впрочем, достаточно точно раскрывается то состояние,в котором находится герой интервью. «И вечныйбой...» Не разделение жизни на две половины: борьба — Тами чистое искусство — Здесь; а продолжение той борьбыЗдесь средствами искусства.392
«Я не очень хотел уезжать. У меня долгое время сохраняласьиллюзия, что, несмотря на все, я все же представляюсобою некую ценность... Для государства, что ли. Что ИМвыгоднее будет меня оставить, сохранить, нежели выгнать».Иосиф БродскийИнтервью с Иосифом Бродским — последняя глава книги.Жизнь поэта в эмиграции, вне его языковой среды, пожалуй,наиболее сложна. Многие хорошие поэты не выдерживаюттакого испытания и замолкают. Иосиф Бродский —один из немногих, продолжающих упорно трудиться, не изменяясвоей музе. Личность настолько сильная, он обладаетнеисчерпаемым источником художнической энергии, котораяпитает его собственное творчество. Ему, по его словам, нестрашен был вакуум Там, не страшен он и Здесь. Вопрекирешению советского суда о том, что Бродский не являетсяпоэтом, он был поэтом и останется им. Очень емко и глубокопоказанный Беллой Езерской образ художника и человека,твёрдого и своеобразного, великолепно завершает книгу.Неожиданна и смела последняя фраза интервью, последняяфраза всей книги:— А жить вообще — страшно. Вы заметили, чем всеэто кончается?В этом вопросительном знаке — образ нашего времени,и судьба мастеров.Связь героев этой книги очевидна. Нет, это не разрозненныеинтервью, собранные в одну книгу. Это — единоепроизведение, за которым — жизнь нескольких поколений.Без этой книги представление о нашем веке было бы не полным.Л. МинскийКнигу Беллы Езерской «Мастера» можно приобрести, пославчек или денежный перевод на сумму 9 долларов по адресу: 359 MadisonStreet, Apt. 2 В, New York, N. Y. 10002393
ЧИСТЫЙ РУЧЕЙ«Каталог» — это книга независимого Клуба писателейРоссии, созданного в Москве летом 1980 года. В нее вошлипроизведения семи авторов — Филиппа Бермана, НиколаяКлимонтовича, Евгения Козловского, Владимира Кормера,Евгения Попова, Дмитрия Пригова и ныне покойного ЕвгенияХаритонова. Все названные писатели — отнюдь неновички в литературе, почти все, как правило, мастера первоклассные,зрелые. Однако в наш парадоксальный век волеюсудеб они практически почти неизвестны широкому читательскомукругу России.После «Метрополя» это вторая попытка нонконформистскихсоветских писателей у себя на родине пробиться кчитателю. Впрочем, как и следовало ожидать, судьба «Каталога»в главных чертах повторила судьбу своего предшественника,то есть сборник был конфискован, авторы подверглисьгонениям, а книга вышла за границей для болееили менее избранного круга, для будущего и, так сказать,для вечности. Присовокупим к этому, что две из отменных«Москвабургских повестей» Евгения Козловского уже опубликованыв «Континенте», что издательством «Ардис» выпущенсборник рассказов Евгения Попова, а также романФилиппа Бермана «Регистратор». Роман же ВладимираКормера «Крот истории» получил в 1979 году в Париже первуюпремию имени Даля.Послесталинское время надеждами поманило, а послехрущевское— все надежды отняло. «Каталог» — это зеркалопоколения, пришедшего в советскую литературу в бескрылуюбрежневскую эпоху, в семидесятые годы, когда дляписателя истинно честного и бескомпромиссного, не пожелавшегоотдать душу живу в жертву идеологическомуМолоху, остался единственный мученический путь молчанияи писания в стол, о чем горько сказал Николай Климонтович:«...в чистой рубахе, с закатанными рукавами,веревка намылена и подводят тебя».При большом стилистическом разнообразии произведений— от метафизического психоанализа до подчеркнутогобытописательства и натурализма — прослеживается их об-394«Каталог». Сборник. Анн Арбор, «Ардис», 1982.
щая критическая стержневая целенаправленность. Диктуемаявременем новизна формы не снимает существенного ине убирает с повестки дня набившего оскомину понятиякритического реализма. Если писатель воистину хочет изображатьразвернутую перед ним реальность — в данномслучае будни тоталитарной супердержавы 80-х годов ХХ-гостолетия, то при всем желании он не может живописать ееотстраненно.Трое из названной семерки авторов — Е. Козловский,Н. Климонтович и Е. Попов, — рисуя такую реальность,уже не только критикуют и обличают, но бичуют и проклинают.Обнаженней всего эта тенденция проявилась в повестиЕ. Козловского «Маленький белый голубь мира». Ее сюжетпрост и страшен: герой делится с женщиной недозволеннымимыслями, она на него доносит, КГБ выписывает егоиз Москвы, то есть лишает жилья и работы, и человек в прямоми в переносном смысле слова исчезает из жизни.Герой Козловского не лукавит и не прячется, он умеетназывать вещи своими именами. Для него голубь мирапо-советски — это прожорливая пташка, склевавшаяпол-Европы, добрый кусок Азии и направляющая победительныйклювик в сторону Африки. Герой повести,скромный и застенчивый Иван Александрович, по сутидела — сам автор, над которым постоянно висит Дамокловмеч возмездия за крамольный образ мыслей. Этоперед ним, застывшим на камском берегу, уже вставали неотвратимовидения зловещих лагерей по другую сторонуреки с их кошмарами и мукой, это именно он очутился тогдав Москве на Кузнецком, в изящном старинном особнячкеособого назначения на гибельной грани бытия и небытия.Недавний арест — и горестное «покаяние» — писателя подтвердиливещее предчувствие.Исследователи современной советской неподцензурнойлитературы справедливо отмечают иронию как характерныйдля нее стиль, тон и прием мышления, причем подчеркиваяэто как слабость авторской позиции. Ирония как стиль мышленийокрашивает помещенные в сборнике рассказы Е. Поповаи пьесу Н. Климонтовича «Отъезд героя». Если же судитьпо-настоящему, то это уже и не ирония, а настоящая сатира,и как такова она свидетельствует не о бессилии писателей передлицом действительности, а наоборот—об их силе, об ощу-395
щении полного права не только расхохотаться в гнусное лицожизни, но при желании от души в него плюнуть. Впрочем,разговор этот особый.Евгений Попов начисто лишен каких бы то ни былоиллюзий в отношении советского бытия. Он с удовольствиеми не раз проведет параллель между годами шестидесятымии восьмидесятыми, но придет все к тому же выводу,что ничего по сути дела не меняется, что извечная бреннаянаша жизнь идет своим чередом, что обманная хрущевскаяоттепель с евтушенковскими верещаниями о «вечной Москве17-го года» совершенно естественно перекатится в гнилыебрежневские заморозки, только знамением времени станутне целина и кукуруза, а цинковые гробы (известно откудаприходящие) да зловещие похоронки.Пьеса Николая Климонтовича «Отъезд героя» пq силеписательского дарования, глубине и образности (да не убоимсяавторитетов!) не уступает чеховским. Здесь сравнение сЧеховым и правомерно, и оправдано. Место действия—Россия— и главный герой — русская интеллигенция — осталисьпрежними. Изменилось лишь время. На счетах историиотщелкалась почти сотня лет. Но каких лет! Была Россия, астала советская Россия — понятие не только противоположное,но и вообще иное.Ах, потерянная, надрывно-элегическая интеллигенциячеховских времен! Могла ли ты вообразить своих потомков,воспитанных эпохой «зрелого социализма», такимиобезьяноподобными, гнусными рвачами? Для их обрисовкикак нельзя более кстати пришлись приемы фарса, гротеска исовременного абсурда. Лишь по поводу единственного персонажапьесы,. Машеньки, автор заметит, что у нее «очень человеческоевыражение лица». А другие? Одни едут урыватьблага «в арабскую страну» — заметьте, в арабскую, а не какую-либоиную; их знакомые одновременно с первой, третьей...десятой женой отправляются отдыхать в Дом творчествана Пицунду. Но над душами владычествует единоебожество — Дефицит: дубленки, джинсы, модные пластинки...Реалии сегодняшнего дня — прописка в Москве... кооператив...коммуналка... недалеко от метро... с телефоном...в магазине давали..., ради чего герои пьесы, все эти скульпторыБеловы, архитекторы Красновы, поэты Мишеньки иГришеньки творят монументы макулатуры и созидают про-396
екты (тоже знамение времени!) кабульского ипподрома.Авторы «Каталога» сознательно или бессознательно нетолько уходят от дежурного пафоса соцреализма, не толькоразвенчивают его, но и стремятся противопоставить емувсесилие мелочей, неумолимость быта и жуткую властьдрязг повседневной жизни.У Владимира Кормера в его «Хронике случайного семейства»время действия — война. Уж что-что, а ВеликуюОтечественную советские писатели ухитрились поставить напьедестал настоящей святости. Тут горящие сердца, и правоедело, и священный всенародный гнев. В. Кормер спокойноотодвигает в сторону эти гремящие доспехи. Его интересуютпрежде всего люди, глубинные пласты их бытия и то подлинное,что коренится в их сознании. А в сознании и в необычноевоенное время коренилось все то же: прописка...соседи... коммуналка... с паркетом, без паркета.В. Кормер дегероизирует войну. Война войной, а жизньжизнью. Обыкновенный советский человек женится (так ужслучилось!) на какой-то сомнительной бабенке из подмосковногобарака. А прописан-то он в Москве! А поди разбери,ради чего она вышла замуж — ради него самого илиради прописки? Ужас! Мать с отцом в эвакуации, сам он —на фронте, все — в ситуациях исключительных, однако письма,которые и являются подлинной тканью произведения,полны все тем же мелким и кому-то смешным, а кому-тововсе не смешным страхом: ради прописки или не ради прописки?Философские основы бытия у писателей брежневскойстылой поры зыбки, непрочны, лишены даже намека на идеалы,на какую бы то ни было определенность. Полнее всеговыразила эту философию формула Дмитрия Пригова: «Всея выдумал. И себя тоже! Весь мир выдумал. Я ни в чем неуверен и ни за что не ручаюсь». Задушенный несвободой,он вроде бы даже как-то кликушески прославляет ее. А всерьезли?Нам всем грозит свобода,Свобода без конца.Без выхода, без входа,Без матери-отца.397
Может быть, поэтому и Евгений Харитонов, излагаясвое кредо, уже с совершенной серьезностью заявляет, чтоединственная свобода, которой не надо бояться, это внутреннийзакон писателя. Внешний же закон, то есть несвобода,которая царит на Родине, — незыблем и прав, и ему необходимоподчиняться. Он не разрешает печататься — превосходно!Смысл в том и состоит, что лучше всего не печататься.«Нет, — заключает Харитонов, — если нас не накажут,если внешний огонь нас не опалит, мы погибли дляславы».Хочется верить, что писатель только с горя написал такоеи был бы рад-радешенек, если бы его печатали на родине.А иначе бы не стал публиковаться в «Каталоге» и вместес товарищами просить в письме в Моссовет и в ЦК, чтобысборник напечатали хотя бы в количестве 300-500 экземпляров.Единственным исключением в общей философии безысходностии безверия, которой пронизан сборник, является,пожалуй, позиция его составителя Филиппа Бермана. В кафкианскиисступленных, монотонных вещих снах его «Регистратора»,несмотря ни на что, проводится мысль, что смыслсуществования есть и что заключается он в Любви в высшемпонимании этого слова. Земля и есть то место, где пробиваетсяее божественный исток, и если Провидению былоугодно сюда поместить людей, то они должны стремитьсябыть ближе к истоку. В этом их назначение. Живое пространствои живое время, подводящее итог пребывания человекана Земле, становится средоточием творческого поискаписателя. Его построения в чем-то умозрительны и поройнаукообразны, но привлекают биением живой ищущей мысли.Каталог — слово сухое и библиотечное. Но ведь без негоневозможно обойтись в необозримом книжном океане. Нынчев этот океан влился еще один маленький ручеек... А завтраеще и еще. Главное лишь в том, чтобы чистой воды былиручейки, — а этот, по нашему убеждению, чист.М. Михайлова398
ЧУЖАЯ ДУША...Новый роман Леонида Ржевского — смелая и интереснаяпопытка исследовать или, вернее, проследить взаимоотношениямежду двумя волнами эмиграции — послевоеннойи последней, «третьей». Выражение «смелая» — не преувеличение:действительно, писателю приходится идти наопределенный риск, когда он решает свое произведение наоснове событий слишком свежих, исторически не устоявшихся,почти журналистски злободневных. Но, пытаясьотыскать в романе побудительные причины, приведшие кего созданию, мы натыкаемся на такое страстное желаниеавтора понять и постигнуть всю сложность взаимоотношениймежду двумя поколениями соотечественников, имеющимиодну и ту же исходную и конечную точки судьбы, чтосразу и немедленно обнаруживаем в этой страсти источникписательской дерзости.Может быть, именно нарывающая свежесть темы, еевременнбе присутствие радом и вокруг подтолкнуло Ржевскогона решение ее не столько в плане фабульно-действенном,сколько в плане нравственно-психологическом. Конфликтпоколений, дебютирующий как некое априорное неприятие,которое «отцы» пытаются разумно объяснить иобосновать, внезапно оказывается призрачным, в реальностине существующим.Сергей Сергеевич, в котором это поколение воплощено,— человек желчный, бескомпромиссный, непримиримый —поначалу никак не может питать доверия к недавнему эмигрантуДиме: не столько благодаря каким-либо личным Диминымкачествам или поступкам, сколько благодаря некоемушлейфу брезгливости, который тянется для Сергея Сергеевичаот приезжающих на различные конференции тупыхсоветских деятелей к недавним выходцам «оттуда». Первоеощущение: «они из одного теста». Сергею Сергеевичу видитсяв Диме внутренняя агресивность в сочетании с самоуверенностью,нарциссизмом (он говорит — не нарцисс, аподсолнечник, для русской почвы более уместный, отсюда иназвание романа).Всякий раз, встречаясь с Димой, Сергей Сергеевич неЛеонид Ржевский. Бунт подсолнечника. «Эрмитаж», Анн-Арбор,США, 1981.399
может победить в себе органического раздражения, котороевызывает в нем этот человек. Он становится брюзгливыми едким до грубости, тем более что никогда не был особымпоклонником соблюдения правил приличия.И внезапно все меняется. Сергей Сергеевич узнает, чтобыл знаком с родителями Димы, что отец Димы умер практическина его руках и благодаря его смерти Сергею Сергеевичуудалось бежать из немецкого концлагеря, а спасла егомать Димы, память о которой прошла через всю его жизнькак память о несостоявшейся любви.Этот неожиданный сюжетный поворот мог бы выглядетьмелодраматическим, если бы ему не была отведеначеткая роль: роль символа. Символа тайной и непреложнойсвязи между детьми одной земли, каков бы ни был их возраст.Дело только в том, в каком лагере они оказались. Этатайная связь может вдруг обнаружиться в чисто реалистическомсовпадении, какие много чаще, чем романы, сочиняетсама жизнь. Но она может и не обнаружиться вещественно.Она может остаться в только Богу одному открытых анналахсудеб, биографий — человеческой истории, в конечномсчете. Дело не в этом. Дело в пуповине, связывающей и СергеяСергеевича и Диму с родной землей, а через эту землю —и друг с другом. В конце концов Сергей Сергеевич понимает,что и нарциссизм Димин тоже призрачен. Что он постояннона грани бунта — против окружающего, против прошлого,против будущего — против себя самого. Что Дима ему —сын, что он ему кровный.Третий герой романа — рассказчик, не принимающийнепосредственного участия в действии, а являющийся свидетелеми наблюдателем, воплощает в себе тот самый духпримирения, прощения, кровной связи и покоя, которыйЛеонид Ржевский считает единственным настоящим прибежищемИстины. «Мы с тобой одной крови — ты и я» —этот романтический клич означает для него родство духовное,родство боли, родство ненависти и нежности.В романе много историй — любовных историй по преимуществу,включаемых в него на правах отступлений, играющих,однако, роль, как правило, символическую.Так, две самостоятельные новеллы — повесть, написаннаяСергеем Сергеевичем, и повесть, написанная Димой, —составляют параллель: в обеих герои разрушают, убива-400
ют собственную любовь, с одинаковой ясностью понимаютэто и с одинаковой глубиной мучаются непоправимостьюошибки и вины. Тот факт, что первая из новелл принадлежитперу человека из поколения «отцов», а вторая — перучеловека из поколения «детей», подчеркивает общность их,стирающую все возможные конфликты между поколениями,ибо эти конфликты могут найти хотя бы компромиссныерешения, а проблемы, трагически неразрешимые, самойбезнадежностью своей толкают только на признание родстваи связи.Обе повести автобиографичны, так что перед нами ещекак бы возникает и бесконечность зеркальных отражений,повторяемость судеб, повторяемость вины, повторяемостьраскаяния, повторяемость безнадежности, ибо никакое раскаяниепрошлого не воскрешает. И одновременно — круговаязамкнутость жизненной реальности и литературного вымысла,где непонятно, когда кончается одно и начинаетсядругое, а скорее даже — между жизнью и литературой нетзазора, ни даже легкого подскока, ни разбега: они перемешиваютсянезаметно и неисправимо.И принадлежность к разным эмиграциям оказывается вэтом контексте мелкой деталью, случайностью, не имеющей,в сущности, ни малейшего значения, ибо потери и страданияне различают ни границ, ни среды воспитания, ни образовательногоценза, ни даже политической принадлежности:только система нравственных ценностей одна играет здесьроль, и коль скоро она едина для обеих сторон — сталобыть, и стороны едины.Роман Леонида Ржевского привлекателен своей добротой.Он, разумеется, не претендует служить сборникомрецептов от всех земных печалей, но он зовет к внимательномувзгляду в глаза ближнего. В глаза — и в душу, иботолько незнакомая и чуждая душа — потемки.В. И.401
ЕСТЬ ЛИ У НАС «СОЮЗНИКИ»?Не так давно в одном из польских подпольных изданийавтор, публицист весьма интересный (я встречала другие егостатьи), написал о том, что единственный «наш» (в данномслучае подпольной «Солидарности» и «Солидарности» вообще)естественный союзник на Западе — это левые. Разумеется,не коммунисты, но левые. Я не буду ни приводить егоаргументацию, ни спорить с ней, потому что сейчас меняинтересует другое: не где находят союзников, а сам тотфакт, что движения Сопротивления на Востоке, их участникипытаются искать и находить — или думать, что нашли, —союзников на Западе в виде организованных политическихсил, а правых ли, левых ли — это уже зависит от ориентациичеловека, группы, течения. Одни уверены, что нас непременноподдержат некоммунистические левые партии (преждевсего, социал-демократы), уже пришедшие к выводу, что советскоготипа «реальный социализм» — не социализм, итолько в Сопротивлении видящие надежду на «подлинныйсоциализм», который, в конце концов, на Востоке (как вовсем мире!) должен установиться. Другие ждут поддержкиот правых, т. е., по нашему представлению, антикоммунистическихпартий, плотиной ставших на пути социализма как«реального», так и ирреального. И только обжившись иоглядевшись на Западе, обнаруживаешь, что поддержки исоюза ждать неоткуда, кроме как от отдельных людей. Отмногих. Но отдельных. Объединяющихся для совместныхдействий, но отдельных. Разнящихся по своим политическимвзглядам и симпатиям, но не связанных «линией партии»(таковая — свойство не одних компартий).Книга Владимира Буковского «Письма русского путешественника»— в большой степени об этом. Отдельнымлюдям, мерзнущим у посольств с лозунгами и листами петиций,он возносит заслуженную ими хвалу. Пожалуй, можносказать, что они-то и есть тот свободный мир, которыйраньше нам представлялся в виде гораздо более мощногоВладимир Буковский. Письма русского путешественника. Нью-Йорк, Chalidze Publ., 1981.Владимир Буковский. Пацифисты против мира. Париж, «LaPresse Libre», 1982.402
единого фронта демократических обществ, парламентов,партий, правительств, готовых насмерть стоять за свою —а значит, и за нашу — свободу. Книга Буковского шире поставленногомною вопроса о «союзниках» в прямом политическомсмысле. Ее тема — «свободный мир» глазами «русскогопутешественника» (путешественника из будущего?).Союзник ли? И — идеал ли?Книга была написана по заказу французского издателя,и, как я знаю, Буковский некоторое время сомневался, издаватьли ее по-русски. Издательский-то замысел был — показатьЗападу его же, Запад, свежим и острым глазом пришельцаиз Владимирской тюрьмы. Однако я думаю, чтоглавный читатель этой книги, читатель, которому она особеннонужна, — там, в России, в Восточной Европе. Этакнига — хорошее лекарство против иллюзий, а наши иллюзиио «свободном мире» почти так же опасны, как в ономсуществующие — о мире коммунистическом.Книга Буковского — того же происхождения, хотя иноготона, что инвективы Солженицына. И то, и другое — не«антизападно», не против Запада, но против его серьезных,разнообразного происхождения слабостей, которые способныдовести до того, что Запад останется Западом лишь вкатегориях географической долготы. Прежде всего, разумеется,слабостей, связанных с тем самым коммунизмом, который«у всех на виду — и не понят».Политические силы Запада Буковский делит не столькона «правых» и «левых», сколько на «силы мира», с однойстороны, «силы прогресса и социализма» — с другой, смешноразложив триединую формулировку. И тем, и другим невыгоденполный и глубокий анализ советского строя: дляодних — это традиционная Россия, варварская империя царейс партбилетом в кармане, и партбилет почти ничего неменяет, для других — успешный, полууспешный или искаженный,неудачный эксперимент на единственно правильномпути. И для тех, и для других мы, пришельцы, русские (и нетолько русские) путешественники, — мало что не союзник, апрямое неудобство, раздражение, помеха на пути к приятнымзаблуждениям. Как пишет Буковский, для одних —кость в горле, для других — нож у горла. Нас могут использовать— то, чтоб поставить галочку в партийных отчетах(«и мы дали слово диссидентам»), то, чтоб ударить нами403
по своему политическому противнику, особенно если партия,правая или левая, находится в оппозиции. Придя к власти,то есть, в том числе, к необходимости строить не демагогическую,на сокрушение противника, а реальную «восточнуюполитику», а значит — «не выманивать медведя из берлоги»,о нас «вдруг» забывают. Мэр города Лилля Пьер Моруа в80-м году принял нас с Буковским. Правда, по настояниюместной группы Международной Амнистии. Правда, приембыл достаточно формальным. Но местная пресса об этомнаписала, и политический капитал от этого имел он — немы. Став премьер-министром Франции, он о «диссидентах»ни разу не вспомнил. Только американские президенты даупрямая Тэтчер позволяют себе встречаться с «отщепенцами»,играя против хорошо привитых континентальной Европеправил.Я отметила уже, что от пророческих инвектив Солженицынакнигу Буковского отличает тон. Публичная речь и записки,письма, заметки — они и должны быть разными. Буковскийвыбрал жанр, в высшей степени ему свойственный.Еще в «И возвращается ветер...» вместо связной и последовательнойавтобиографии (которую, по его мнению, писатьеще скучнее, чем читать) он применил фрагментарное повествование,с перекидываниями во времени, с отступлениямив размышления. Не рассказ даже, а разговор. В новойкниге этот жанр еще окреп, и читатель живо чувствует себясобеседником, прямым адресатом «писем». Некоторая даженепоследовательность, противоречивость аргументации —свойство жанра. Буковский не строит строгую и стройнуюконцепцию — он подводит итоги первым годам своего пребыванияна Западе, размышляет и припоминает у нас наглазах. А собеседник он — из самых интересных, заставляющихдумать, вносить свое неслышимое читательское участиев идущий разговор.По-иному — как прямая публицистика — написана последняякнига, точней даже — брошюра, Буковского «Пацифистыпротив мира». Стоит, вероятно, сказать несколькослов о ее истории. Перед лицом безумного размаха пацифистскогодвижения в Западной Германии Даниэль Кон-Бендит(в прошлом вождь майской «студенческой революции»68-го года в Париже, а ныне — «неорганизованный левый» вГермании, из тех самых «отдельных» людей) попросил Бу-404
ковского написать статью о пацифистах для издаваемого имжурнала. Чтоб не удручать переводчиков кириллицей, Буковскийнаписал статью по-английски, и впервые она былаопубликована по-немецки. Затем, в сокращенном виде, онапоявилась в лондонской «Тайме», после — наоборот, расширенная— вышла отдельной книжкой по-французски, и воттеперь, в переводе автора, по-русски.Сам замысел публицистической статьи для журнала требовалкраткости и ясности. Буковский не занимался исследованиемсвязей тех или иных деятелей пацифистского движенияс КГБ (это сделал теперь Дж. Баррон в своей новойкниге «Манипулируемые пацифисты») — он ограничилсятолько тем, что доступно каждому, что было опубликованов «открытой печати». Доступно-то каждому, только, выясняется,не каждый умеет и хочет читать. За год до «стихийных»пацифистских демонстраций Всемирный Совет Мира,организация, так сказать, «международная советская», издаетточные директивы о том, как конкретно эта «стихийность»будет выглядеть. Щепочка, сносимая пущенным изшлюза потоком, искренний пацифист, борющейся противамериканских ракет в Европе, думает, что движется по своейволе. А шлюз открывается и закрывается по расписанию,составленному в Кремле.Жизнь написала грустный эпилог сразу к обеим книгамБуковского — «силы мира» из норвежского Нобелевскогокомитета обошли премией мира Jlexa Валэнсу и «Солидарность»,увенчав ею двух «офицеров разоружения», чьих именмне запомнить не удалось.Н. Горбаневская405
.ЧЕРЕЗ ЛЕТУ«Мост через Лету» Юрия Гальперина получил премиюимени Даля за 1981 год. Писать об этом приятно, как приятнописать и о самом романе? — или повести? Автор подзаголовкомутверждает: «практика прозы». На обложке ититуле, в качестве определения жанра, это вызывает недоумение:что такое практика прозы? Попытка? Ученическоеупражнение? Подмалевок? Закрыв последнюю страницу,вопросов больше не задаешь — все ясно.Практика прозы — это попросту (если только можнов данном случае употребить слово «попросту») жизнь в прозе,существование в прозе. В литературе. В искусстве. Втворчестве.Романы, в которых писательское ремесло выступает вкачестве основного персонажа, удаются очень редко. Ничегоудивительного в этом нет: творчество есть тайна, великая инеизъяснимая, и как только ее пытаются изъяснить, то естьописать словами, то есть построить нечто вполне осязаемое,а стало быть, материальное (и, значит, по всем правиламтеории литературы: завязка-кульминация-развязка, образылинии-конфликты-действие),так сразу творчество-геройпревращается в нечто бессвязно шамкающее, субтильное,кривляющееся или, напротив, — в мускулисто-вульгарное иразвязное донельзя. Может быть, будь Юрий Гальперинписателем «со стажем», он бы никогда не решился на такоебезумное предприятие. Он бы, может быть, взвесил все «за»и «против», посоветовался бы с коллегами, и коллеги бысказали: «Не надо, старик. Приложишься мордой об угол.Ты мяконько лучше, мяконько. Полегче. По-простому». Ион бы, может, послушался. И не было бы у нас «Моста черезЛету».Но автор, слава Богу, не знал, на что он руку подымал.Ринулся в воду, не знавши броду. И — больше чем выплыл,больше чем сухим вышел: выдохнул настоящую книгу.О чем в ней говорится, в этой книге, рассказать нельзя— все будет неправда. Фабула, очищенная от мяса прозы,будет здесь неправдой. Фабула и важна и неважна одновре-Юрий Гальперин. Мост через Лету. Практика прозы. «Оверсиз»,Лондон, 1982.406
менно. Она могла остаться такой или стать совсем иной,непохожей, — это не имело бы никакого значения. Значениеимеет — как. Как писатель Юрий Гальперин сумел написатьотраву писательства. Проклятие писательства. Распятиеписательства. Предательство и подлость писательства. Эгоизмписательства. И еще великое множество всяких вещей,страшненький и пьяный корень которых прихоронен в писательстве.Основной прием в книге — зеркальная перспектива. Тоесть бесконечное число отражений, возникающих в висящихдруг против друга зеркалах. Единственная для человека возможностьнаглядно представить себе бесконечность. Бесконечность,которую не вместить и не рассказать. Даже иотражения в зеркалах перенести трудно. И тем не менее...Есть герой книги — писатель, называемый там Автор.Автор пишет книгу о писателе, называемом там Писателем.Один пишет повесть, в которой другой о себе рассказывает.Оба — от первого лица. Каждый включает другого в сферусвоего реального существования. Автор общается со своимперсонажем-Писателем как с лицом вполне одушевленным иявно желающим ему, Автору, зла, ибо никак не может развиваться,действовать и вообще жить нормально. Писательклянет Автора за то, что он его не так написал. Что не написалему покоя, и ясности, и знания. Полного знания — какнадо. И над их постоянной схваткой, то мучительной, товодевильной, то вовсе кухонной, стоит еще один герой: тожеавтор. Тоже писатель. Юрий Гальперин. Как един бог в трехлицах. Но о том и речь. Речь и идет о Боге в трех лицах,потому что если продолжить в бесконечность эти отражения,то мы и придем — к Богу. К Автору. К Писателю. КТворцу.И если на этом месте у нас не начнется головокруженияи не потечет липкий пот от непосильного, на которое толкаетнас автор, если достанет сил и разума пойти обратно,отсчитывать наоборот, то мы придем к неизбежному: в каждойиз двоящихся, троящихся — короче, делящихся бесконечно,в безумной геометрической прогрессии творцов естьчасть или частичка, кроха (там уж как кому попадет) Творца.Это ничего, что мысль не новая. Мысль — она и есть мысль.Идея. Одно дело сказать, другое — показать. Написать.407
Гальперин — написал. Он написал литературу (или творчествовообще), которая не есть идея. Которая не есть цель.И, стало быть, лишена даже тени утилитарности. Литературабесцельна, как жизнь. Она и есть жизнь, особая форма жизни.Особая форма существования Духа. Особая форма проявленияДуха. Особая форма молчания Духа. Знак великогоПрисутствия. Вот если бы в сфере литературы задать сакраментальныйвопрос: «Есть ли жизнь на Марсе», то сразуможно было бы ответить: «Есть». Везде есть. Дух дышит,где хощет.Из того, что сказано выше, можно было бы вообразитьсебе, что Гальперин написал процесс творчества как дар,посылаемый избранным, элите. Но он и не споткнулся обэстетство или снобизм — и по двум причинам: во-первых,потому, что не побоялся написать этот дар как источниквеликого страха, вечного страха, загоняющего писателя' вугол, в пьянь, в забытье, в дебош, заставляющего его тотоптаться на месте, то делать осторожные пассы — и всепо кругу, по кругу, с самим собой в прятки, в дурацкие считалочки,в младенческие слезы; и, во-вторых, потому, чтотворцом назвал и читателя. Если писание есть жизненнаяфункция, то и чтение тоже. Читатель тебя видит как хочет.Как видит. Писатель для него — тоже текст. Как захочет —или как сможет, — так и прочтет. «Дурак ты, — скажет емуписатель, — ничего ты не понял». — «А пошел ты... —отзовется читатель. — Не твое дело». Так они и останутся— на равных. И ничего с этим не поделать.Еще одна простенькая мысль: сотворчество читателя.Но обволочь ее живой мякотью не так уж просто. И у Гальпериначитатель возникает не как со-творец, а еще страшнее— как творец. Творец отдельный и самостоятельный, отписателя не зависящий. Это в книге не только Сеня-бармен,специально с той целью и написанный, это еще и Автор,внутренне читающий свое произведение, это и Писатель,читающий Автора (как он его, Писателя, написал); это иПисатель, читающий (рассказывающий) свой сценарий ит. д. То же зеркальное отражение. Та же бесконечность. ОтКосмоса — до тополиной пыльцы. От Бога — до человека.Или, вернее, — от Бога до литературного персонажа.Всё — творчество. Параллель множественному автору:создание. Девушка на экране, героиня фильма «Колдунья».408
Героиня фильма — актриса Марина Влади — девушка поимени Марина, подруга писателя. Еще один переплыв персонажав реальность — без единой задержки, без неловкогозаикания. Смерть девушки на экране — смерть девушки вжизни. Но раз фильм можно перемотать на начало и крутитьзаново, и она снова будет живой — почему нельзя вжизни? И Писатель-Автор, Автор-Писатель разворачиваетжизнь, перематывает, воскрешает. Любовь, девушку Марину,Колдунью с экрана. Все возможно.Это и есть — мост через Лету. Весь вопрос в том, чтотам, за мостом. Каждый решает его по-своему, каждый обязательнорешает его по-своему: свобода, данная Богом человеку.Божественная свобода. Для Гальперина нет «до» и«после» моста. Есть Дух, который дышит, где хощет. И,стало быть, можно — самому ли перейти, ушедшую ли вернуть,но — вполне осязаемо, если ты способен осязать дыханиеДуха. Мост — способность к творению, к сотворению, косязанию, к ощущению. «Наклон слуха».И тогда неважно — Харон ли тебя перевез, ухмыляясь,за полтинник, или ты по пьянке сам переплыл — не вспомнить,или разведенные мосты специально для тебя свели, аможет, ты перепрыгнул ее, эту Лету, — все неважно, потомучто все возможно. Человек робок, и нелюбопытен, и ленив,как известно, и потому ему, как правило, недосуг увидетьБога в себе. Но вот подымается в нем нечто властное, огромное— много больше его самого, много крупнее его,несчастного, в вечном поту от страха, в вечной тоске поодиночеству и в вечном ужасе перед ним, и в вечной мелкойсуетне, и погоне за любовью, и бегстве от любви, — подымаетсяв нем, трусливом разрушителе, громада — Творец, ион — ах, муравей! — переходит через Лету и возвращаетсвою любимую (им же оскорбленную, преданную и убитую),всех своих любимых, себя, жизнь, дыхание, дух... Бога.Но у нее же — у этой странной функциональной способности,только ему из всего живого в мире и присущей —ему, человечку, человечищу, Человеку, — есть в свою очередьеще одна способность: выворачиваться наизнанку, оборачиватьсязлом. В книге — как в жизни, как в муке, как впытке — нет между двумя этими сторонами творчества,доброй и злой, ни овражка, ни трещинки — все слито в одно.409
Ибо уж если дан человеку дар творения, то как же емуустоять перед соблазном поторговать? Кусать-то хотца! Исочиняет Писатель сценарий для телевизионного фильма пробелых и красных, в котором надо ему непременно изобразитьподростков, как их пытают и убивают. Таких благородныхборцов за правое дело, малолеток, умирающих средикрасных вспышек с красными возгласами на устах. Не дремлетбес и соблазняет малых сих (не детей, а писателей). Ивот у Гальперина воюет Писатель с собой, и с Автором (итот в свою очередь). И побеждает Добро. И Писатель посылетк чёрту сценарий вместе с гонораром и договором. Иоставляет в живых требуемых к закланию детей. И тогдаони появляются. Живьем. (Все тот же прием: персонажиматериализуются и существуют на тех же правах, что и автор.)Восемь малолеток возникают из небытия, чтобы набитьсобственному автору (то есть родителю в некоторомроде) морду. И не только морду. И при этом произносятслова, нежным детским устам не подобающие. Все это онипроделывают с видимым наслаждением. И тем, в свою очередь,заставляют писателя сделать открытие: если они действительножили и умирали в том времени, которое он всвоем сценарии описывал, то только так они и выражались.И били — так. Герои отомстили автору за предательство.Еще один соблазн: сделать творчество, писательствокумиром. И этого соблазна не избежал Писатель (и Автор).И не заметил Любовь. И бежал от Любви. И предал. Иубил. И в этом он — здесь и там. До моста — и после. СБогом — и с лукавым. В сияющем величии — и в зияющейбездне. И если есть в романе то, что можно назвать конфликтом,то — вот он. Всемогущество и бессилие, из которыхсоткан человек, тварь Божья. Тварюга. Блеск и нищетакуртизанок, так сказать.Последний герой, о котором нельзя сказать, как он нипрозрачен, ни призрачен, — август. Август. Август, написанныйпоразительно, с той же реально ощутимой возможностьюкоснуться его, с какой написан мост через Лету. Внего можно открыть дверь, войти, гулять, толкнуть, оттолкнуть,запереться. С рубенсовскими телесами, тяжкий,душный, стоячий. Август, через который надо продираться,как сквозь дремучий лес; август, делающий одиночествокруглым, в самом себе законченным, единым и неделимым.410
Август, отнимающий разум. Август, требующий наготы.Царственный август, в мантии август. Отрава. И мальчикикровавые...Кажется, что Юрий Гальперин возник уж как-то оченьвнезапно, чёртиком из бутылки. На самом деле так думаетсяо каждом талантливом человеке, о каждом талантливомпроизведении. Мы всегда оказываемся к нему не готовы,потому что мир представляется столь знакомым и исхоженнымлитературой вдоль и поперек, что не верится, будтокто-то в состоянии открыть в нем нечто новое. Но вот приходитнастоящий писатель — и мы признаем, что захваченыврасплох. Между тем, писательская манера Гальперина лежитв русле сегодняшней молодой прозы, бросающейся ототкровенного документализма до откровенного же ирреализмав дерзостной попытке воплотить все сразу: мир в себе,себя в мире, Вселенную в капле росы, гимны и стенания,и дьявольский хихик, и яростную брань, сильно облегчающуюдушу, и самое душу, которой, хоть убей, не обойтисьбез брани.Мы все не судьи, мы все правы и не правы. И все жея позволю себе сказать, что «Мост через Лету» принадлежитк произведениям, которые остаются. По редкостной красотесвоей. По редкостной чистоте звука. По странному, живущемув книге, блуждающему по ней свету. А может быть, этопросто свет любви. Этакая радуга. Мост через Лету.Виолетта Иверни411
Александру Александровичу ЗИНОВЬЕВУ исполнилось60 лет.Его работы по формальной логике («Очерк многозначнойлогики» и особенно «Основы логической теории научных знаний»)оказали значительное влияние на формирование современнойнеклассической логики, хотя в сегодняшних советскихусловиях развитие этого направления в логической науке постояннотормозится идеологическим надзором. Так, группаучеников профессора А. Зиновьева распалась в результатепрямого и грубого вмешательства властей в ее работу.Первая книга А. Зиновьева, вышедшая на Западе, —«Зияющие высоты» — представляла собой сатирико-социологическоеисследование советского общества. К этому жежанру Зиновьев возвращается неоднократно в последующихсвоих книгах. Особняком среди работ А. Зиновьева стоитроман «Светлое будущее». Тут, сохраняя присущий ему стильгротеска, Зиновьев отбрасывает прием аллегории и пишет посути реалистическое произведение о судьбе советского либеральногоинтеллигента 60-х годов, показывая то, что некогдаА. Белинков назвал «сдачей и гибелью» его. Гротескный символсоветского общества, гигантский Лозунг выступает туткак самоцель и как цель существования государства, одновременноявляясь и средством наведения конформистскогопорядка в стране.Во многих статьях своих А. Зиновьев, объясняя своепонимание сущности коммунизма, предостерегает Запад отиллюзии относительно того, что «здесь будет иначе». «Поройдаже противники коммунизма приписывают многие отрицательныеявления коммунистического образа жизни российскимусловиям... надеются на 'коммунизм с человеческимлицом'», — пишет А. Зиновьев в книге статей «Коммунизмкак реальность», в которой он доказывает со всей логикойпрофессионала, что коммунизм повсюду одинаков и не зависитот национальных особенностей. Остается надеяться, чтоЗапад услышит предостережения такого рода, исходящие изсамых разных кругов людей, испытавших на опыте и «ибанизм»,и «Систему».Редакция и редколлегия «Континента» поздравляютАлександра Александровича Зиновьева с шестидесятилетиеми желают ему дальнейшего плодотворного продолжения еготворческой деятельности.
Коротко о книгахГ. ФЛОРОВСКИЙПУТИ РУССКОГО БОГОСЛОВИЯ. Второе издание.ИМКА-Пресс, Париж, 1981Книга протоиерея Георгия Флоровекого «Пути российского богословия»написана в 1937 году. В русской богословской и философскоймысли она занимает особое место, и ее переиздание можно безпреувеличения назвать событием. Дело прежде всего в том, что этотфундаментальный труд занимает несколько особое место: на фонеявного перекоса в сторону так называемой «софиологии», эта книга,рассказывающая по сути дела всю историю русской духовной культуры,оказывается неким островом традиционного православногобогословия, стоящего в резкой оппозиции к пошедшим от ВладимираСоловьева вариациям своеобразного гностицизма, подменявшимв начале века чисто богословские концепции, идущие от самых корнейправославия — от святоотеческих писаний. Как справедливопишет в предисловии к этому изданию о. И. Мейендорф, для автора«основной смысл занятия патристикой заключался в том, чтобынайти верный ключ к соотношению между светской философией ибогословием». Этот ключ, с его точки зрения, был неправильноопределен «софиологами». И действительно, не только с В. Соловьевымполемизирует о. Георгий, но и с С. Булгаковым, и — особенно— с мистическим ригоризмом и переходящей в крайностипочти фантастической позицией о. Павла Флоренского. Автор постоянноподвергает испытанию и труды софиологов, и более ранниеработы: пробным камнем для него всегда служит вопрос, в какомотношении к «православному эллинизму» стоит тот или инойфилософ и насколько он сумел преодолеть искушение эклектическогосочетания новомодных течений с чисто богословским ходоммысли. Так, греческие (византийские) отцы, сумевшие отказаться отчуждых христианству элементов в философии, отбросившие дажесвоего учителя Оригена, являются для него примером того, какимдолжен быть методологический подход к изучению религиозноймысли разных времен.413
«История русской культуры, вся она в перебоях, в приступах,в отречениях или увлечениях», пишет он, напоминая о том, что иБердяев (которого о. Г. Флоровский ценит очень высоко, не смешиваяс его друзьями-софиологами) говорил, что для русской истории«наиболее характерны расколы и катастрофические перерывы».Он все время ищет истинного синтеза, и посему не приемлет эклектикив принципе — касается ли это никоновских времен или началаXX века, с его романтическим эклектизмом софиологов. Эта эклектика— следствие того, что он называет «повышенной чуткостьюи отзывчивостью» русского сознания, которое, с одной стороны,легко впитывает, осваивает и развивает все лучшее, что созданолюбой из мировых культур, а с другой — склонно подхватыватьи то, что еще не отстоялось в истину. В конце книги он называетэто свойство «врожденным романтизмом» нашего духовногосклада.Само истолкование святоотеческих писаний старшими современникамио. Георгия вызывает у него возражения, но он никогдане полемизирует — он лишь утверждает то, что считает истинным,а уж выводы о том, насколько его концепции противоположныбулгаковским или соловьевским, читатель должен сделать сам, ибоимена тех, с кем в полемику вступает эта книга, в ней даже не названы.По сути дела и полемики нет — есть утверждения, приняв которые,мы логически вынуждены отбросить софиологию. Но еслипуть соловьевской мысли представляется туманным и сомнительным,то о. Г. Флоровский предостерегает и от другой крайности —от примитивизма, от так называемого «возвращения к элементарнойнародности», идти на поводу у которой означало бы утратитьвековые ценности.«Не возвращение к родному примитиву, скорее выход в историю,освоение вселенских преданий» — вот что он считает наиболеесущественным в дальнейших путях богословской мысли и приводитпо этому поводу знаменитое высказывание Н. Бердяева:«Народ, простецы в значительной массе своей уходит в полупросвещение,в материализм... интеллигенция же, верхний культурныйслой возвращается к христианской вере». И, начиная с кризиса русскоговизантизма, проследив и противоречия XVII века и два столетияпослепетровской России, автор подходит к «серебряному веку»,с которым спорит, не принимая его романтико-философских ходов,пытающихся, по его мнению, подменить традиционное богословие.Книга, по словам автора, «задуманная как опыт историческогосинтеза, опыт по истории русской мысли», имеет своей целью «не414
столько истолкование прошлого», сколько попытку «творческогоисполнения будущего».РУССКОЯЗЫЧНЫЙ НЬЮ-ЙОРК. 1982Изд. В. Чалидзе, Нью-Йорк, 1982Среди многочисленных путеводителей по Нью-Йорку явно нехватало одного: русского «бедекера». Усилиями книгоиздательстваВ. Чалидзе пробел этот, наконец, восполнен. Только что вышелиз печати справочник-«бедекер» — «Русскоязычный Нью-Йорк.1982». Попытки как-то охватить жизнь русского Нью-Йорка, правда,предпринимались и раньше, но, увы, из сферы экспериментовони не вышли. Путеводитель В. Чалидзе — крайне своевременноеи нужное издание. Девяносто шесть страниц книги дают каждомубогатую информацию о всем том, что нужно «душе» и «телу»: отосвещения культуры и искусства русской части города до пикантностиореховых соусов, приправленных кинзой и гранатовым соком,— специальности ресторана «Кавказ». Есть в путеводителе и информацияо помощи для престарелых эмигрантов, и о судах мелкихпретензий, и о трудоустройстве и юридической помощи.И все же «Русскоязычный Нью-Йорк. 1982» далек от совершенства,точнее — информация его зачастую носит строго селективныйхарактер, что, конечно же, снижает ценность справочника. Возможно,однако, что причины определенных замалчиваний кроются тольков финансовых вопросах. Быть может — поскольку за рекламу впутеводителе нужно платить. И все же думается, что, коль скоро в«бедекер» попало издательство «Детинец», упускать из виду издательства«Серебряный век» и «Руссика» не следовало бы. То жесамое относится и к русской периодике города. Сейчас в Нью-Йоркеиздаются пять русских газет, но справочник нашел место лишь длядвух из них. С русскоязычными журналами, выпускаемыми в Нью-Йорке, увы, такая же ситуация. Да и с книжными магазинами,картинными галереями у справочника пока явные нелады.Издательство В. Чалидзе, однако, обещает, что «РусскоязычныйНью-Йорк. 1983» будет содержать много новых и полезныхсведений и статей. Хотелось бы, чтобы эти слова не разошлись сделом, чтобы обещания стали реальностью.415
По страницам журналовВЗГЛЯНУТЬ и понятьПеред нами книжечка журнала типа «тонких». Обложка строгаяи лаконичная: на белом фоне синий телеобъектив, пронзающийземной шар. Если дано обозреть, то дано и понять. В октябре текущегогода вышел первый номер «Обозрения», аналитического журнала,который будет издаваться при газете «Русская Мысль», расширяяее, обогащая, освещая вопросы экономики, политики, истории,науки и литературы нашей страны.Главный редактор нового журнала, известный ученый-историк,автор выдающихся трудов по истории Советского Союза АлександрНекрич в обращении к читателю пишет, что появление «Обозрения»совсем не случайно. Оно вызвано невероятно возросшим интересоммировой общественности к историческим судьбам России.Поэтому сотрудничать в издании станут выдающиеся ученые мира,чьи изыскания связаны с темой настоящего, прошедшего и будущегоСССР.Западные советологи завязли в лабиринте постоянно возникающихи рушащихся мифов о советском экспансионизме как исконнойагрессивности России, запутались в попытках применить к советскойдействительности стандарты и модели западного общества,они не заметили главного и непреложного факта, что смена руководствав Кремле происходит рутинным путем.Наступила, наконец, пора начать изучение советской системы вцелом, прийти к исследованию причин поддержки этой системы западныммиром, понять причины умелой эксплуатации ею социальныхнужд других народов и дать анализ ошибок и промаховЗапада в его взаимоотношениях с Советским Союзом. Вот почемукардинальной темой нового издания стало исследование причинсилы и слабости советской системы.Одна из интереснейших статей журнала, в которой обнаруживаютсяпопытки философски-объемно развернуть анализ причинименно силы этой удивительной, дотоле не известной человечествусистемы, принадлежит писателю Владимиру Максимову. От-«Обозрение», Аналитический журнал «Русской Мысли», № 1,октябрь 1982.416
правная точка его положения заключается в том, что тоталитарнаясистема является «порождением фундаментальной болезни новейшейистории — логократии», то есть всесилием власти слова.Это чудовище, — отмечает автор, — «возникло в атмосфересоциальных мифов, политических клише, классовых суеверий и психологическиххимер». Генеральный вывод — разрушить чудовищелогократии можно лишь его же собственным оружием, то естьсловом. Сила этой системы в вещи парадоксальной и у Запада отсутствующей— в наличии пусть ложной, но все-таки историческойконцепции и пусть мифической, но исторической цели.Писатель советует западным ученым-советологам перестатьломать себе голову над хитроумными выкладками относительно советскихпретендентов на власть — она все равно строится по западнойпрограмме, — и серьезно заняться выработкой новых идей иконцепций на основе уже сложившегося в России и Восточной Европеопыта.Ответом на этот призыв Максимова можно в некоторой степенисчитать статью профессора Гарвардского университета и директораРусского исследовательского центра Адама Улама. Он повторяетуже изложенную выше мысль, что советский режим основанна фикции и неправде, и полагает, что лишь единство Запада итесное сотрудничество между западными странами может заложитьи основы подлинного мира, и лучшее будущее самого СоветскогоСоюза. «Не будь советский режим страшен, он был бы попростусмешным», — иронизирует А. Улам и подчеркивает вновь, что сутьпроблемы не в том, что делает Кремль, а в том, что должен делатьсам З^пад, которому надо разрушить то состояние ни мира, ни войны,что длится с 1945 года и так выгодно советским правителям.Специалистов, перед взором которых стоит феномен советскойсистемы, в первую очередь волнует вопрос, насколько она жизнеспособна,живуча, так сказать. То, что организм этот болен, видноневооруженным глазом. Вопрос ставится в плоскости — как болен?Смертельно или болезнь эта вялотекуща и может тянуться долгимии долгими десятилетиями?Большинство исследователей склоняются скорее ко второмупредположению. Профессор социальных наук Австрийского университетаТомас Ригби приходит к выводу, что, хоть советская системаи патологична, она, тем не менее, жизнеспособна. Для ученого парадоксальноименно то, что разъедающий ее национальный и классовыйантагонизм и коррупция как бы придают ей силу. Во-первых,правящий класс прекрасно знает об этих явлениях, а потому ведет417
себя осторожно, не рискует и не доводит до крайностей. Во-вторых,советские порядки отлично прижились среди нерусских народовСССР, так что повсюду установилось нечто вроде круговой поруки,и, в-третьих, коррупция-то как раз и удовлетворяет те потребности,которые иначе остались бы неудовлетворенными. Согласно Т. Ригби,радикальные перемены в стране в обозримом будущем маловероятны.Экономист, научный сотрудник Гарвардского университетаБорис Румер проводит исследование советской системы с чистоэкономической точки зрения и цитирует недавнее высказываниеБрежнева, который назвал базар «барометром экономической жизнирайона». Знаменательно! Ведь произнеси он подобное несколько летназад, его бы сочли сумасшедшим. Советская экономика совершенноразрушена плановой системой. И вот теперь происходит любопытныйпроцесс инстинктивного, стихийного самосохранения хозяйства.Руководители, как к спасению, бросились к личной инициативе.Теперь огромную роль стал играть полулегальный и нелегальныйрынок — его смертельно боятся и, тем не менее, поощряют власти.По мнению ученого, проводящееся смягчение ограничений в областисельского хозяйства будет продолжаться и дальше. Во всяком случае,нелепый пароход советской экономики, хоть ему и предрекаютскорую кончину, вопреки всему может долго держаться на плаву.Итак, вывод все тот же: звериный инстинкт самосохраненияпостоянно наталкивает советских руководителей на новые и новыепути выживания системы. Они всегда найдут лазейку и вывернутся.Поэтому опаснейшая для Запада ситуация — сидеть сложа руки инадеяться на развал режима изнутри. Советские находятся в постояннойи активной деятельности, и не дай Бог Западу остаться вразъединении и бездействии — они его сомнут и растопчут. Выделяя,подчеркивая, повторяя это положение, редакция журнала бесспорносодействует выработке той самой позитивной концепции, окоторой писал В. Максимов.Живущий за рубежом польский журналист Станислав Людкевичпосвятил свою статью «На волне нравственных исканий» анализупроцессов, происходящих в современной советской официальнойлитературе. Он утверждает, что в ней за все время ее существованияеще не было периода, чтобы литературная макулатура могла окончательноуничтожить свежую струю. Сейчас эта струя представляетсяЛюдкевичу особенно сильной и целенаправленной, ведется напряженнаяборьба за расширение свободы творчества и углубление418
нравственных начал, борьба, конечно, в рамках дозволенного, нотем не менее весьма нелегкая и весьма небезопасная.В завершающем журнал разделе «Документы» представленыинтереснейшие протоколы допроса командующего 19-й Армией, генерал-лейтенантаМ. Ф. Лукина в штабе немецкой группы армий«Центр». Прошлое нашей родины в освещении беспристрастном иоснованном на фактах, будет, надо надеяться, неизменно представленов «Обозрении». Без анализа прошлого нельзя понять настоящегои будущего. Тяжело раненный пленный советский генерал сказалтогда, что если немцы действительно хотят изменений в России,то они силой должны опрокинуть власть большевиков. Сам народ,обескровленный сталинским террором, сделать этого не в состоянии.И подобных М. Лукину, благородных, умных и честных русскихофицеров, отклонявших сотрудничество с противником, но ненавидящихсоветскую власть, было еще тогда, в 1941 году, великое множество!А сейчас? Задача нового аналитического журнала «РусскойМысли» «Обозрение» в том и состоит, чтобы, привлекая к участиюв издании выдающихся специалистов, отвечать по мере возможностина этот и на массу других насущных и острых вопросов, волнующихчитателя. Надеемся, что журнал в этом преуспеет.М. М.ОСЛЕПИТЕЛЬНАЯ МЕЧТА,ИЛИ РОМАН-ПАРОДИЯ(«Молодая гвардия», 1980, №№ 3-6)Уморительную пародию написал Ал. Казанцев! А московскийжурнал «Молодая гвардия» напечатал. И не просто каких-нибудьвосемь-десять едко ироничных строк, высмеивающих огрехи мыслии пера некоего незадачливого рифмоплета, а солидный, страницна триста роман «Купол надежды», неторопливо, со знанием делавводящий читателя в саму лабораторию создания так называемого«образцово-показательного творения самой передовой литературымира».Роман не только многостраничен, но и многопланов. Действиеего легко и непринужденно переносится с материка на материк, иэта широта охвата действительности дает возможность авторублестяще продемонстрировать технологию отработки классического419
сюжета, раскрывающего, как известно, борьбу двух миров, двухсистем, ivlnp прогнившего капитализма в романе-пародии оченьтонко и убедительно представляет — нелепой бессмысленностьюсвоих действий — продажный журналист Генри Смит. За ним,согласно писаному и неписаному канону, маячит фигура Брокка,«золотого мешка», главы синдиката «Броккорпорейшн», пуще всегов жизни боящегося конкуренции (это намечено с искрометным остроумием!)Троицу дополняет тривиальный уголовник Мурильо.Впрочем, в тривиальности его есть своя изюминка — дескать, воткого изображают опорой «свободного предпринимательства». Спародированыобразы эти очень точно, покоряя читателя своей подчеркнутойнехудожественностью.Противостоит им, естественно, другой лагерь — возглавляемыйсоветским академиком Анисимовым, ученым, вступившим в седьмойдесяток своей жизни, мудрым и любвеобильным, походящим,как не без иронии замечает автор, на былинного героя ДобрынюНикитича. По правую руку Добрыни — самоотверженно-бескорыстный(улавливаете усмешечку писателя?) секретарь парткома научногоинститута Нина Ивановна, по левую — молодой растущийнаучный работник Аэлита, по совместительству — протягиваетсяеще одна гротескная нить! — будущая жена положительного нетолько в научном, но и в мужском смысле былинного академика.Фабула романа строится по принципу каскада и лавины (одновременно!):преступная троица всячески, но безуспешно стремитсяпомешать благородной устремленности поступков Добрыни и егославного воинства. Тут фантазия автора щедра, безудержна и достигает— не побоимся громких эпитетов! — высот пародийной несуразности.Темп развития фабулы так стремителен, что иногда неуспеваешь даже насладиться всем изобилием изощреннейших пассажей.Но некоторые просто врезаются в память — так они зримыи ярки. Вот в Анисимова стреляют на улице большого американскогогорода, а затем хватают его и везут в неизвестность, то бишьв тайное логовище преступников, где пытаются выведать у неготайны «белковой бомбы»; вот бомбы — не белковые, обычные, —подкладывают в чемоданы, чтобы взорвать самолет, на котороммчатся честные труженики науки; вот взрывают ледовый дворец вАнтарктиде — главное детище крылатой анисимовской мысли; вот...впрочем, сатирических высот повествование во многом достигаетблагодаря контрастной четкости сюжета. Автор широко используеттут «прием преувеличений», и новый Добрыня далеко за собойоставляет своего сказочного предтечу. Вот он по целинному снегу420
легко скользит с Эльбруса; вот он в бараний рог скручивает двухвооруженных бандитов; вот он на себе вывозит с «поля брани»своего раненого сподвижника; вот он... но уже было сказано, чтобогатство фантазии романиста-пародиста так велико, что всегоне упомнишь и обо всем не расскажешь!Но одну подробность все же отметим: вот же, и этого не упустилмастер-сатирик, не преминул съязвить, что академик силен нетолько по части рацио, не только физически, но и духовно-художественно!Он, так сказать, воплощение, идеальный оттиск со стереотипа«гармоничного нового человека». А посему он и скульптор отменный,и поэт-лидик тончайший, и знаток музыки глубокий. Ктому же он полиглот и спортсмен.А об идеалах его и говорить не приходится. Ведь весь романныйсыр-бор и разгорелся оттого, что Анисимов додумался, как облагодетельствоватьту несчастную часть человечества, что зовут обычно«Западом» и что мучается в тисках постоянного кризиса, сопровождаемого,как нетрудно догадаться, совершеннейшим отсутствиемпродуктов питания и полнейшим провалом жилищно-строительнойполитики. Анисимов же решил проблему блистательно-дерзко —и в этом, конечно, соль пародии! — мечтая, предуказывает он, охлебе и молоке, не на сельское хозяйство надо уповать, а на особыебактерии; не из камня и бетона надо строить, загадывая в местахпривычных о крыше над головой, а из полярного льда в Антарктиде,где 50°-ный мороз создает наилучшие условия для труда ибыта. Чудо-богатырь Анисимов успешно реализует свой проект,расправившись с Генри Смитом и его прихвостнями, и в полномсоответствии с памфлетной логикой переселяет в антарктическиешироты первую когорту счастливых советских граждан!Ал. Казанцев вообще не боится острых углов. Он не останавливаетсяв растерянности перед необходимостью разоблачениясамых грязных инсинуаций иных образцовых романистов. Дажеантисемитские выпады не остались у него безнаказанными. Не побоялся,ввел в свою сатиру некоего Геннадия Ревича, некогда партизана,вынужденного волею обстоятельств в юности сражаться сфашистами, но зато теперь, в мирное время, вовсю раскрывающегосвою мелкую, торгашескую душонку. И как всё это ненавязчиво,без нажима спародировано! Не сказано, поди, что Ревич еврей, а,как и в некоторых кондовых романах, лишь намекается — понимай,как знаешь, суди по фамилии, не будь непонятлив.Да, значительный вклад в сатирическую литературу внес Ал. Казанцев.Удалось ему собрать воедино и представить читательскому421
взору все разнообразие литературной лжи, всю убогость фальшииных творений «мастеров культуры». Давно уже, как говорится,подобная пародия стучалась в двери «образцового реализма»!P. S. Но вот загвоздка. В «Литературной газете» (1981, 28 янв.)напечатана рецензия на роман Ал. Казанцева. Рецензент вполнесерьезно (неслучайно «работа» его называется «Реальность фантазии»)разбирает роман, без смеха судит об образах положительныхи отрицательных и, кажется, вовсе не замечает пародийнойнапрвленности «Купола надежды»... А вдруг и впрямь Ал. Казанцеви не помышлял о пародии? А вдруг и в самом деле он создал«выдающееся произведение образцово-показательной романистики»— выдающееся даже в этом ряду своей примитивностью, безвкусицей,нагромождением злобных нелепиц? Неужто и такое возможно?..Но тогда автор все же чего-то недоучел, дав «произведению»своему раздражающе-двусмысленный подзаголовок «роман-мечта».Ведь того гляди, могут подумать, что дела в стране его не Бог вестькак блестящи, что кушать хочется, а вся надежда на бактерии? Ижить людям где-то надо, а уповать приходится лишь на антарктическиельды? Впрочем, такой «пародийный прорыв» — в замыслы«серьезного писателя» Ал. Казанцева никак не входил.Иерусалим М. Вайнштейн422
Наша анкета«РУССКИМ ПОЖАР»Разговор с директором итальянской газеты«Иль Джорнале нуово» Индро Монтанелливедет публицист Дарио СтаффаД. Стаффа: Оппозиционные круги в СССР и в другихвосточноевропейских странах знают и ценят то внимание,с каким «Иль Джорнале нуово» относится к проблемамСССР и «социалитом,что политические и социальные процессы, про-стического лагеря» вообще идемократического движения вчастности, и ту тонкость, скакой он эти проблемы освещает.Не мог бы ты уточнить,в какой степени это вниманиеявляется следствием вполнепонятных соображений чистожурналистского характера ив какой степени оно, напротив,вытекает из твоеголичного убеждения и убеждениятвоих сотрудников висходящие в СССР, имеют огромное значение длянастоящего и будущего всего мира. И не кажется литебе знаменательным тот факт, что твой соредакторЭнцо Беттица является также членом редколлегии«Континента»?И. Монтанелли: Ни в коем случае нельзя сказать,что речь идет только о чисто журналистском интересе,хотя конечно, к сожалению, все новости должны находитьсебе место на страницах газет. Но здесь, несомненно,есть нечто более глубокое: убеждение, что в СССР423
идет крупная игра, игра, от исхода которой зависят судьбымира. Это бесспорно. Представь себе, что системаоказалась бы удачной. Тогда несомненно уже ничегонельзя было бы поделать: весь мир стал бы коммунистическимв силу самого примитивного здравого смысла.Что могли бы мы, антикоммунисты, иметь противсистемы, хорошо функционирующей? Это ясно, неправда ли? Однако есть и другая сторона медали:тот факт, что эта система не функционирует и что огромнаясоветская империя переживает кризис, не можетне иметь последствий драматических или катастрофических,не знаю, как определить их, во всякомслучае, очень важных последствий также и для миранекоммунистического.Д. С.: Я согласен с тобой, когда ты говоришь окризисе системы, то есть, точнее, о ее банкротстве вплане экономическом. Тем не менее, это не помешалоимперии разрастись, распространиться. Не видишь литы в этом некоторого противоречия?И. М.: Нет, не вижу в этом противоречия, потомучто в свое время Аттила тоже расширил своюимперию. Сила позволяет расширяться. Но скольковремени продолжается экспансия? Экспансионизм Аттилывовсе не был продолжительным. Я не хочу сказать,что русские — это тот же Аттила. СохраниБог! Кое-что они все же несут. Но я хочу сказать следующее:раз система не функционирует, значит мыдолжны прийти к выводу, что эта экспансия временна.Эта временность будет исчисляться, вероятно, десятилетиями,но, в конце концов, я уверен, что способностьк расширению у Советского Союза сегодня основанацеликом на военной силе. А завоевания, держащиесятолько на одной лишь военной силе, всегда временны.Это, конечно, не исключает того, что наше поколениеможет быть сметено этой силой, но теперь уже нельзяотрицать того, что сегодня уже нет больше опасностикоммунизации всего мира. Как бы то ни было, я счи-424
таю, что русские представляют собой жизненно важныйэлемент для цивилизации Запада. Коммунисты —нет, но русские — да. Культура, воображение, смекалка,находчивость, русская талантливость и русскаяжизненная сила и т. д. Для Европы, для Запада, ужевялого и не творческого, особенно для Запада европейского,я думаю, инъекция «варварской» силы, первобытной,подлинной, такой, как русская, будет оченьполезна.Д. С.: Я хочу вернуть разговор к вопросу о времени.Ты говорил о временности советского экспансионизмаи настаивал на этом. Так вот, мне кажется,что для СССР характерны темпы исторической эволюциигораздо более медленные, чем для остальногомира, западного мира, я хочу сказать. История Запададает нам пример темпов прямо-таки лихорадочных,но эволюция, или динамика, поскольку первый терминимеет значение позитивное, совершается гораздо болеемедленно.И. М.: Несомненно, в России ход истории гораздоболее медленный, потому что это жесткая склеротическаясистема; можно сказать, что теперь ужерусская империя — это воплощение самого убогогоконсерватизма. Я думаю, что настоящие консерваторыДолжны были бы все сегодня переехать в СССР,там они нашли бы для себя рай, то есть, я хочу сказать,нашли бы общество склеротизированное, как былежащее в гипсе, не позволяющее никакой эволюции.Без сомнения, историческая динамика России идет шагамигораздо более медленными, чем наши, и к томуже совершается она путем взрывов*. И я боюсь, что. * На наш взгляд, это утверждение весьма спорно. Думается,что политическая и социальная эволюция после декабристов, а вособенности следом за реформами Александра Второго развиваласьслишком стремительно для такого консервативного и духовнонеокрепшего общественного организма, каким была тогдашняяРоссия. Употребляя остроумную метафору Уинстона Черчилля,425
поскольку в СССР нет эволюции, или во всяком случаеэволюция эта слишком медленна, в какой-то моментона примет травматический характер.Д. С.: Я вижу, что твой взгляд на советское обществомало чем отличается от взгляда французскогоисторика Эмманюэля Тодда, который в своей книге«Окончательное падение» утверждает, что единственнымвыходом из этой системы может быть лишь взрыв.Короче говоря, система эта — как паровой котел,который, когда давление переходит допустимый уровень,может взорваться в любой момент. Тодд, крометого, считает, что взрыв этот имел бы трагическиепоследствия для всего человечества, и приходит к выводу,что в интересах Запада постараться предотвратитьэтот взрыв или, по крайней мере, попытатьсявсеми возможными средствами отдалить его. То естьзападный мир должен помогать нынешнему советскомурежиму удерживаться. Разделяешь ли ты эту точкузрения?И. М; К таким заключениям я не прихожу, новсе же они меня искушают, я думаю об этом часто,идея эта мне кажется спорной... К чему она ведет?Хорошо, мы будем помогать советской власти. Но вчем? Делать еще более неподвижным и жестким этообщество? Таким образом мы отсрочим взрыв, носделаем его еще более сильным. Если бы мы моглипомочь советскому режиму эволюционировать, тогдадругое дело, но мы не помогаем ему эволюционировать,мы помогаем ему костенеть. Значит, это ни кчему. И раз взрыв неизбежен, пусть он настанет какможно скорее, потому что чем позже он произойдет,тем страшнее он будет. Запасы энергии в России бесконечны,и мы видели уже, что это варварская энеррусскоеобщество той эпохи вознамерилось преодолеть пропастьвекового застоя «в два прыжка», что в конце концов и привелострану к тем катастрофическим последствиям, трагические плодыкоторых мир пожинает до сих пор. (Прим. ред.)426
гия, энергия свежая и сильная, с которой нужно бытьочень осторожными. Там может произойти еще многоудивительного. От остального мира уже нечего ждать,но из России может прийти еще нечто великое, едвабудет возможность. Россия во времена взрывов великолепна.Первая пятилетка русская, например, былаудивительна, не правда ли?Д. С.: Мы сможем потом еще подробнее поговоритьоб этцх необычайных возможностях России,когда будем говорить о диссидентах, о здоровых силах...Я. М; Конечно, это силы здоровые, но они, ксожалению, не имеют возможности развиваться насвоей почве. Я понимаю русских интеллигентов, когдаони противятся депортации. Ведь это факт, что ихдепортируют на Запад... Я понимаю Максимова, которыйотказывается учить иностранные языки. Я понимаюСолженицына, который отгораживается отзападного мира колючей проволокой и не хочет поддерживатьконтактов с этим миром, который в глубинедуши он ненавидит*. Все это я очень хорошопонимаю. Солженицын — великий русский человек,который страдает без своей земли, без ее бесконечныхпросторов, без почвы. Русские по природе бродяги,но есть в мире нечто, что нельзя экспортировать,это именно почва, гумус. Где бы он ни был, русскийв душе воссоздает Россию, он нуждается в этом...Д. С.; Вернемся на минутку к проблеме, на которуюты указал, к проблеме советской военной мощи ивытекающей из нее угрозы для западного мира. Тыболее сорока лет назад был свидетелем войны, начатойСоветским Союзом против Финляндии, не видишьли ты, при всех различиях политического, стратегическогохарактера и т. д., аналогии с военной авантюройСССР в Афганистане? Я хочу сказать, что как* Это утверждение представляется нам явным полемическимпреувеличением. (Ред.)427
Финляндия в то время, так Афганистан сегодня являетсякак бы лакмусовой бумажкой, проявляющей всенедостатки советского военного потенциала, его неэффективностьи неорганизованность.И. М; Я бы этого не сказал, потому что тафинская проба, обманувшая всех, была настоящей,не симулированной. Та проба показала нам совершеннорасстроенную армию, армию без командиров, армию,которая не верила в себя и которая была задавленаполитическими комиссарами. Армию, которая нехотела сражаться. Тогда как Финляндия располагалаармией, хоть и маленькой, но хорошо вооруженной ихорошо подготовленной, действующей на территории,которую она знала в совершенстве, благодаря ч^мумогла забрасывать свои отряды во вражеские тылы ис легкостью расстраивать позиции врага, армию, котораяумело использовала ужасные климатическиеусловия севера, армию, которая, одним словом, обладаламногочисленными тактическими и прочими преимуществами.В Афганистане же советским войскамприходится иметь дело не с регулярной армией, а с отрядамипартизан, которые не сражаются в открытомполе, а устраивают засады, ловушки, и вся недавняявоенная история показывает, что регулярные армиибессильны в борьбе с вооруженными партизанскимиотрядами. Поэтому я не стал бы говорить, что в Афганистаневыявляется бессилие и неэффективностьсоветской армии.Д. С.: Поговорим теперь о тех средствах, которымирасполагает Запад, чтобы сдерживать советскийэкспансионизм и противостоять ему. Среди этихсил в первую очередь надо указать на католическуюцерковь. Ее роль особенно при Папе Пачелли (Пий XII)была значительной, хотя Сталин и спрашивал насмешливо:сколько дивизий у папы. Теперь, с восхождениемна папский престол Кароля Войтылы, папы-поляка,знающего изнутри коммунистическую систему и428
ее аберрации, в свободном мире усилилась надежда нато, что Ватикан будет играть более активную роль вборьбе против коммунизма. Но оказалось, напротив,что доминирующей тенденцией в этой церкви являетсятенденция к соглашениям с режимами Восточной Европы.Короче говоря, этот папа ведет диалог с угнетателями,а не с угнетенными, дает аудиенции официальнымпредставителям коммунистических стран идаже главе палестинских террористов Арафату, подстрекаемому,субсидируемому и вооружаемому советскимрежимом, а вовсе не изгнанникам из коммунистическихстран, сражающимся за свободу. И, наконец,даже в случае с «Солидарностью» польская церковь,направляемая, разумеется, из Рима, как кажется,стремится не столько поддерживать безоговорочно3TQ движение за радикальное обновление общества,сколько воспользоваться им, чтобы улучшить своисобственные позиции в переговорах с властью, и церкви,в общем, подходит такое разделение ролей. Коммунистическойпартии — политическую и полицейскуювласть, а католической церкви — контроль над гражданскимобществом или, по крайней мере, большуюсвободу действий внутри него. Что ты думаешь поэтому поводу?И. М.: Этот папа, несомненно, наделен неким божественнымдаром, и это по-человечески очень богатаяличность. У меня, однако, сложилось впечатление,что он так и остался навсегда польским епископом ипоэтому видит весь мир через польскую призму. Каковаего модель? В Польше реальных власти две: коммунистическийрежим и католическая церковь. И он,по-видимому, весь мир рассматривает с этой точкизрения и не знает, что здесь, на Западе, помимо этихдвух сил существуют еще и другие. Мне кажется, чтокогда в Польше появилась эта третья сила, «третийчеловек в лодке», как говорит Максимов (выражениеиз статьи Максимова в «Иль Джорнале нуово», поя-429
вившейся в декабре 1980 года. — Прим. ред.), то естьдвижение «Солидарность», церковь не то чтобы сознательновоспользовалась им для улучшения своихпозиций в отношениях с режимом, но скорее инстинктивносделала из него свое войско. Войско очень похожеена то, которое мы имеем здесь в Италии в лице«Комунионе э либерационе» («Единение и освобождение»).Но мы, к счастью, живем в иных условиях. Отчегоже это происходит? Оттого что церковь, противостоящаякоммунизму, по существу, представляетсобой силу, очень похожую на него: обе эти силы характеризуютсямонолитизмом, и у них истина раскрываетсясверху. Короче говоря, мы имеем две церкви.Этот папа демонстрирует собой поражение атеистов,вот в чем дело. Он гораздо более клерикален, чемдаже те папы, которых мы имели в прошлом. Он видитмир как борьбу этих двух церквей. Конечно, он —папа, и по-своему прав, он думает: нам две тысячилет, и поэтому мы победим...Д. С.; И потом это не просто борьба, если хочешь,это — диалектика в то же время...И. М.: Конечно, диалектика. Это не борьба, гдестремятся уничтожить противника. Здесь стремятсяпоглотить противника, абсорбировать его, потомучто для церкви, я думаю, гораздо легче покорить коммуниста,чем кого-нибудь из нас, атеистических демократов.В самом деле, они гораздо больше «любви»испытывают к коммунистам, чем к нам. Мы гораздобольше досаждаем им, мы, дети просветительства,рационализма, французской революции. Нас нельзяассимилировать, а тех можно, у них общий дух. Этодва образа мышления, которые в определенный моментмогут сойтись. Церковь же уверена, что, с еедвухтысячелетней историей, она более жизнеспособнаи сможет проглотить их и переварить... Это, конечно,нам не подходит.430
Д. С.: Вот ты называешь себя атеистом, «сыномпросветительства и французской революции»,как бы ты охарактеризовал себя самого и свою деятельностьрусскому читателю?Я. М.: Что ему сказать? Даже не знаю. Вообщеэто чертовски трудно говорить о себе самом и о своейдеятельности. Каждый неизбежно видит ее в розовомсвете или, во всяком случае, как нечто позитивное,и поэтому нет ничего более фальшивого, чем самохарактеристики.Что ж сказать? Ну вот, я мог бы сказатьто, что уже сказал тебе раньше, то есть, что я,как интеллигент, живущий на Западе в наше время,чувствую одновременно влечение и страх к этому русскомумиру, не коммунистическому, а русскому, который,быть может, придет, чтобы перевернуть менявсего, но в то же время, может быть, и возродить —насильно. Я знаю, что он должен будет это сделать,но все же хотел бы, чтоб это произошло после моейсмерти. Я верю в то, что коммунизм связал крылья ипомешал этому великому полету России, признакикоторого можно было уже заметить накануне первоймировой войны. Я говорю, наверно, вещи слишкомрасплывчатые, но ведь я не славист, я знаю о Россиилишь то, что знает средний интеллигент. Но несомненноодно: русский пожар был ошеломителен, он породилтак много, он оставил неизгладимые следы, ипотом этот взрыв 1917-18 года, не знаю, если бы мнебыло двадцать лет в 17-м году, наверно, и я устремилсябы в Москву, как Джон Рид и многие другие,поехал бы в Москву и, вероятно, кончил бы плохо, нопоехал бы, — то, что открывала эта революция, былоогромно, да, надежды были велики, безмерны. Я понимаю,почему мир был восхищен. Потом все этостало достоянием шовинизма, обскурантизма, самогонизкого национализма. Но все это мне не мешает восхищатьсяэтим ужасным взрывом. От которого, впрочем,и нельзя было ждать ничего другого. Я всегда431
задавал себе вопрос, а что, если бы победил Троцкий,что бы было?..Д. С.: Совершенно то же самое?..И. М: То есть Россия победила бы...Д. С.: Победил бы большевизм, то есть ленинизм.Зародыши советской системы содержатся в ленинизме,и кто бы ею ни управлял после ее основателя,Троцкий, или Зиновьев, или Бухарин, вместоСталина, он не мог бы сделать ничего иного, как толькосовершенствовать ленинизм, то есть довести его докрайних последствий, до того, чем был сталинизм,либо, в противном случае, рухнуло бы все построениесоздателя советского государства. Но перейдем к другомувопросу, очень актуальному: какой представляетсятебе роль журналов типа «Континент» и тех интеллигентовв изгнании, русских, поляков, чехов ит. д., которые предстают перед нами как своего родакритическое сознание и совесть Запада?И. М; Да, именно такова их роль. Теперь здесь онинаходятся в несколько противоречивой ситуации. Русскиездесь значат для нас что-то постольку, посколькуостаются русскими, то есть носителями своего опыта,своей культуры, своей цивилизации, но в то же времяони не могут оказывать влияния на западную культуру,не приблизившись к этой культуре, не начав ассимилироваться,говорить на чужом языке, но в этомслучае они отдаляются от своих корней. Я понимаюих трудности. Они правы, когда говорят в соответствиис тем типично русским tournure d'esprit (складомума), носителями которого они являются. Но в то жевремя они встречают огромные трудности на этомпути и с трудом им удается заставить понять себя иповерить себе. Начав же говорить на языке Запада,они могут выразить себя. Похожий эксперимент былпроделан, правда, в совершенно иной обстановке, великимирусскими писателями прошлого века, которыевсе немного офранцузились — Толстой и многие дру-432
гие, не говоря уж о Тургеневе, и все же, когда им надобыло сказать нечто важное, они говорили это по-русски,обращались к своей земле, к России, и на томязыке выражали себя. Повторяю, я очень хорошо понимаю,Максимова, не желающего учить иностранныеязыки. Но тогда что происходит? Единственнымипосредниками оказываются евреи. Их много срединих. Потому что евреи всегда déracinés, они космополиты,как определил их Сталин. Настоящий же русский— это русский степей, и хорошо, что он остаетсячеловеком степей, потому что именно благодаря этомуему есть что сказать нам: рассказать нам степь.Если же мы поведем его к «Максиму» или заставимего писать, как Селин или как Кокто, тогда ему большенечего сказать нам. Так вот, что может сделать «Континент»?На скольких языках выходит «Континент»?Ты говоришь, на немецком, английском, французском,итальянском и т. д., короче, практически на всех основныхязыках западного мира. Ну вот, именно это они должен делать: оставаться глубоко русским и выходитьв переводах на другие языки. В других странах,правда, он найдет, к сожалению, слишком маленькуюаудиторию, но важную, он может действительнооказать влияние на самую чуткую интеллигенцию,имённо в этих западных странах в наше время мы находимнаибольшую сознательность. Я считаю, чтороль такого журнала, как «Континент», огромна. Этопримерно та же роль, которую, при всех различиях, впрошлом веке играл «Колокол», хотя Герцен слишком«озападнился» и воспринял западный дух. Впрочем,в старости и он снова обрусел... Такова сутьвопроса. Речь идет теперь о том, чтобы найтиверную меру и дозировку в этом синкретизме междузападной культурой и великой славянской культурой,но это очень важное дело, потому что все было оборванобольшевистской революцией и теперь надо зановоначинать работу. Что ж касается эмигрантов, то433
надо сказать, что их роль очень важна, но миссия ихочень трудна. Запад может мало что сказать им. Ониже, напротив, могут многое сказать Западу. Но накаком языке должны они это говорить? До какой степениони должны разлагаться и заражаться бацилламиЗапада? Вот в чем вопрос. Их роль — это рольавангарда, необычайная, значительнейшая, они должныобъяснить Западу феномен большевизма и рассказать,что бродит в России, а бродит там, я уверен, нечтожуткое и страшное... Диссидентство интеллигентовуже известно, но диссидентство, так сказать, underground,которое не знакомо с диссидентством интеллигентов,которое развивается само по себе, но выразителямикоторого являются интеллигенты, это диссидентствокак понять? Интеллигента можно погрузитьна самолет и отправить в Германию. Но как отделатьсяот спекулянта с черного рынка? То есть, я хочу сказать,по-моему, эта система распадается, но к чемуэто приведет? Русское призвание — это анархическийбунт, терроризм, нечаевщина. Поэтому я боюсь, чтоих ждет период ужасных разрушений. Мне все этопредставляется прямо в апокалипсическом свете. Я неверю в способность этого режима эволюционировать,нет, не верю, нет никаких знаков изменения порядка.Поэтому изменение мне представляется в виде взрыва.Но здесь у нас взрыв — это небольшой бум, взрыв жев России — это ужас. Он порождает бесконечные трагедии...Не знаю, доживу ли я до него, надеюсь, чтонет, потому что произойдут события чудовищные,апокалипсические...Д. С.: Ну, об основных вопросах мы уже поговорили,и я благодарю тебя за ответы. Конечно, естьеще много проблем, о которых можно было бы поговорить,но интервью стало бы слишком длинным, а язнаю, что у тебя мало свободного времени. Все жекратко хотелось бы затронуть еще один актуальнейшийвопрос — о сибирском газопроводе. Твоя газета434
с самого начала была против этого проекта. Прошутебя коротко разъяснить причины этого.И. М.: Конечно, мы против, потому что проектыподобного рода и связанное с ними сотрудничествоне помогает советскому режиму эволюционизировать,а напротив, помогает ему еще более костенеть.Д. С.: Усиливая тем риск взрыва?И. М; Да, усиливая его, и именно поэтому намне следует способствовать тому, чтобы то, что должнопроизойти, стало еще более ужасным. Нет, пусть советскаяверхушка будет раздавлена своими трудностями,помогать им, мне кажется, не следует. Конечно,с чисто экономической точки зрения Италии, как кажется,был выгоднее сибирский газ, нежели алжирский.Впрочем, и в этом газеты тоже намошенничали:верно, что за алжирский газ мы должны платить больше,но зато мы имеем больше перспектив в Алжире и,следовательно, больше возможностей оплатить этуразницу в цене. Я думаю, что мы поступили правильно,отдав предпочтение алжирскому газопроводу или,во всяком случае, оставив его себе как резерв, чтобыне зависеть целиком от сибирского газа. Но, я думаю,важно даже не столько то, что мы не попали в зависимостьот советских поставок, которые, по-моему,никогда не прервались бы, сколько тот факт, что мыне стали помогать советскому режиму и усиливать его.Д. С.: Значит, по-твоему, главный аспект здесь нестратегический, а экономический и политический?И. М; Именно так, мы не должны помогатьэтому режиму усиливаться или хотя бы нейтрализоватьсвои слабости и недостатки. В наших интересах,мне кажется, напротив, обострять, косвенным образом,внутренние кризисы этой системы, а почему —об этом мы уже говорили в ходе нашего интервью.Перевел Юрий Мальцев435
Индро Монтанелли — один из самых блестящих итальянскихжурналистов и, может быть, самый популярный из них. Родился онв Фучеккио, в Тоскане, и в детстве и юности много ездил по Италиивслед за отцом, преподавателем итальянского языка в лицеях. Послеокончания школы он записался во Флорентийский университет, ножил более на берегах Сены, чем Арно, посещая курсы усовершенствованияв Сорбонне. Замеченный одним из журналистов из «ПариСуар» и представленный им редактору этой газеты, Монтанеллистановится «черным хроникером». Тем временем он получает дипломюридического факультета, а свои репортажи в «Пари Суар» перемежаетстатьями в итальянских газетах «Универсале» и «Пополо д'Италия».Затем он начинает работать для американского агентстваЮнайтед Пресс. Именно пройдя сначала французскую, а затем американскуюжурналистскую школу, молодой Монтанелли научилсякраткости, простоте, точности, а главное, уважению к фактам. Вернувшисьзатем в Италию, он пошел добровольцем в армию наканунеабиссинской войны, его отношения с фашизмом были всегда драматичными.Так, посланный впоследствии газетой «Мессаджеро» вИспанию для наблюдения за событиями гражданской войны, он навлекна себя гнев режима той точностью и объективностью, с которымиописывал военные действия, в которых участвовали многиеитальянские фашисты. По личному приказу Муссолини, он былотозван на родину, лишен членского билета Национальной ФашистскойПартии и уволен из газеты. Ему не оставалось ничего другого,как принять предложение работать преподавателем итальянскогоязыка в Тартуском университете в Эстонии. Год спустя он сновавернулся к журналистской работе, благодаря Альдо Борелли, редактору«Коррьере делла сера», который, не имея возможности принятьМонтанелли в качестве постоянного работника редакции попричине его беспартийности, заключил с ним контракт о сотрудничестве.Монтанелли в качестве корреспондента следил за военнымисобытиями сначала русско-финской войны, а затем второй мировойна всех фронтах: французском, балканском, греческом, русском.В 1943 году он сблизился с антифашистским движением «Джустицияи либерта» («Справедливость и свобода») и вскоре долженбыл уйти в подполье. Арестованный немцами в феврале 1944 года,он был приговорен к смерти, но смог бежать из миланской тюрьмыСан Витторе, в которой содержался в ожидании приведения в исполнениеприговора.После войны в качестве корреспондента «Коррьере делла сера»он побывал во всех самых «горячих» местах планеты: в 1956 году —в Польше и затем в Будапеште, в 1968 году в Праге и т. д.В начале 70-х годов «Коррьере делла сера» переориентироваласьвлево, и Монтанелли, противник такого поворота, вышел из редакциии основал, в 1974 году, «Иль Джорнале нуово», редактором которогои является по сей день.436
Монтанелли — также автор многочисленных книг: он писалпрозу, театральные драмы, но особенной популярностью пользуютсяего книги по истории. Его заслугой является то, что, описываяисторические события в популярной и доходчивой форме, он сумелприобщить к истории миллионы простых читателей, которые иначеникогда не прочли бы ничего по истории.СВОБОДНЫЙ РУССКИЙ УНИВЕРСИТЕТОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА ЛЕТНИЙ КУРС 1983 ГОДАЗаезд слушателей — 31 июля 1983 года.Начало занятий — 1 августа 1983 года.Конец занятий — 20 августа 1983 года.Курс имеет целью дать слушателям по возможностиполное и объемное представление о сегодняшнейРоссии, о ее истории, литературе, искусстве, науке; осовременном положении в различных областях знаний;об организации советского государственного аппарата;о структуре управления промышленностью, сельскимхозяйством, культурой и мн. др.Кроме того, со слушателями будут проводиться регулярныезанятия русским языком и разговорная практика,что даст возможность студентам-славистам, преподавателямрусского языка, переводчикам усовершенствоватьсвои знания.Занятия, лекции, вечера, семинары будут проводитьсявысококвалифицированными преподавателямии профессорами; а также специалистами в различныхобластях знаний, писателями, журналистами, историками,искусствоведами.Количество мест ограничено.Слушатели обеспечиваются одно- или двухместнымикомнатами гостиничного типа и трехразовым питанием.По всем вопросам обращаться по адресу:Russische Andrej-Sacharov-Akademie e.V.Postfach 180105, D-5000 Köln 1, Tel. (02234) 7 9047437
Умер Петр Якир. На протяжении многих лет имя его было связанос борьбой против возрождения сталинизма в нашей стране, противнарушений прав человека, против применения к инакомыслящимпсихиатрическихрепрессий.Сын расстрелянного в 1937 г. командарма Ионы Якира, он в14 лет стал зэком и, как можно судить по его мемуарам («Детство втюрьме»), сразу включился в тот социальный процесс, который тогдане называли еще движением за права человека, но который проявлялсявсе же — с большей или меньшей активностью — в местах заключения:процесс защиты заключенными своих прав.Активную правозащитную деятельность Петр Якир начал в середине-конце60-х годов, когда угроза возрождения сталинизма в СоветскомСоюзе стала реальной и очевидной. Из первых выступлений егонаиболее широко стали известны обращение (совместно с Ю. Кимоми И. Габаем) «К деятелям науки, культуры и искусства» и письмо вПрезидиум Консультативного совета коммунистических партий вБудапеште (совместно с П. Григоренко, В. Красиным и др.). Эти письмаопубликованы в 1968 г. и посвящены проблеме усиления политическихрепрессий. В последующие годы П. Якир многократно участвовалв выступлениях в защиту прав человека, подписывая коллективныепетиций, адресованные советским властям; с мая 1969 г.П. Якир — в числе тех, кто подписывает обращения в ООН от имениИнициативной группы по защите прав человека в СССР.Последний арест, в июне 1972 г., и продолжавшееся большегода следствие сломили Петра Якира. Он признал себя виновным.Он повторил самообвинение на пресс-конференции, став таким образомучастником процесса, подобного тем сталинским процессам,которые были проклятием всей его жизни и против повторения которыхон много лет боролся. Чудовищная государственно-полицейскаямашина раздавила одинокого человека и злорадно похвалялась своейпобедой, заставляя его испытывать полную меру унижения.«Я не хочу умереть в тюрьме», — сказал Петр Якир в своем последнемслове, и это, быть может, объясняет многое. Он вырос втюрьме — видение решеток и «намордников» сопровождало его всюжизнь...«Не судите да не судимы будете», — сказано в Евангелии. ПетрЯкир умер. Мир праху его. Мир больной душе его.«Континент»
Специальное приложение
С 23 сентября по 19 октября 1982 года ГалинаВишневская прощалась с оперной сценой, а тысячиверных ее поклонников в последний раз устремилисьв зал Парижской оперы услышать,увидеть — и не однимиушами и глазами, но всейдушой — ее Татьяну. ПрощаньеГалины Вишневской соперным театром — не прощаньени с музыкой, ни с публикой:уйдя со сцены, она сможетеще полнее посвятитьсебя концертной деятельности.Многие читатели«Континента» в разных странахеще услышат в концертныхзалах и трагические «Песнии пляски смерти» Мусоргского, и еще, быть может,более трагические (потому что до жути смешные)«Сатиры на стихи Саши Черного» Шостаковича,и весь ее богатый камерный репертуар, в которомрусская музыка — и русское слово — по праву на первомместе. Увы, в разных странах — но не на родине!Мы не прощаемся даже с актрисой Галиной Вишневской— свой драматический дар она умеет развернутьи в малой форме романса. Мы ждем новых встречс этим сказочным голосом, с этой редкостной выразительностьюв каждой ноте музыки, в каждом слогетекста.3
«ВСПЫШКА ЛЮБВИ К ТАТЬЯНЕ...»Восемь спектаклей «Евгения Онегина» в Парижскойопере (они шли с 23 сентября по 19 октября) превратилисьв триумф русской культуры, певческого искусстваГалины Вишневской и дирижерского мастерстваМстислава Ростроповича.Все крупнейшие французские газеты и журналы откликнулисьна это видное событие в театральной жизниФранции.Еженедельник «Нувель Обсерватер» в статье«Вспышка любви к Татьяне» писал: «Ее голос все также прекрасен. Она полна очарования. Какой урок вокальногоискусства, стиля, вкуса! Татьяна — совершенна,но в ней и внутреняя тревога. И именно тактрактует этот образ Вишневская. А за дирижерскимпультом чудотворец-Ростропович вовлекает и весьоркестр в эту атмосферу лирической грусти, перерастающейзатем в тревожную драму.Подлинность переживаний двух великих артистовсделали спектакль исключительно убедительным».«Котидьен де Пари» писала о спектакле:«Мир прощается с одной из самых неистовыхжриц музыки нашего века, с Галиной Вишневской.И вот сегодня этот спектакль показал, что ее лучезарноедарование не померкло. Это происходит в Опере,где двадцать лет назад она, носительница русскогомузыкального света, поставила Париж на колени.(...) Однако после того триумфального выступления,которое осветило Запад сиянием подлинности, артисткабыла осуждена на изгнание, она была лишена родины,родного языка, традиции, труппы».Газета «Ле паризьен» в большой статье о спектаклеписала:«Признаться, вечер был грустным... это ведь былопрощание с Галиной Вишневской и ее Татьяной.4
Но как можно говорить о прощании, когда слышишьэтот огненный, гордый, великолепный голос,триумфально звучащий сегодня, как звучал 30 лет назад?На сцене она не спускает глаз с Ростроповича:здесь полное взаимопонимание и счастье — они вместев этой музыке».Газета «Фигаро» назвала свою статью «Знак качества»:«Поговорим о тех, кто привнес в эту постановкуатмосферу подлинности, дал ей необходимый«знак качества». Прежде всего — о Галине Вишневской.Прощаясь со сценой, великая примадонна ещераз решила выступить в своей роли. Прекрасная актриса,она убеждает нас ежеминутно, что она — именно«Татьяна». Теперь о Ростроповиче. За дирижерскимпультом он так же увлекает за собой прекрасный оркестрПарижской оперы, как его жена на сцене — актеров.Так возникает неслыханная подлинность, вся поэзияэтого русского шедевра».Газета «Матен» в статье «'Евгений Онегин* в Париже»писала:«Первый спектакль, открывший сезон в Опере,«Евгений Онегин» Чайковского, позволяет увидетьвновь знаменитую чету: Галина Вишневская — Ростропович.Их поклонники не были разочарованы...»А вот как писала о замечательных музыкантахпарижская газета «Франс-суар»:«Он — полон тепла, радостно-общителен. Еговзгляд искрится лукавством, слова он произносит нараспев.Она — прекрасна. В ее темных волосах сверкаютредкие серебряные нити, и это смягчает взглядсеро-стальных глаз. Оба лучатся внутренней добротой,любовью. Это Галина Вишневская и МстиславРостропович — супружеская пара, известная во всеммире.«Онегин» — это, прежде всего, прекрасная простота,— говорит Ростропович. — Она, однако, даетпредставление о самых тончайших оттенках чувств рус-5
ской души». И продолжает: «Я ощущаю события, которыепроисходят в «Евгении Онегине», так, как будторечь идет о моей семье. Я знаю, что заплачу во времядуэли Онегина с Ленским. Я каждый раз при этомплачу».После спектакля 19 октября вечером состоялсябольшой прием, на котором присутствовали известныемузыканты и политические деятели, представителипрессы и друзья замечательных музыкантов. Известныйфранцузский композитор Анри Дютийе отимени министра культуры Жака Ланга вручил актрисеорден Почетного Легиона в знак любви и восхищенияфранцузского народа ее талантом.На вечере было зачитано много приветствий ителеграмм. Американский посол во Франции мистерГилбрайт огласил приветственную телеграмму ГалинеВишневской от президента США Рональда Рейгана:«Нэнси и я шлем Вам наилучшие пожелания сейчас,когда Вы готовитесь к Вашему прощальному выступлениюна оперной сцене в «Евгении Онегине» Чайковского19 октября в Парижской Опере. Мы знаем,что в этот момент Вами владеют смешанные чувства,но мы надеемся, что Вы будете помнить о той радости,которую Вы принесли всем тем, с кем делилисьВашим, Богом данным, талантом. Ваш голос в течениемногих лет волновал сердца бесчисленных любителейи поклонников; Ваша неистощимая любовь кжизни и свободе вдохновляла всех нас.Наши поздравления и горячий привет Вам и маэстроРостроповичу. Да благословит Вас Бог.Искренне,Рональд Рейган».Горячими аплодисментами было встречено приветствиеактрисе от Александра Исаевича Солженицына:6
«Галине Вишневской к 19 октября 1982В этот день кланяюсь низко Вам, дорогая Галя, зато, что Ваш голос открывает всему миру красоту иболь русской души.Благодарный ВамАлександр Солженицын».Спектакль окончился. Прощание с оперой состоялось.Но творческая жизни актрисы полна самыхразличных замыслов: выступления с концертами вГермании, Испании, Гонконге — это только самоеблизкое.«Работы впереди — непочатый край», — улыбаясь,говорит Галина Вишневская.«Русская мысль», №3436, 28 октября 1982Дорогая Галина Павловна!Когда, тридцать лет тому, ты впервые появиласьна сцене Большого в роли Татьяны, никто немог еще даже предположить, что вся твоя последующаяжизнь станет триумфальной, но духовно и душевномучительной дорогой к твоему сегодняшнему конгениальномуслиянию с созданным тобою образомрусской женщины. Оглядываясь теперь на пройденныйтобою творческий и человеческий путь, я с полнымправом могу отнести к тебе слова Федора Достоевского,обращенные им к образу пушкинской героини:«Да, это тип положительной красоты, это апофеозрусской женщины! Такой красоты положительныйтип русской женщины уже и не повторялся в нашейлитературе...»От себя добавлю: и в жизни — тоже.7
Сегодня ты уходишь с оперной сцены. Но тем неменее, ты уходишь, чтобы остаться для всех нас —твоих друзей, — как и для всей России, вечно непреходящимявлением творческого чуда, не истребимойвременем женственности и жертвенного мужества.Разумеется, я желаю тебе еще многих и многихлет жизни и музыки, но сколько бы их у тебя впередини оказалось, ты должна помнить, что подлинно великойактрисе всегда — восемнадцать.Й к тебе это относится в первую очередь.С гордостью за тебяВладимир Максимов8
КОНТИНЕНТГодовая подписка (4 номера)4СХ— ДМ, или 23.— US$, включая пересылку.Вы экономите 8.— ДМ, или 5.— US$от розничной цены!Имя:Желаю оформить подписку на 1 год (4 номера)Адрес:Оплату произвожу:приложенным чеком • почтовым переводом •через банк •Платеж и заполненный талон просим направлять:A. NEIMANIS BUCHVERTRIEBBauerstr. 28, 8000 München 40, West Germany. Bankkonto: Bayerische Vereinsbank München Nr. 6304630Postscheckkonto: München 147391-804
ПЕСЕНКА О НЕПРЕДВИДЕННОМВ городе Калининградеродился Иммануили не ведал Христа ради,где родиться угодил.Не предвидел бедный Herrфлага РСФСР.В тишине библиотеки,фолианты поглотив,взвесил точно, как в аптеке,нравственный императив.Не предвидел книжный кротпринудительных работ.А в порту теперь не шутки —поглядев, нейдет ли мент,платит флотский проститутке,вынимает «Континент».Не предвидел старый хренни спецхрана, ни главлита,ни того, в какое ситобуква умная падет,прежде чем сквозь все препоны,все таможни, все законы,через вольный рынок черный,по доктрине обреченный,к новым Кантам попадет.Наталья ГэрбаневснаяПариж, ноябрь 1982
НАСЛЕДСТВО ГОЛОГО КОРОЛЯУмер Леонид Брежнев.«Король умер, да здравствует король», — говорятв таких случаях, связывая со здравицей новому владыкевсе свои надежды и ожидания: может быть, преемникокажется миролюбивее, мудрее и великодушнее?К сожалению, естественные законы нормальногообщества не распространяются на противоестественноеобщество тоталитарного типа. Никакая смена лидерав нем не влияет на неизменность его сущностнойосновы. В лучшем случае, в результате происходитотносительное изменение стиля руководства без какихлибоструктурных изменений, ибо каждый очередной 4вождь — здесь лишь физическая персонификация Системыкак Лаковой, не более того. Не случайно поэтомув последние годы под большинством важнейших государственныхдокументов стояла даже не подпись главыГосударства, а факсимиле, которое ставили вместо негоего помощники.Разумеется, мы не исключаем фатальной и, еслихотите, даже мистической случайности, которая можетвозникнуть в процессе борьбы за первенство в партиии вызвать тем самым цепную реакцию довольно значительныхизменений (вспомним хотя бы эпоху хрущевскойоттепели!). Но изменения эти с равным успехоммогут оказаться и не к лучшему, а к худшему.В пьесе большого русского драматурга ЕвгенияШварца «Дракон» рыцарь Ланселот, победив Дракона,выслушивает от умирающего врага примерно следующеенапутствие:— Ты думаешь, ты победил? Нет, Ланселот, в наследствоя оставляю тебе трусливые души, дырявыедуши!Нам кажется, что это самое наследство, переходящееот одного кремлевского короля к другому, и решитв конце концов дальнейшую судьбу больного, но —увы, стабильного в своей духовной болезни советскогообщества.«КОНТИНЕНТ»