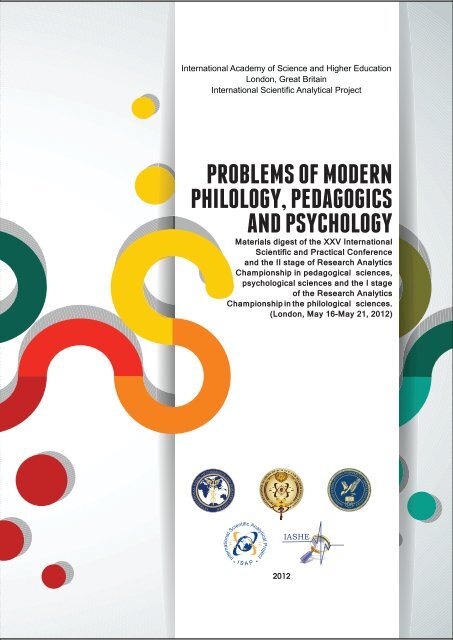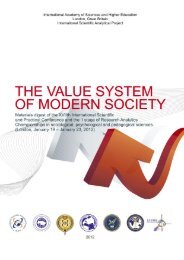Untitled - Gisap
Untitled - Gisap
Untitled - Gisap
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
International Academy of Science and Higher Education<br />
«PROBLEMS OF MODERN PHILOLOGY, PEDAGOGIGS AND PSYCHOLOGY»<br />
Materials digest of the XXV International Scientific and Practical Conference<br />
and the II stage of Research Analytics Championship in pedagogical sciences, psychological sciences<br />
and the I stage of the Research Analytics Championship in the philological sciences.<br />
(London, May 16-May 21, 2012)<br />
The event was carried out in the framework of a preliminary program of the project<br />
«World Championship, continental, national and regional championships on scientific analytics»<br />
by International Academy of Science and Higher Education (London, UK)<br />
Published by IASHE<br />
London<br />
2012
Chief editor – D-r of juridical sciences, professor, academician Pavlov V. V.<br />
“Problems of modern philology, pedagogigs and psychology” Materials digest of the XXV International Scientific and<br />
Practical Conference and the II stage of Research Analytics Championship in pedagogical sciences, psychological<br />
sciences and the I stage of the Research Analytics philological sciences. (London, May 16-May 21, 2012)/ International<br />
Academy of Science and Higher Education; Organizing Committee: Т. Morgan (Chairman), B. Zhytnigor, S. Godvint,<br />
A. Tim, S. Serdechny, L. Streiker, H. Osad, I. Snellman, K. Odros, M. Stojkovic , P.Kishinevsky, H.Blagoev – London:<br />
IASHE, 2012. - 212 p.)<br />
In the digest original texts of scientific works by the participants of the XXV International Scientific and Practical Conferences and<br />
the II stage of Research Analytics Championship in pedagogical sciences, psychological sciences and the I stage of the Research<br />
Analytics Championship in the philological sciences “Problems of modern philology, pedagogigs and psychology” are presented.<br />
ISBN 978-1-909137-04-2
Dear Thinkers!<br />
Probably everyone thinks about the essence of existence in<br />
certain periods of life. Perhaps many have made an attempt of understanding<br />
or, to be more exact, to feel the unbelievable and unlimited<br />
multi-dimensionality of the world. It is truly inevitable that the<br />
majority of thinkers faced the awareness of insufficiency, inadequacy<br />
or imperfection of available tools for perception and analysis of<br />
objective reality. Scientific inquiry is often carried out on the borderline<br />
of a combination of empirical knowledge, abstraction and even<br />
intuitive premonitions. Yet the narrowness of our knowledge and<br />
relativity of the most well-known truths are obvious for everyone.<br />
However, being surrounded by a vast, potentially limitless amount<br />
of unknown entities, a man is still thinking, striving for knowledge,<br />
and generates new meanings, goals and ways to achieve them with<br />
his intellectual creativity ... Why? Perhaps this question is not so important,<br />
especially since the answer lies obviously behind the dense<br />
and impenetrable veil of mysteries of the Universe. It seems to me<br />
that the conventional meaning of our lives is not determined by a<br />
certain result available for statement and measurement, but the<br />
process of striving for it, full of intellectual creativity, creation,<br />
thoughts and feelings. Maybe this is something that only man can<br />
give to the world and something what he could be significant for to<br />
the infinite nature, supplementing its evolutionary eternity. On the<br />
other hand, it's amusing that the surrounding reality exists apart from<br />
man, but, in turn, can have sense only in the light of human thought,<br />
though fundamental values produced by man, namely his thoughts<br />
and feelings, are demanded and consumed solely within the framework<br />
of society. And again, even the social creation, which can affect<br />
natural environment, has its importance and customer value only for<br />
the Homo sapiens himself. Isn't it a highly sophisticated and even a<br />
little ironic system of human embedding in the reality of the global<br />
world existence?<br />
It is clear that the fundamental part of modern human existence is<br />
based on his ability and need to think.<br />
This publication contains researches on various issues in different<br />
fields of science, one of whose main subjects is the phenomenon of<br />
human thinking.<br />
The optimum socialisation of a man in society is ensured by his<br />
propensity to adequate thinking. However, the "correct" way of<br />
thinking is not a natural gift for each person, but an ability acquired in<br />
the process of education, training and practical occupation. In this<br />
context, pedagogics, the science of educating and training a man, not<br />
only develops methodologies of forming mental activity standards in<br />
individuals, but also instruments of harmonious combination of<br />
individual thinking and social values and interests.<br />
Psychology, the science of behaviour and mental processes, can<br />
reveal the nature of intellectual activity and form approaches to<br />
adjustment of mental and behavioural sets of individual persons.<br />
Finally, philology is a complex science, which studies language<br />
as the primary carrier of information through which human thought<br />
is formed and transmitted and social practice is generalised in terms<br />
of culture and history.<br />
This collection includes reports presented at the XXIV International<br />
Research and Practice Conference "Problems of modern Philology,<br />
Pedagogics and Psychology," as well as participating in stages of<br />
national championships of individual countries, as well as the Open<br />
European and Asian Research Analytics Championship in the said<br />
fields of science.<br />
We sincerely thank the authors of works represented in the<br />
collection for their active participation in international scientific communication;<br />
we congratulate the winners of the championships in<br />
research analytics, and look forward to further participation of those<br />
scientists in the International Research Analytics Project of the<br />
IASHE and their new ideas and scientific developments.<br />
Уважаемые мыслители!<br />
Наверное, каждый человек в определенные периоды своей<br />
жизни задумывается о сущности бытия. Возможно многие<br />
пытались осмыслить или даже в большей степени прочувствовать<br />
невероятную, безграничную многомерность окружающего мира.<br />
Совершенно неизбежно, что большинство мыслителей сталкивалось<br />
с осознанием недостаточности, ущербности или несовершенства<br />
доступных средств восприятия и анализа объективной действительности.<br />
Часто научный поиск осуществляется на грани<br />
сочетания эмпирических знаний, абстракции и даже интуитивных<br />
предчувствий. Ограниченность наших знаний и относительность<br />
большинства общеизвестных истин и вовсе всем очевидны.<br />
Вместе с тем, находясь в окружении огромного, потенциального<br />
безграничного количества неизвестных сущностей, человек<br />
мыслит, стремится к познанию, порождает своим интеллектуальным<br />
творчеством новые смыслы, цели и способы их достижения…<br />
Зачем? Возможно этот вопрос и не столь важен, тем более, что<br />
ответ на него очевидно находится за плотными и непроницаемыми<br />
завесами тайн мироздания. Представляется, что условный смысл<br />
нашей жизни определяется не каким-либо результатом, доступным<br />
для констатации и измерения, а процессом стремления к нему,<br />
наполненным умственным творчеством, созиданием, мыслями и<br />
чувствами. Пожалуй, это то, что может дать миру только человек,<br />
чем он может быть значим для безграничной природы, дополнять<br />
её эволюционную вечность. С другой стороны, забавно, что<br />
окружающая действительность, существующая помимо человека,<br />
в свою очередь, может иметь значение только через призму человеческого<br />
мышления, а основные ценности, вырабатываемые человеком<br />
- его мысли и чувства – востребуются и потребляются<br />
исключительно в рамках социума. И даже общественное созидание,<br />
способное повлиять на естественную природу, имеет важность и<br />
потребительскую ценность опять же только для самого Homo<br />
sapiens. Весьма вычурная и даже несколько ироничная система<br />
встраивания человека в данность существования глобального<br />
мира, не правда ли?<br />
Очевидно, что фундаментальная часть существования современного<br />
человека базируется на его способности и потребности<br />
мыслить.<br />
В настоящем издании собраны исследования, посвященные<br />
различным проблемам отраслей науки, одним из главных объектов<br />
изучения которых является феномен человеческого мышления.<br />
Оптимальная социализация человека в обществе обеспечивается<br />
его предрасположенностью к адекватному мышлению. Вместе с<br />
тем, «правильное» мышление – это не природный дар каждого<br />
субъекта, а его приобретенная в процессе воспитания, обучения<br />
и практической деятельности способность. В этой связи, педагогика,<br />
как наука о воспитании и обучении человека, не только вырабатывает<br />
методологии формирования у индивидуумов стандартов мыслительной<br />
деятельности, но и инструменты гармоничного соотнесения<br />
индивидуального мышления и общественных ценностей и интересов.<br />
Психология, будучи наукой о поведении и психических процессах,<br />
позволяет вскрыть природу интеллектуальной деятельности<br />
человека, сформировать подходы к корректировке мыслительных<br />
и поведенческих установок отдельных субъектов.<br />
Наконец, филология, - комплексная наука, изучающая язык,<br />
как основной носитель информации, посредством которого формируется<br />
и передается человеческая мысль, обобщается в<br />
категориях культуры и истории общественная практика.<br />
Данный сборник включает доклады, представленные на XXV<br />
Международную научно-практическую конференцию “Проблемы<br />
современной филологии, педагогики и психологии”, а также участвующие<br />
в этапах национальных первенств отдельных стран и<br />
Открытого Европейско-Азиатского первенства по научной аналитике<br />
в указанных научных отраслях.<br />
Искренне благодарим авторов представленных в сборнике<br />
произведений за активное участие в международных научных<br />
коммуникациях, поздравляем победителей и призеров соответствующих<br />
первенств по научной аналитике, а также с нетерпением<br />
ожидаем дальнейшего участия этих ученых в «Международном<br />
научно-аналитическом проекте МАНВО», а также их новых идей<br />
и научных разработок.<br />
May 25, 2012, London, UK<br />
Sincerely yours and best wishes, -<br />
Head of IASHE International Projects Department<br />
Thomas Morgan<br />
С уважением и наилучшими пожеланиями, -<br />
Руководитель Департамента международных проектов<br />
МАНВО<br />
Томас Морган
National Research Analytics Championship<br />
Azerbaijan<br />
Armenia<br />
Belarus<br />
Kazakhstan<br />
Latvia<br />
Moldova<br />
Russia<br />
Ukraine<br />
Open European-Asian Research Analytics Championship<br />
Azerbaijan<br />
Armenia<br />
Belarus<br />
Kazakhstan<br />
Latvia<br />
Moldova<br />
Russia<br />
Ukraine<br />
International Scientific and Practical Conference<br />
Azerbaijan<br />
Georgia<br />
Kazakhstan<br />
Russia<br />
Ukraine<br />
4
EXPERTS OF THE CHAMPIONSHIPS AND CONFERENCES<br />
WOLODYMYRA FEDYNA (UKRAINE)<br />
Candidate of Pedagogical Sciences.<br />
Place of work: Lviv Ivan Franko National University.<br />
Scope of scientific interests: Philosophy of education in higher school, peculiarities of<br />
training of Orientalists, specificity of inclusive education.<br />
Wolodymyra is the author of methodological recommendations and 28 scientific articles.<br />
LIUDMYLA GRYZUN (UKRAINE)<br />
Candidate of Sciences (comparable to the academic degree of Doctor of Philosophy, PhD),<br />
Doctor of Pedagogical sciences, Associate Professor, Professor of Computer Science department<br />
Workplace: Kharkiv National Pedagogical University Named After G.S. Skovoroda of the<br />
Ministry of Education and Science<br />
Scope of scientific interests: Innovations in higher education and its internationalization in<br />
terms of informational and communicational environment; contribution to the international<br />
mobility of teachers, scientists and specialists.<br />
Studies: Candidate of Sciences thesis “Didactic base of contemporary computer textbook<br />
design”, specialty: Pedagogical Sciences (theory of teaching), (2002). Doctor of Pedagogical<br />
sciences thesis “Didactic base of projecting of the subject modular structure on the basis of<br />
scientific knowledge integration”, specialty: Pedagogical Sciences (theory and methodology<br />
of professional education), (2009).<br />
DARYA POGONTSEVA (RUSSIA)<br />
Candidate of psychological sciences.<br />
Place of work: South Federal University, Faculty of Psychology, Department of social<br />
psychology.<br />
Scope of scientific interests: Social psychology, psychology of appearance.<br />
YULIANA FORNYA (MOLDOVA)<br />
Doctor of Psychology, Associate Professor.<br />
Place of work: Moldova state medicine and pharmacy university named after Nikolai<br />
Testemitsanu.<br />
Scope of scientific interests: issues of medical psychology and pedagogics; psychology<br />
of personality; psychology and pedagogics of higher education, qualitology and<br />
qualimetry of higher education and pedagogical imageology.<br />
Discoveries and inventions: thesis research on a topic: Image of medical university<br />
lecturer, Kishinev, 2010.<br />
Yuliana Vasilievna is the author of more than 70 scientific works (of scientific and<br />
methodological kind) on psychology, pedagogy, imageology and medical issues.<br />
Yuliana Vasilievna lectures in: psychology and pedagogics of higher education, general,<br />
medical, social and management psychology.<br />
Also Yuliana Vasilievna runs courses of qualification in Higher education psychology<br />
and pedagogics (since 1998), where trainings in Personal development and image development<br />
of university lecturers were introduced.<br />
5
NABI YSKAK AYTKULULY (KAZAKHSTAN)<br />
Doctor of pedagogical sciences, professor.<br />
Place of work: Kazakh-British Technical University.<br />
Scope of scientific interests - theory and methods of graphic education, professional education.<br />
Discoveries and inventions - 1 invention, 1 utility patent.<br />
Yskak Aytkululy is the author of 200 scientific works.<br />
DANIELA GRAVA (ITALY)<br />
Literary agent, DLitt<br />
MARIANNA BALASANYAN (GEORGIA)<br />
Doctor of Philology, (Ph.D); associate professor; member of the Georgian Association of<br />
Teachers of Russian Language and Literature and the International Association of Teachers of<br />
Russian Language and Literature, member of the scientific advisory board of the international<br />
journal «International Journal Of Russian Studies»; head of the "Russian Language and<br />
Literature" department of the Faculty of Education, Humanities and Social sciences, the<br />
Akhaltsikhe State University; the director and moderator of the program in Russian language<br />
and literature.<br />
Marianna was awarded a diploma for popularizing the Russian language, dedication and<br />
resolving urgent problems in the education and training of a new generation (Russian Society<br />
of Sociologists/2011).<br />
Place of work: Akhaltsikhe State University.<br />
Scope of scientific interests: linguistics, semiotics, methods of teaching Russian as a foreign<br />
language, problems of intercultural communication.<br />
Discoveries and inventions:<br />
The concept author/administrator/trainer of the training programme for school teachers of<br />
Russian language and literature preparation for certification exams "Communicative<br />
methodology of teaching Russian as a foreign language (RFL)" (the programme was licensed<br />
by the Ministry of Education of Georgia, received positive feedback from the organizers of<br />
the International Conference" The Russian language in the cultural Capital of Europe 2010"<br />
Hungary, Pécs).<br />
She is the administrator and trainer of intensive courses: "The new methodology in teaching<br />
Russian as a foreign language", which was held at the Department of Slavic Philology of the<br />
University of Pec (Hungary).<br />
She is the author of studies of the priorities of environmental education at the Russian<br />
language lessons, published in the popular scientific and methodological magazine "Teacher."
AWARD PROTOCOL № 25k-2012<br />
Following the results of the II Stage in pedagogical and psychological sciences and I Stage in philological sciences, held within the framework of the National Research<br />
Analytics Championship and the Open European-Asian Research Analytics Championship, the Championship Organizing Committee<br />
and IASHE regional expert council decided to single out the following reports as the best research works presented at the championships:
All the participants of championships except those who were awarded with diplomas receive certificates of<br />
participants of the championship.<br />
May 25, 2012.<br />
On behalf of the Organizing Committee and the Commission of Experts<br />
of the I Stage in physical, mathematical and technical sciences<br />
of the National research analytics championship<br />
and the Open European-Asian research analytics championship<br />
Head of IASHE International Projects Department<br />
Thomas Morgan
PEDAGOGICAL SCIENCES<br />
INTERNATIONALIZATION OF TEACHER EDUCATION IN BELARUS: DYNAMICS, PROBLEMS, PECULARITIES<br />
Luhautsova A.I., Head of Organizational Methodic Department in Center for Development of Pedagogical Education<br />
Krasnova T.I., Cand. of Science in Psychology<br />
Torhona A.V., Dr. of Science degree in Pedagogic<br />
Maksim Tank Belarusian State Pedagogical University, Belarus<br />
Conference participants,<br />
National research analytics championship,<br />
Open European and Asian research analytics championship<br />
The article describes the unique characteristics of internationalization in teacher education in the Republic of Belarus by introducing a<br />
concept of internationalization, and by analyzing its three components. The new nation’s various and changing contacts with other countries,<br />
in both east and west, call into question the term “internationalization” for Belarus, where former national contacts have quickly embraced<br />
internationalization.<br />
Keywords: teacher education, pedagogical university, internationalization in higher education, academic mobility.<br />
Internationalization in Belarus cannot be understood without considering its historical legacy, which is connected with the period in which<br />
the USSR disintegrated and a new search was undertaken for a national Belarusian system of education in general—and teacher education in<br />
particular.<br />
After Belarus gained its sovereignty in 1991, interacting with the world educational community was set as a priority, and the process of<br />
internationalization began. The main focus was on exploiting foreign experiences in higher education and teacher education in order to ensure<br />
an optimal transformation of the national educational system. As a result, the structure of teacher education was changed and a model of<br />
multilevel higher education was implemented. Programmes for international student exchange were introduced, and a school reform extended<br />
the standard period of study to 12 years. At the end of the 1990s, joining the Bologna Process was a realistic option and stakeholders from<br />
higher education institutions were ready to support internationalization.<br />
In the beginning of the 2000s, most efforts at internationalizing towards the western countries were frozen because the country adopted a<br />
new general strategy in international relations. At the same time, however, the country was not in total isolation, as some stakeholders claimed.<br />
But international contacts became rare and were often limited to individuals and based on personal contacts and initiative.<br />
It took ten years until the Belarusian government rediscovered the importance of internationalization in higher education and announced<br />
its readiness to join the Bologna Process. Now, cross-cultural communication and international relations have again been established as<br />
priorities for universities.<br />
Components of internationalization<br />
Belarus today, internationalizon is understood in two main ways: it can be either internal or external. This understanding is similar to the<br />
Russian one, indicating that in general Belarusian concepts of education and educational services closely follow those understandings<br />
prevalent in the Russian Federation. Internal internationalization occurs inside the country. For example, educators offer educational<br />
programmes in foreign lan- guages and for foreign students, they invite foreign lecturers (known as inbound mobility), and they participate in<br />
international educational projects. They also include intercultural and international dimensions in their teaching and learning processes,<br />
conduct research on international issues, and develop relationships with local cultural and ethnic groups. This understanding is similar to the<br />
conception of internationalization at home, which the European Association for International Education defines as “any internationally<br />
related activity with the exception of outbound student and staff mobility” (Crowther et al. 2000, 324 p. 6). The second understanding of internationalization<br />
is external internationalization: faculty and students teaching and learning abroad (outbound mobility), along with joint<br />
diploma programmes, university. The second understanding of internationalization is external internationalization: faculty and students<br />
teaching and learning abroad (outbound mobility), along with joint diploma programmes, university cooperation, international branches of<br />
educational institutions, and distance learning. For our analytical purposes, we draw on another concept of internationalization, which Knight<br />
(2003) developed based on a survey that compiled the top reasons for internationalization in higher education. Knight’s list contains the<br />
following reasons for internationalization in higher education, in descending order of importance: mobility and exchanges for students and<br />
teachers; teaching and research collaboration; academic standards and quality; research projects; cooperation and development assistance;<br />
curriculum development; international and intercultural understanding; promotion and profile of the institution; diversifying faculties and<br />
students; regional issues and integration; international student recruitment, and diversifying income generation.<br />
Many of these twelve motives for internationalization are either not realistic to implement in Belarusian teacher education or are being<br />
reinterpreted in a specific Belarusian way and mixed with the legacy of the Soviet educational traditions, leading to rather idiosyncratic<br />
conceptions and results in Belarus that sometimes differ from the originally intended ones. Out of Knight’s list, above, we will discuss six<br />
motivations and the corresponding forms of internationalization that also apply to teacher education in Belarus: (a) mobility and exchanges<br />
for students and lecturers, (b) teaching and research collaboration, (c) research projects, (d) international student recruitment, (e) diversifying<br />
income generation, and (f) regional issues and integration. Accordingly, in the next sections we first address international mobility and<br />
international cooperation (items a, b, and c), and then the recruitment of international students to generate income (items d and e). Finally we<br />
address issues related to regional integration (f).<br />
International mobility and international cooperation<br />
The academic mobility of students and lecturers in teacher education is one of the most visible forms of internationalization. In Belarus,<br />
however, it is rather limited. As an illustration, we describe the international activities in one of the country’s leading educational institutions,<br />
the Belarusian State Pedagogical University (BSPU). (Here, we consider only short-term mobility, lasting from a few days to two semesters<br />
of study; we discuss other forms of mobility below, under recruitment). During the academic year 2009–2010, only 193 students from abroad<br />
came to study at BSPU (2010). Most of these students were from Russia, Turkmenistan, and China; this was also true in 2008–2009. If we<br />
compare these figures with the total number of students (about 18,000 in 2009–2010), it becomes clear that only a small percentage of students<br />
from abroad are studying at the BSPU. Similarly, very few lecturers and students from Belarus take courses abroad, e.g. in the CIS and other<br />
foreign countries—no more than two dozen per year. Similarly, they rarely invite foreign experts for lectures or consultations; BSPU<br />
registered just three such visits in 2009–2010. The same situation applies to the export of educational services and to participation in<br />
international projects. Gancherenok and Shaton (2002), mentioned earlier, found several obstacles to the internationalization of higher<br />
education generally and international mobility specifically.<br />
Though the situation disintegrated further in the years after their study, these are some of their findings for the late 1990s: One serious<br />
11<br />
Actual problems of modern pedagogics
Pedagogical sciences<br />
Actual problems of modern pedagogics<br />
obstacle was lack of knowledge of foreign languages. Only 50.9% of respondents said they knew a foreign language at an appropriate level.<br />
This is part of the Soviet Union’s educational legacy: students in higher education did not always study foreign languages. Second, 32.7% of<br />
respondents mentioned a “lack of information about possibilities of international cooperation” as an obstacle to internationalization. This can<br />
be interpreted in several ways. It could be a consequence of not having the experience or language ability to use or understand information<br />
available on the World Wide Web. It could also reflect unsatisfactory work by the universities’ international offices, which still only reform<br />
their original task of assisting in international cooperation at a minimum level.<br />
For 10.9% of respondents, administrative resistance by the Ministry of Education and other government bodies is an obstacle to<br />
internationalization; 9.0 % saw the administration’s lack of awareness as an obstacle. Thus, they found that some regulations and<br />
administrative procedures constitute obstacles to international mobility. In addition, students’ lack of experience and of language competence<br />
keeps them from becoming interested in the possibilities of international mobility. One example of such a regulation is the Ministry of<br />
Education’s decree no. 125 of 27 December, 2005, which describes the procedure for students to gain permission to study abroad, or take part<br />
in sport, cultural, and other activities during the academic year. The process requires multiple documents and individual scrutiny by the<br />
Minister of Education who then personally grants the permission. It significantly limits the opportunities for interaction between members of<br />
the Belarusian and foreign academic communities. This obstacle has both obvious and hidden impacts on student mobility. Knowing how<br />
difficult it is to get official permission, students search for other ways to go abroad without notifying the ministry, or university staff.<br />
Internationalizing teacher education<br />
Belarusian universities, however, continue to actively collaborate with European partners within the frame of the Tempus Programme.<br />
Almost all the republic’s leading universities are involved in this kind of cooperation and take part in working out prorammes of distance<br />
education and lifelong learning. At the same time participation in travel-related activities and foreign joint projects depends very much on<br />
individual initiative, including personal awareness of opportunities and personal contacts. The low level of foreign language knowledge<br />
among students and lecturers also limits mobility—and it limits the numbers of interactions with foreign partners and of publications in<br />
international academic journals. The result is reduced awareness of international research in teacher education and other university-related<br />
concerns.<br />
Recruitment of international students for income generation As the economy in Belarus has faltered, the government can no longer<br />
finance all the activities of universities. When the transition process began in the 1990s, many students chose to study in private institutions of<br />
higher education and teacher education.<br />
As a result, money flowed away from government-run universities and towards private ones. To reverse this process, the government<br />
downplayed the value of diplomas from private universities and pressed employers to preferentially hire young specialists with diplomas from<br />
government run HEIs.<br />
This action did not solve the problem of underfinancing and the universities were forced to search for additional financing. One new<br />
source of income they identified was recruiting foreign students who would pay for their higher education in Belarus. This economic<br />
logic encouraged the government to accept a certain degree of internationalization. Currently, exporting educational services in the form of<br />
importing students is one of the most important priorities of international educational policy in Belarus. Rising numbers of international<br />
students are helping to finance higher education and teacher education in Belarus. In academic year 2008–2009, 7,500 foreign students from<br />
87 countries studied in Belarusian universities. In 2009–2010, 9,028 students from 84 countries did so. The total number, however, is not very<br />
large compared to the 60,000 students currently graduating each year from HEIs in Belarus. Thus this effort is not generating substantial<br />
income. In addition, most international students in Belarus come from Asian countries, such as China, India, Lebanon, and Iran, as well as CIS<br />
countries: Russia, the Ukraine, Turkmenistan, Azerbaijan, and Tajikistan. The two countries sending the most students are Turkmenistan and<br />
China. We might conclude that international students study in Belarus mainly through channels established during the time of the Soviet<br />
Union. In its efforts to attract students from abroad, Belarus is succeeding about as well as other countries. Data from international<br />
organizations and Belarusian institutes of educational management show that the share of international students in countries like Japan, Spain,<br />
Italy, and Turkey is almost the same as in Belarus (Gedranovich 2004). This provides a base to characterize these countries’ education systems,<br />
as well as those of the United States, Belgium, Canada, Switzerland, and Norway, as oriented toward the “inner” educational market. In recent<br />
years, however, the Ministry of Education has intensified its focus on exporting educational services and attracting students from abroad.<br />
Regional issues and integration: Bologna and the two-tier system. One of the most visible forms of internationalization from the perspective<br />
of public policy is an often observed regional integration: the convergence of higher education systems from different, often neighbouring<br />
countries. In Belarus, however, the regional integration is oriented toward two different regions. First, the return to some Soviet ways,<br />
described earlier, involves intense cooperation with former republics of the USSR towards building a common educational environment.<br />
Second, European integration involves harmonizing the Belarusian higher education system with the Bologna system that is predominant in<br />
Western Europe. In this section we first outline the efforts being made in Belarus towards joining the Bologna Process. We then sketch the<br />
various reforms being undertaken to establish a two-tier system of higher education that would support the country’s integration into Europe.<br />
Reluctance about the Bologna Process<br />
Since the late 1990s, the academic community in Belarus has been discussing the need to join the Bologna Process. In the early 2000s, an<br />
experiment to integrate a two-level model (bachelor’s and master’s degrees) into the higher education system began at the country’s leading<br />
university: the Belarusian State University. It was then extended to the Belarusian State Pedagogical University.<br />
In 2002 Belarus joined the Lisbon Convention on the Recognition of Qualifications Concerning Higher Education in the European<br />
Region. In 2003, at the Berlin Summit of Ministers of Education of the European Union, the Belarusian delegation stated its willingness to<br />
sign the Bologna Declaration. But shortly afterwards, due to political changes in the republic, the process of internationalization was gradually<br />
stopped. The first victim was the Bologna Process. Over the next few years, officials made very few comments on the issue, while most<br />
educational experts stressed that the final outcome on this question depended on the political will of the country’s leader. The head of state,<br />
however, repeated several times that joining the Bologna Process should not be done in haste. Later, several official statements pointed to the<br />
need to preserve traditions from the Soviet educational system, and the intention to search for a Belarusian approach to its system of higher<br />
education. The ministry’s position was that “For many vectors of development, the aims of European Union and Republic of Belarus are<br />
equal but the national aims take into account the obligations and tradition of the Belarusian State within CIS and different agreements”<br />
(Vetokhin 2004, p. 53). The reluctance to engage with the Bologna Process was based on several factors. The primary one was fear. The<br />
government expressed its worries about the depth of reform in higher education that would be required to join the Bologna Process. This is<br />
perhaps understandable, since the country’s education system has been reformed several times with very ambiguous results. This experience<br />
has also created a cautious attitude towards further transformations of secondary schools and HEIs among the academic community,<br />
management staff, and parents. Other reservations were expressed about the potential for future requirements from the headquarters of the<br />
Bologna Process. The second group of arguments stated that Belarus had already fulfilled all the recommendations of the Bologna Process. In<br />
particular, it had a two-level higher education system in place, as we describe below, and its educational standards had already met the<br />
requirements of the European quality management system ISO 9001. Despite all these fears and doubts, it has now become obvious in Belarus<br />
that accession to the Bologna Process will allow the country to achieve a number of positive results. For example, it can now participate in<br />
12
Pedagogical sciences<br />
developing advanced educational and research programmes, taking national interests into account. It can attract more international students.<br />
It can strengthen interaction between universities offering different programmes. It can open up additional educational opportunities for<br />
Belarusian students in Europe. And it can increase the competitiveness of Belarusian diplomas and degrees. This was the context in which, in<br />
January, 2010, then Minister of Education Alexander Radkov made a statement to the Presidential Administration about legislating an official<br />
document for joining the Bologna Process. This was a significant event. From the experts’ point of view this process was stimulated by the<br />
warming of relations between official Minsk and Europe. At a meeting on the development of higher education on 6 July, 2010, the president<br />
of the republic requested that officials consider more carefully whether it would be appropriate to join the Bologna Process. A few short<br />
months later, the decision to join the Process was made.<br />
Conclusions<br />
It is evident from all the arguments and facts we have provided here that the process of internationalization in Belarus is developing slowly<br />
and faces multiple problems. At the same time, international relations in higher education, and teacher education, still face paradoxes that<br />
impede their further development. The first obstacle is that HEIs do not have the autonomy to make their own strategic decisions concerning<br />
their internal and external activities. This keeps them from developing contacts with the European and world educational communities. The<br />
number of study activities abroad and possibilities for participating in international events in Europe and other parts of the world is still low.<br />
International relations in education still develop mostly with neighbouring post-Soviet countries, such as Ukraine, Russia, Azerbaijan,<br />
Turkmenistan, and Tajikistan.<br />
Based on our specific historical heritage and taking into account the current situation of teacher education in Belarus, we propose several<br />
ways to develop internationalization in higher pedagogical education.<br />
In this article we have shown that the connected concepts behind the words national, nationalization, international, and internationalization<br />
have changed, and perhaps multiplied their meanings several times over during the first two decades of Belarusian sovereignty; meanwhile<br />
they have had huge impacts on education and teacher education. The first phase was marked by attempts to establish a national education<br />
system by learning from good examples from other countries in the east and west. Internationalization in higher education and teacher<br />
education was certainly on the agenda, but the well established contacts with former partners in the united educational environment involving<br />
countries of the former Soviet Union often outshone the relationships with the newly discovered world in the West. After about ten years of<br />
independence, “internationalization” was almost completely reduced to former Soviet countries. These relationships, however, often appear to<br />
be natural to the Belarusian academic and educational community, given the long period in which Belarus was a part of the USSR. The recent<br />
resumption of international cooperation with European and western countries by signing the Bologna Process seems to be an important step<br />
towards internationalization in higher education and teacher education in Belarus.<br />
References:<br />
1. BSPU/БГПУ [Belarusian State Pedagogical University] (2010). Отчет о работе БГПУ зa 2009/2010 yчeбный гoд [BSPU report on<br />
academic year 2009/2010], пoд peд. П.Д. Кyxapчикa, A. И. Aндapaлo, A. B. Topxoвoй. Minsk: BSPU/БГПУ.<br />
2. Crowther, P., Joris, M., Otten, M., Nilsson, B., Teekens, H., & Wa¨chter, B. (2000). Internationalisation at home: A position paper<br />
(resource document). Amsterdam: European Association for International Education (EAIE). http://www.eaie.org/IaH/IaHPositionPaper.pdf.<br />
3. Gancherenok, I., & Shaton, G. / Гaнчepeнoк, И., & Шaтoн, Г. (2002). Интepнaциoнaлизaция выcшeгo oбpaзoвaния в Pecпyбликe<br />
Бeлapycь: coциoлoгичecкaя диaгнocтикa экcпepтнoгo мнeния [Internationalization of higher education in the Republic of Belarus: A<br />
sociological diagnosis based on an expert’s opinion]. Информационный бюллетень, 3. http://newsletter.iatp.by/ctr3-6.htm.<br />
4. Gedranovich, C. / Гeдpaнoвич, A. (2004). Рынок международных образовательных услуг. [The market for international educational<br />
services]. Paper presented at an international conference on the results of globalisation in Belarus. Minsk: BSPU.<br />
http://www.economy.bsu.by/library/%D7%F2%EE_%E4%E0%E5%F2_%C1%E5%EB%E0%F0%F3%F1%E8_%E3%EB%EE%E1%E0<br />
%EB%E8%E7%E0%F6%E8%FF/%C1%C3_%C3%E5%E4%F0%E0%ED%EE%E2%E8%F7.pdf.<br />
5. Knight, J. (2003). Internationalization of higher education. Practices and priorities: 2003 IAU survey report. Paris: International<br />
Association of Universities. http://www.pucminas.br/imagedb/documento/DOC_DSC_NOME_ARQUI20060214115459.pdf.<br />
6. Vetokhin, S. (2004). Education in Belarus: National report of the Republic of Belarus. Minsk: Ministry of Education, National Institute<br />
of Higher Education.<br />
PROJECT METHOD AT ESTABLISHING INFORMATION CULTURE IN FUTURE IT TEACHERS<br />
I. Ishutina, senior lecturer<br />
A. Mailibaeva, candidate mathematical and physical sciences, assoc. prof.<br />
Atyrau State University named after Halel Dosmukhamedov, Kazakhstan<br />
Conference participants<br />
In order to improve the preparation system of future IT teachers it is necessary, based on the conception that one of the main target of<br />
school education today, to train students to instant perception and working out the large extent of information, equip them with modern work<br />
facilities and technologies and establish information culture in them. Every teacher should deal with it, especially the teacher of information<br />
technology. Future IT teacher should realize his role which he can take in forming the individuality of a student, the individuality of<br />
information civilization. A graduate of Pedagogical higher education institution should be ready to use the facilities provided by new<br />
information technologies, in teaching, education and improvement of students. In order to form students’ working skills with new information<br />
technologies, first of all the teacher should have such skills himself.<br />
According to B.S. Gershunsky’s researches, skills are mostly fully formed in activity, [1] namely the activity approach is the most<br />
perspective in forming new information technology using skills in professional activity. Practice of arranging students’ self-guided work in the<br />
form of project activity using ICT means has well-approved itself at forming the information culture.<br />
Method of projects is organization of training during which students acquire knowledge at the course of planning and performing practical<br />
project-tasks. Under this project we will understand that the works of computer electronic visual aids done by a student or a group of students<br />
are of teaching character. The method of projects will be efficient to start to use after conducting methodological and special range of<br />
disciplines with students.<br />
Future IT teachers should have the developed knowledge in the field of the technique of teaching information science, to possess good<br />
programming skills, abilities to use a wide range of software which can be used while designing, test implementing and project debugging.<br />
13<br />
Actual problems of modern pedagogics
Pedagogical sciences<br />
First of all it is necessary to charge future IT teachers with challenging tasks, gradually start from creating slide lectures and supervising<br />
and testing software tools to creating pedagogical software tools of educational purpose and more difficult computer training programs and<br />
preferably to involve group of students to work over them. Working on creation, designing, approbation of the software of training character<br />
created independently forms at an IT teacher the skills of creating and use of these means and helps to learn the main point and the logic of<br />
work of the training program in depth, also helps to understand and learn more about the classification of software tools and to study every<br />
nuances of their applications.<br />
The analysis and discussion of methodological features of already created and adopted in educational process electronic textbooks,<br />
educational sites or pedagogical software of educational purpose, and also the programs created by students allows to track all process<br />
previous creation of this or other computer pedagogical means, allows students to see all advantages or disadvantages of the software product.<br />
Demonstration and presentation of the projects created by students encourage future IT teachers to use and expand the use of new<br />
information technologies. Working on projects allows them to improve the information culture, consolidate the programming skills and work<br />
with a wide class of applied software, improves developer’s creativity as in term of writing program working script as in term of mounting the<br />
design of program considering ergonomics requirements.<br />
Writing scripts of educational programs favors the development and consolidation of the knowledge of methodological teaching<br />
peculiarities, integrally systemizes the knowledge of psycho-educational teaching peculiarities, perception and learning the material presented<br />
in the computer training program.<br />
At Atyrau state university to effectively establish the ability of students of physic-mathematical faculties with the specialty "Information<br />
technology" to create and use the new information technology of training and training software tools during the lessons of the discipline<br />
«Methods and techniques of teaching information technology» were used the following project tasks: writing methodological study aid of the<br />
lesson using educational programming tools and using the new information technology; getting familiar with various types of electronic<br />
educational resources and with the method of using them in the course of learning according to the subject; developing the methodological<br />
approaches involving students in different kinds of educational activity within a subject on the basis of the organization of activity of<br />
development and use of computer training programs; developing educational multimedia presentations; creating educational video files;<br />
creating educational animations; designing electronic learning aids with multimedia elements; on the course of which students get necessary<br />
theoretical and practical materials; make up practical tasks and tests for intermediate and final control; develop an on-screen presentation;<br />
prepare methodological recommendations for teachers; make the design of visual aids and perform it in one of the selected fields; create<br />
electronic learning pack on studying course themes, including hourly arrangement, theoretical and practical, additional and historical<br />
information; create methodological recommendations for conducting a lesson; practical tasks and tests, write research papers and essays;<br />
participate in conferences, competitions, do scientific-research works.<br />
Examples of some project activity forms: web-site, a video film, a thematic exhibition, a presentation, collection, a newspaper, a<br />
pamphlet, training or improving games, a model, multimedia product, aids for decorating IT rooms, an electronic dictionary or a guidebook,<br />
teaching aids etc.<br />
Wide use of the practice of arranging students’ self-guided work in the form of project activity using the means of computer technology<br />
has approved itself as the form of active learning, as a reliable mean of enhancing IT teacher’s information culture. Method of projects<br />
improves the effectiveness of University education, establishes professional skills in using new information technologies at study.<br />
References:<br />
1. B.S. Gershunskii. Computerizationin in the sphere of education: problems and prospective. –M.: Pedagogics, 1987.-264p.<br />
ИССЛЕДОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ К ПРИМЕНЕНИЮ КОМПЬЮТЕРНЫХ<br />
ОБУЧАЮЩИХ ПРОГРАММ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ<br />
Ишутина И.Р., ст. преподаватель<br />
Атырауский государственный университет им. Х. Досмухамедова<br />
Участник конференции<br />
Actual problems of modern pedagogics<br />
Информатизация образования, являющаяся одним из приоритетных направлений процесса информатизации общества,<br />
предъявляет новые требования к профессиональным качествам и уровню подготовки школьных учителей и преподавателей вузов,<br />
к методическим и организационным аспектам использования в обучении средств информационных, коммуникационных и<br />
компьютерных технологий. В настоящее время знания и умения учителя в области создания и использования информационных<br />
технологий в образовании необходимо рассматривать как элемент профессионального педагогического мастерства. Более того, педагогические<br />
вузы и курсы повышения квалификации учителей должны обеспечить опережающую подготовку студентов и<br />
преподавателей в этой области.<br />
Уже несколько лет в программу курсов повышения квалификации учителей включены вопросы, касающиеся внедрения информационных<br />
технологий в учебный процесс. Все это способствует приобщению учителей к работе с информационными технологиями,<br />
в том числе компьютерными обучающими программами, и организации обучающей работы школьников на компьютере. Но<br />
практика показывает, что, несмотря на подобную подготовку, даже при наличии в школе достаточного количества единиц<br />
компьютерной техники и соответствующего программного обеспечения, в лице обучающих компьютерных программ, многие<br />
учителя по—прежнему предпочитают работать традиционными методами.<br />
Осуществляя исследование в области совершенствования подготовки учителей к использованию обучающих компьютерных<br />
программных средств в профессиональной дея-тельности, автором работы на кафедре компьютерных и вычислительных технологий<br />
Атырауского государственного университета им. Халела Досмухамедова были разработаны специальные анкеты, позволяющие<br />
выявить уровень готовности практикующих учителей информатики к применению компьютерных обучающих программ в профессиональной<br />
деятельности. В рамках данного исследования нами было выявлено, что учителя информатики в большинстве своем<br />
имеют преимущественно средний и низкий уровень готовности к применению компьютерных обучающих программ в<br />
профессиональной деятельности.<br />
В ходе исследования выяснялся уровень и глубина знаний практикующих учителей информатики о сущности и специфике использования<br />
компьютерного обучения, замерялась осознанность действий по использованию компьютерных обучающих программ<br />
14
Pedagogical sciences<br />
в учебном процессе современной школы. Полученные данные показали, что учителя информатики и предметники в массе своей, не<br />
владея в полной мере теоретическими знаниями о сущности обсуждаемой проблемы, не регулярно применяют обучающие<br />
программы в учебном процессе, и испытывают при этом ощутимые трудности при проектировании и создании компьютерных педагогических<br />
средств учебного назначения, обучающих программ и электронно-методических пособий. Анкетирование выявило,<br />
тот факт, что владение компьютерной грамотностью учителями информатики преимущественно составляет средний (38,7%) и<br />
достаточный уровень (50%), высоким уровнем обладает всего (6,8%) учителей. Учителя информатики имеют ярко выраженную<br />
мотивацию к регулярному использованию в учебном процессе обучающих программ. 93% учителей информатики планируют в<br />
будущем более широкое использование электронных учебников и обучающих программ на уроках информатики. Исследованием<br />
было выявлено, что 68% опрошенных считают, что их кабинет информатики обладает условиями для эффективного использования<br />
обучающих программ в учебном процессе, 32% отметило, что таких условий не имеют. Не все учителя имеют достаточное<br />
количество обучающих программ рекомендованных министерством образования, 53% учителей отметило, что не имеет в наличие<br />
таких программ. Учителя информатики испытывают недостаток в компьютерных обучающих программах по следующим темам,<br />
изучаемым в курсе информатике средней школы: алгоритмизация программирование(57,4%), сети и телекоммуникации 13%, представление<br />
информации в компьютере 9,26%, архитектура компьютера 5,5%, прикладные программы 3,7%, 11,14% указали другую<br />
тематику обучающих программ. Учителя информатики при объяснении новой темы предпочитают воспользоваться самостоятельно<br />
составленной слайд-лекцией 39,2%, воспользуются обучающей программой или другим компьютерным программным средством<br />
учебного назначения 27,5%, предпочтут традиционные формы 26% и воспользуются возможностями образовательных Интернет<br />
ресурсов 7,3% опрошенных учителей. Исследование выявило, что учителя периодически используют КОП на своих уроках,<br />
причем большей частью действуют интуитивно, имея слабое представление о методике компьютерного обучения и сочетании его с<br />
традиционными методами обучения.<br />
В результате анализа полученных данных можно сделать заключение о том, что учителей информатики имеют достаточный мотивационный<br />
компонент к использованию компьютерных обучающих программ в процессе обучения; учителя информатики<br />
имеют преимущественно достаточный и средний уровни владения компьютерной грамотностью; имеются условия к применению<br />
компьютерных обучающих программ на уроках информатики; учителя информатики отмечают достаточное наличие компьютерной<br />
техники и высказывают желание, в будущем, по чаще использовать возможности компьютерных обучающих программ и применять<br />
их на всех этапах урока информатики. Выявленные трудности, в организации процесса работы с компьютерными обучающими<br />
программами, характеризуются отсутствием достаточного количества необходимых обучающих программ различных видов и по<br />
различным тематикам, а также не достаточным уровнем развития знаний, умений и навыков учителей информатики по созданию<br />
собственных педагогических программных средств и обучающих программ.<br />
Сегодня подготовкой учителей в области информатизации образования занимаются самые разные организации — от институтов<br />
повышения квалификации до различных коммерческих организаций. Большая часть курсов ориентирована на то, чтобы привить<br />
учителям элементарные пользовательские навыки, а в лучшем случае еще и навыки создания презентаций в PowerPoint и<br />
использования Интернета для поиска нужной информации. Никто не спорит, это очень важно, но, к сожалению недостаточно.<br />
Отсутствие фундаментальной подготовки учителей в области теории и методики создания и использования компьютерных<br />
обучающих средств в учебном процессе не позволяет в полной мере использовать возможности самых лучших, самых современных<br />
технологий в целях повышения эффективности обучения, улучшения качества управления образованием на всех уровнях. Решение<br />
этой проблемы мы видим, прежде всего, в отказе от старых методов, используемых на курсах повышения квалификации (лекции,<br />
семинары), где просто рассказывают и обсуждают преимущества компьютерного обучения. Если учителя самого привлечь к работе<br />
по созданию компьютерных обучающих программ, «посадить» за компьютер, чтобы он не понаслышке, а воочию убедился в дидактических<br />
и педагогических возможностях педагогических программных средств, чтобы сам разобрался в отличиях одного вида<br />
от других, сам оказался вовлеченным в познавательную деятельность посредством компьютерных обучающих программ, т.е.<br />
прежде всего, «погрузить» в информационно-образовательную среду самого учителя.<br />
Исследование выявило, что большинство учителей информатики не готово, на должном уровне, работать с предоставленными<br />
им программными средствами учебного назначения, тем более адаптировать их к своим условиям, дополнять, изменять, привносить<br />
собственный опыт или из-за консерватизма, или из-за недостаточной профессиональной подготовки. Решение этой проблемы мы<br />
видим прежде всего в применении новых способов методической переподготовки учителей, носящих интерактивный, практикоориентированный<br />
и тренинговый характер на основе углубления теоретических знаний о сущности компьютерного процесса<br />
обучения.<br />
О НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ<br />
В ПОМОЩЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ ДИСЦИПЛИНЫ «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО»<br />
Конурова-Идрисова З.К., канд. пед. наук<br />
Кокшетауский государственный университет им.Ш.Ш.Уалиханова, Казахстан<br />
Участник конференции,<br />
Национального первенства по научной аналитике,<br />
Открытого Европейско-Азиатского первенства по научной аналитике<br />
Требования, предъявляемые обществом Республики Казахстан к специалистам с высшим педагогическим образованием, за<br />
последние годы существенно повысились.<br />
Как отмечено в Концепции высшего педагогического образования Республики Казахстан, учитель новой формации - это<br />
духовно развитая, творческая личность, обладающая способностью к рефлексии, профессиональными навыками, педагогическим<br />
даром и стремлением к новому, личность, представленная не как простая сумма свойств и характеристик (как это традиционно<br />
излагалось в квалификационных характеристиках по учительским специальностям), а целостное динамическое образование,<br />
логическим центром и основанием которого является потребностно-мотивационная сфера, составляющая ее социальную и профессиональную<br />
позицию.<br />
В свою очередь, творческая направленность педагогической деятельности требует от будущего учителя: объективно оценивать<br />
свои возможности как будущего педагога, знать свои слабые и сильные, значимые для данной профессии качества (особенности саморегуляции,<br />
самооценки, эмоциональные проявления, коммуникативные, дидактические способности и т.д.); владеть общей<br />
15<br />
Actual problems of modern pedagogics
Pedagogical sciences<br />
культурой интеллектуальной деятельности (мышления, памяти, восприятия, представления, внимания), культурой поведения,<br />
общения, в том числе – педагогического.<br />
Подготовка педагога в РК должна представлять собой целенаправленное формирование профессионализма,<br />
готовности к творческой педагогической деятельности в ходе обучения в высшем учебном заведении. Этому<br />
предшествует изучение ряда дисциплин базового и профильного компонентов, в частности «Педагогическое мастерство»,<br />
«Методики преподавания учебных дисциплин».<br />
В связи с этим многообразие и сложность задач формирования нового человека делают проблемы педагогического<br />
мастерства особенно актуальными для современной теории и практики воспитания. Педагогическое мастерство, с<br />
одной стороны, является важным компонентом педагогической культуры педагога, а с другой - условием профессионального<br />
развития и совершенствования. В процессе обучения зачастую традиционно преобладает теоретическая часть и недостаточно<br />
развита практическая составляющая. Распространенная методика преподавания дисциплин психолого-педагогического<br />
цикла складывается, главным образом, именно из лекций, семинаров, СРСП (самостоятельная работа<br />
студента с преподавателем), контрольных работ, экзаменов.<br />
Современное образование требует от студентов не только знаний основных понятий, приобретения определенных умений,<br />
навыков, но и развития педагогических способностей, приобретения творческой позиции, наличия собственной точки зрения на<br />
изучаемый материал.<br />
Значительную помощь при организации процесса обучения в настоящее время будут иметь лекции и практические занятия с<br />
использованием методов активного обучения. Основная направленность этих занятий с использованием данной группы методов –<br />
личностно-ориентированная, предполагающая наличие возможности для каждого студента, преподавателя вкладывать в свою<br />
деятельность личный смысл и формировать свою позицию.<br />
Это позволит создать условия для успешной самореализации будущих учителей в их дальнейшей деятельности, поскольку<br />
данная дисциплина предполагает интеграцию знаний об искусстве обучения и воспитания, творчестве, способностей саморазвития<br />
и самореализации, овладении коммуникативными умениями, прогрессивными технологиями педагогического взаимодействия и<br />
мастерством управления учебно – воспитательного процесса.<br />
Анализ данных анкетирования профессорско-преподавательского состава на выявление необходимости создания учебнометодического<br />
пособия по дисциплине «Педагогическое мастерство» показал, что в содержании, наряду с современными<br />
проблемами образования и преподавания должны отражаться специфика работы школы будущего и творческий подход к<br />
организации учебно-воспитательного процесса.<br />
Также, как показывают данные опроса профессорско-преподавательского состава степень включения в пособии занятий с использованием<br />
интерактивных форм обучения составляет 58%, занятий с использованием информационно-компьютерных технологий<br />
36,5%, ничего особенного в содержание занятий вносить нет необходимости - 5,5%.<br />
Диаграмма 1- Степень включения различных видов занятий<br />
Actual problems of modern pedagogics<br />
Таким образом, создание учебно-методического пособия в помощь преподавателю дисциплины «Педагогическое<br />
мастерство», где необходимо раскрывать не только традиционную проблематику учебно-воспитательного процесса,<br />
но и специфику работы школы завтрашнего дня, где должны работать творческие специалисты, безусловно, является<br />
актуальным и своевременным.<br />
Цель учебно-методического пособия - оказать помощь студентам при подготовке к лекционным и практическим занятиям по<br />
дисциплине «Педагогическое мастерство», направленным на развитие личности будущего педагога и их творческую самореализацию<br />
в ходе обучения.<br />
Основные задачи, решаемые учебно-методическим пособием:<br />
1. Помочь студентам более глубоко овладеть изучаемой дисциплиной.<br />
2. Способствовать развитию у студентов необходимых общеучебных умений: анализировать, синтезировать, сравнивать,<br />
обобщать и т.д. полученную информацию.<br />
3. Способствовать развитию у студентов необходимых общепрофессиональных умений: применять полученные знания на<br />
практике, ретроспективно восстанавливать типичные педагогические обстоятельства, в которых может произойти то или иное психолого-педагогическое<br />
явление.<br />
4. Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки студентов в целом и по изучаемой дисциплине в частности.<br />
Главной целью обучения данной дисциплины является формирование самими учащимися механизмов осознания и фиксации<br />
своих внутренних изменений и приращений к творческой педагогической деятельности.<br />
В рамках учебного процесса, организованного на основе вышеназванных подходов, данное учебно-методическое пособие<br />
позволяет студентам:<br />
- Рассмотреть основы педагогического мастерства; самоопределиться в образовательном пространстве данной дисциплины,<br />
выразив собственную позицию и личностно-актуальную для себя проблематику.<br />
- Приобрести первый опыт эффективной творческой педагогической деятельности с помощью ответов на дискуссионные<br />
вопросы, выполнения заданий, упражнений, комплекса задач, заданий по СРС<br />
- Познакомиться с формами и методами педагогической работы в режиме лекций, практических занятий, во время которых используются<br />
различные организационные формы и активные методы обучения, что в дальнейшем позволит более осознанно<br />
подойти к изучению данных вопросов, и в дальнейшем разрабатывать фрагменты уроков, внеклассных занятий более осознанно,<br />
продуктивно, с учетом опыта.<br />
16
Pedagogical sciences<br />
УДК 339.727<br />
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ<br />
Наби Ы.А., д-р пед. наук, проф.<br />
Казахстанско-Британский технический университет, Казахстан<br />
Участник конференции<br />
Национального первенства по научной аналитике<br />
Открытого Европейско-Азиатского первенства по научной аналитике<br />
Дано определение образовательных инноваций, показана роль инновационной деятельности педагога в системе<br />
обеспечения качества образования .<br />
Ключевые слова: образовательные инновации, система обеспечения качества образования, инновационная деятельность<br />
педагога.<br />
Given the Definition of educational innovations, shown the role of innovative activity of the teacher in system of ensuring<br />
quality of education.<br />
Keywords: Educational innovations, System of ensuring quality of education, Innovative activity of the teacher.<br />
Как известно, образовательная система – это целостный объект образования с четко выраженными границами, с необходимым<br />
и достаточным для описания функционирования системы набором элементов (компонентов) в их связях и тесном взаимодействии,<br />
обладающий следующими признаками: реальностью, социальностью, сложностью, открытостью, динамичностью, вероятностью,<br />
целеустремленностью, самоуправляемостью. Если отдельно рассматривать такой признак системы, как ее открытость, то следует в<br />
первую очередь отметить, что открытость делает систему способной не только воспринимать инновационные тенденции извне, но<br />
и превращать это внешнее воздействие во внутренний атрибут, без которого система существовать не может, и которые играют<br />
определяющую роль в развитии и закреплении новаторских тенденций. Системы обеспечения качества образования, как вид образовательной<br />
системы, обладают признаком открытости, т.к. не могут существовать без взаимодействия, обмена информационными,<br />
материальными и человеческими ресурсами. Открытость делает эти системы способными воспринимать инновационные процессы.<br />
В настоящее время инновации не могут рассматриваться как дань «моде», это – неотъемлемый атрибут деятельности учебного<br />
заведения, условие сохранения его конкурентоспособности, обеспечения качества образования: «Инновационный процесс является<br />
не единичным актом внедрения какого-либо новшества через инновацию, а целенаправленной сменой состояний, этапов по<br />
созданию, распространению, освоению и использованию новшеств» [1]. Зародилась педагогическая инноватика — наука, изучающая<br />
природу, закономерности возникновения и развития педагогических инноваций в отношении субъектов образования, а также обеспечивающая<br />
связь педагогических традиций с проектированием будущего образования. Различают также образовательную<br />
инноватику, которая в качестве научной области инноватики должна изучать закономерности и механизмы обновления образования,<br />
разрабатывать соответствующие предложения и рекомендации.<br />
Анализ литературы показал, что термин «инновация» в настоящее время понимается и объясняется неоднозначно.<br />
В частности, этот термин толкуется и просто как калька с английского “innovation” (нововведение); и как такое нововведение,<br />
которое связано с новой техникой или технологией; и как нововведение, обеспечивающее достижение<br />
мирового уровня выпускаемой продукции; и как нововведение, достойное патентования; и некоторые другие<br />
формулировки. Сложилось несколько подходов к интерпретации данного понятия. Первый подход. Этим термином<br />
обозначают только некий процесс. Например, в Большом экономическом словаре под финансовыми инновациями понимаются<br />
методы, позволяющие повысить эффективность финансовых ресурсов компаний [2].<br />
Авторы [3] утверждают, что в западной экономической литературе Б. Твист определяет инновацию как процесс, в котором идея<br />
изобретения приобретает экономическое содержание. Ф. Никсон считает, что инновация - это совокупность технических,<br />
производственных и коммерческих мероприятий, приводящих к появлению на рынке новых и улучшенных промышленных<br />
процессов и оборудования. В понимании Б.Санто инновация – это такой общественный, технико-экономический процесс, который<br />
через практическое использование идей и изобретений приводит к созданию лучших по своим свойствам изделий, технологий, и в<br />
случае, если она ориентируется на экономическую выгоду, прибыль, т.к. появление инновации на рынке может привести добавочный<br />
доход. В «Руководство Осло», который является действующим методологическим документом, подготовленным Организацией экономического<br />
сотрудничества и развития (ОЭСР) совместно с Евростатом и содержащим рекомендации в области статистики<br />
инноваций, которые в ЕЭС признаны в качестве международных статистических стандартов, инновацию рассматривают как<br />
деятельность, процесс изменений.<br />
Сами авторы [3] этим термином обозначают и процесс, и результат этого процесса. Таким образом, налицо многозначность<br />
термина. Нами выявлены различные подходы в понимании данного термина с соответствующими примерами:<br />
1) Инновация как разработка и внедрение: разработка и внедрение технологически новых и технологически усовершенствованных<br />
продуктов; использование принципиально новых либо существенно отличающихся от аналогичных, ранее производимых продуктов.<br />
2) Инновация как процесс: процесс обновления сфер жизни человека в реорганизации социума (педагогика, система управления,<br />
благотворительность, обслуживание, организация процесса).<br />
3) Инновация как результат: конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или<br />
усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого<br />
в практической деятельности либо в новом подходе к социальным услугам.<br />
4) Инновация как процесс или результат: такие нововведения в любой сфере человеческой деятельности, представляющие<br />
собой процесс (или результат процесса), направленные на необходимое и достаточное выполнение следующих условий:<br />
- используются частично или полностью охраноспособные (т.е. защищённые патентным, и/или авторским, и/или информационным<br />
правом) предметы труда и/или ноу-хау; и/или<br />
- обеспечивается выпуск охраноспособных товаров и/или услуг; и/или<br />
- используется такие предметы труда и/или ноу-хау и/или выпускаются такие товары и/или услуги, которые, в соответствии с<br />
установленными по методологии стоимостной оценки нормами, признаются соизмеримыми с мировым уровнем; и/или<br />
- обеспечивается выпуск товаров и услуг, которые по своему качеству (или по отдельным свойствам, это качество составляющим),<br />
в соответствии с установленными по методологии квалиметрии нормами, признаются соизмеримыми с мировым уровнем; и/или<br />
- обеспечивается в потреблении эффект (не обязательно только экономический) не меньший, чем заранее установленная<br />
17<br />
Actual problems of modern pedagogics
Pedagogical sciences<br />
Actual problems of modern pedagogics<br />
нормативная величина<br />
Несмотря на большое количество определений термина «инновация», мы пока не нашли в литературе определения понятия<br />
«образовательная инновация». В одном из наших предыдущих трудов мы выражали мнение, что инновация – это новация,<br />
реализованная в деятельности, поэтому образовательной инновацией будем называть создание педагогической новации, ее освоение<br />
и внедрение в образовательный процесс педагогическим коллективом.<br />
Как видим, в этом определении не видно роли одного из основных субъектов образовательного процесса – обучаемого. Кроме<br />
того, не отражены мотивы создания инновации, но ведь они являются побудителями деятельности человека, социальных групп,<br />
ради чего она и совершается [4, с.389-390], обуславливают определение цели как субъективного образа желаемого результата<br />
ожидаемой деятельности, действия [5,с.165]. В связи со сказанным мы поставили задачу уточнить данную дефиницию. Чтобы<br />
решить задачу, мы обратились к первоначальной трактовке термина «инновация» и ее особенности:<br />
• Инновация = «novatio» (обновление) + in (в направление), т.е. innovatio – в направлении изменений<br />
• особенность инновации в том, что она позволяет создать дополнительную ценность, позволяет инноватору получить<br />
дополнительную ценность и связана с внедрением. В рамках этого взгляда инновация не является инновацией до того момента,<br />
пока она успешно не внедрена и не начала приносить пользу.<br />
На основании сказанного мы считаем, что образовательная инновация - это мотив, цель, процесс и результат преобразующей<br />
образовательной деятельности субъектов образовательного процесса в направлении обеспечения эффективности<br />
и качества образования. Указание в данном определении на обеспечение эффективности и качества<br />
образования связано с тем, что в настоящее время происходит смена парадигм образования в связи с переходом от индустриального<br />
к постиндустриальному обществу. Как пишет А.М.Новиков, стремительно растет другой, новый класс<br />
— класс высокообразованных «интеллектуальных служащих» или, как его иначе называют — «класс образованных<br />
людей». Этот новый класс в США, Японии, ряде других стран уже составляет более половины занятого населения.<br />
Таким образом, возникло общество «интеллектуальных служащих», которых нельзя считать ни эксплуатируемыми,<br />
ни эксплуататорами. Каждый из них в отдельности не является капиталистом, но коллективно они владеют большей<br />
частью средств производства своих стран через свои пенсионные, объединенные фонды и свои сбережения. Являясь<br />
подчиненными, они в то же время могут быть руководителями. Они и зависимы и независимы, поскольку прекрасно<br />
осведомлены, что образование, которым они обладают, дает им свободу передвижения — в их услугах, будь то<br />
математик, программист, инженер, бухгалтер, секретарь, владеющий навыками работы на компьютере и знающий<br />
иностранные языки, нуждаются так или иначе практически все учреждения и предприятия.<br />
Автор отмечает, что общество, в котором образованность становится подлинным капиталом и главным ресурсом, предъявляет<br />
новые, притом жесткие требования к школам в смысле их образо-вательной деятельности и ответственности за нее. Сегодня<br />
необходимо заново осмыслить, что такое учение и что такое обученный человек. Способы усвоения учебного материала и подачи<br />
его педагогами тоже быстро претерпевают значительные изменения, что отчасти является результатом нового понимания процесса<br />
обучения, а отчасти — результатом новых технологий. Таким образом, изменяется также и то, что именно мы усваиваем и<br />
преподаем, то есть то, что мы подразумеваем под учением и обучением [6].<br />
Давая собственную дефиницию понятию «образовательная инновация», мы далеки от мысли, что она оригинальна и что другие<br />
ученые не дали подобное определение. Надеемся в вопросе уточнения термина на коллег, ведь формат конференций Международной<br />
Академии Науки и Высшего образования дает возможность оперативно узнавать мнение участников конференции и тут же<br />
реагировать на высказанные комментарии.<br />
Как было отмечено выше, особую роль в обеспечении качества учебного процесса играет инновационная деятельность<br />
педагога. В связи с этим становление готовности педагога к ней является важнейшим условием его профессионального развития.<br />
Если педагогу, работающему в традиционной системе, достаточно владеть педагогической техникой, т.е. системой обучающих<br />
умений, позволяющих ему осуществлять учебно-воспитательную деятельность на профессиональном уровне и добиваться более<br />
или менее успешного обучения, то для перехода в инновационный режим определяющей является готовность педагога к<br />
инновациям.<br />
В педагогической науке инновационная деятельность понимается как целенаправленная педагогическая деятельность,<br />
основанная на осмыслении (рефлексии) своего собственного практического опыта при помощи сравнения и изучения,<br />
изменения и развития учебно-воспитательного процесса с целью достижения более высоких результатов, получения<br />
нового знания, качественно иной педагогической практики. Однако, как известно, для педагога вуза ограничение<br />
своей деятельности только развитием учебно-воспитательного процесса грозит потерей профессионализма, т.к. неотъемлемой<br />
частью его деятельности является научная работа.<br />
Соответственно, объединяя понятия образовательной и научной инноваций, инновационной деятельностью преподавателя вуза<br />
будем называть деятельность по преобразованию новых знаний, идей в педагогические технологии, внедрение их в содержание образования,<br />
в средства обучения и т.д., внедрение результатов прикладных научных исследований и опытно-конструкторских<br />
разработок в производство.<br />
К основным функциям инновационной деятельности относится изменение компонентов педагогического процесса: целей,<br />
содержания образования, форм, методов, технологий, средств обучения, системы управления и т.д.<br />
Отличительные черты инновационной деятельности педагога:<br />
• новизна в постановке целей и задач;<br />
• глубокая содержательность;<br />
• оригинальность применения ранее известных и использование новых методов решения педагогических задач;<br />
• разработка новых концепций, содержания деятельности, педагогических технологий на основе гуманизации и индивидуализации<br />
образовательного процесса;<br />
• способность сознательно изменять и развивать себя, вносить вклад в профессию.<br />
Среди факторов, влияющих на успешность инновационной деятельности педагога мы выделяем овладение информацией<br />
(получение, переработка, применение), использование достижений науки и технического прогресса, знание закономерностей педагогической<br />
науки, внешние факторы: требования стейкхолдеров и государственная образовательная политика. Выделение внутренних<br />
и внешних факторов обусловлено тем, что системы обеспечения качества должны предусматривать:<br />
1) определение степени ответственности и обязанностей всех заинтересованных организаций и вузов;<br />
2) оценку программ или учебных заведений, включая внутреннее оценивание, внешние экспертизы, участие студентов в<br />
процедурах оценки и публикацию ее результатов [7].<br />
Таким образом, результаты инновационной деятельности педагога отражаются на качестве образования, т.к. продуцируется<br />
новое знание, разрабатываются новые педагогические технологии и соответствующие технические средства обучения, удовлетворяются<br />
требования стейкхолдеров, т.е делают систему обеспечения качества открытой и динамичной.<br />
18
Pedagogical sciences<br />
Литература:<br />
1. Муканова С.Д. Управление инновационными процессами в условиях стандартизации среднего общего образования// Автореф.<br />
дисс. … д.пед.н. Караганда, 2008<br />
2. Большой экономический словарь.- Изд. «Институт новой экономики», 2008 -1472 с.<br />
3. Азгальдов Г.Г., Костин А.В. К вопросу о термине «инновация»// Оценка эффективности инноваций: сб.статей под ред.<br />
В.Н.Лившица.- Вып.4.-М.: ЦЭМИ РАН, 2010<br />
4. Философский энциклопедический словарь.- М., Советская энциклопедия 1983<br />
5.. Платонов К.К. Краткий словарь системы психолого-педагогических понятий: Учеб.пособие.- М.:Высшая школа, 1981<br />
6. Новиков А.М. Методология учебной деятельности.- М.: Изд. «Эгвест», 2005.-176 с.<br />
7. http://www.eua.be/eua/en/membership_evaluation_choices.jspx<br />
FENOMENOLOGY OF SOCRATIC DIALOGUE IN PEDAGOGICAL ANTHROPOLOGY<br />
Nyyazbekova K.S., Cand. of Pedagogy sciences, Senior Lecturer<br />
Kazakh National Pedagogical University named after Abay, Kazakhstan<br />
Conference participant,<br />
National championship in scientific analytics,<br />
Open European and Asian research analytics championship<br />
In the article the feature of Socrates’s dialog is examined in the context of ideas of pedagogical anthropology. Methodological principle<br />
of modern pedagogical knowledge is anthropological principle, and in this connection dialog as a universal form of intercourse of<br />
participants of educational process acquires the special meaningfulness. The features of Socrates’s philosophical dialog are presented, which<br />
explain conformity to law of lining up relations in the system of «man is a man» in the situation of transmission present experience.<br />
Keywords: dialog, pedagogical anthropology, culture, man<br />
В статье рассматривается особенности «сократовского диалога» в контексте идей педагогической антропологии. Методологическим<br />
принципом современного педагогического знания является антропологический принцип, и в этой связи диалог как<br />
универсальная форма общения участников образовательного процесса приобретает особую значимость. Представлены особенности<br />
сократического философского диалога, которые объясняют закономерность выстраивания отношений в системе «человек –<br />
человек» в ситуации передачи имеющегося опыта.<br />
Ключевые слова: диалог, педагогическая антропология, культура, человек.<br />
Understanding and mutual understanding are the most important components of a philosophical and anthropological approach in<br />
educational practice which assumes training and education of a human being, his assimilation of signs of the culture surrounding him,<br />
penetration into existing laws and order of things. Life of each person develops in compliance with certain vectors and coordinates, and it is<br />
very important to know how and who they are set by. Education of a human being by another human being is an integral systematic process,<br />
and as K.D.Ushinsky stated in his fundamental work «The human as a subject of education: pedagogical anthropology», everyone thinks that<br />
it is “a familiar and clear thing but at the same time each science in itself only reports separate facts about a human being related to education<br />
whereas it is crucial to compare them and build an “easily-contemplated system”.<br />
Pedagogical anthropology integrates various knowledge related to education of a human being based on a leading principle – to consider<br />
a person as an integral and unique phenomenon in cultural space. Culture as a combination of practical, spiritual and theoretical abilities of an<br />
individual assumes that the problem of communication should be considered as a condition for personality development in the atmosphere of<br />
co-authorship, and according to V.B. Kulikov, it is absolutely fair that an approach of such co-authorship is dialectics, and the most universal<br />
form is dialog. [1, p. 180]. Subjects of an educational process in an everyday life should be guided by a method of understanding the life.<br />
Pedagogical anthropology is based on the doctrine that the meaning of a learner’s life becomes available only as a result of dialogical<br />
interaction. Dialogical understanding is directly connected to self-knowledge, self-conversion and self-education. Understanding and dialog<br />
are inseparable. Orientation of pedagogical action to form «cultural person» implies withdrawal of asymmetry of pedagogical communication<br />
because in a dialog all sides are equal. Therefore, knowledge-information turns into knowledge-idea (thought).<br />
Thus a learner acquires not the level of habits and behavior standards but meanings and understanding which are born in his mind as a<br />
result of his own efforts. Knowledge - thought is always result of own efforts, it is what the person created himself, what he reached with the<br />
need and desire for this achievement. Implementation of potential possibilities given to a person by the nature is embodied in the aspiration to<br />
productive activity, exchange of ideas, values, and available experience. It is expressed in readiness for a dialog with "others". Emergence of<br />
such dialogue is facilitated mainly by a teacher, as for a learner he is a kind of a translator of the existing culture, and not only as its<br />
representative, but also as the carrier of certain traditions. And if we consider a dialogue as an intrinsic form of judgment of human life,<br />
Socrates’s appeal to specifics of a dialogue allows to come to a conclusion that only dialogical communication can ensure interaction and<br />
interference in the ‘learner – teacher” system. Uniqueness of Socrates’s personality is explained by the fact that with his life and death he<br />
demonstrated his contemporaries and descendants the true sense of a human being’s life. What does a person live for? What is an essence of a<br />
human personality? What is virtue and what is vice? Socrates's philosophy is his life, and the questions selected by Socrates for his doctrine<br />
are the major issues for each person. Peculiarity of conversations, the principal occupation he devoted his life, was that they were not usual<br />
everyday talks and verbal disputes; it was well-thought and skillfully applied approach of studying philosophical, moral and political issues.<br />
Conversation is Socrates’s element into which he plunged at the beginning of his life and remained loyal during all his life.<br />
Many researchers of the phenomenon of Socrates’s dialogs highlight in the list of speech verbs "truly Socratic" which reflect direction and<br />
sense of his philosophy: talk and test, discuss and advise, to ask and respond, doubt and plunge into doubt, to edify and refute. Isn’t it a bright<br />
characteristic of a shrewd psychologist who is sensitively reacting to movements of the soul at times imperceptible to an interlocutor? One of<br />
the major objectives of pedagogical anthropology is to understand how people of different ages influence each other, and what makes the basis<br />
of this influence in the course of interaction.<br />
Education of a person as a process is inseparably linked with personal strengths of the person, and their development. It is understood as<br />
co-authorship through a prism of active relations. Samples, examples, and standards define the content of specific actions. They show how to<br />
behave in a certain situation, specify to the individual that in his activity he belongs to a certain community, and that he should acquire and<br />
accept necessary standards of behavior. A person in many respects goes along the beaten track, and ne needs to know and remember who has<br />
19<br />
Actual problems of modern pedagogics
Pedagogical sciences<br />
Actual problems of modern pedagogics<br />
beaten these tracks. Only then it will be possible to speak about an ability to be guided in cultural measurement which is impossible without<br />
“a dialogue - a natural method of communication and obtaining truth” [4, p. 83]. Socrates’s interlocutors were philosophers, politicians, poets,<br />
influential citizens and ordinary people, and subjects of their conversations were the most various: about gods and people, intellect and<br />
foolishness, knowledge and ignorance, vice and virtue, benefit and justice, freedom and duty, wealth and poverty, friendship and mutual<br />
assistance, self-knowledge and education. Subjects changed, but not the essence: Socrates sharpened his art in philosophical dispute defending<br />
truth and approving moral. One of the features of Socrates’s conversations is who did he talk with. Conversations with friends and close pupils<br />
had instructions and edifications as he paid specific attention not to ironical exposure of false representations of the interlocutor but to an<br />
expression and reasoning of positive aspects of his standpoint; his advice was combined with criticism, serious issue with a joke, and his rich<br />
polemic notes acquired special sounding. An example for that can be “Conversation with Lamprokles about appreciation to parents”. Having<br />
noticed that his son treats his mother disrespectfully, Socrates invites him to talk, focusing attention that negligence to parents can complicate<br />
a person’s life, he can get deprived of friends, and «nobody will expect gratitude from you for the good» [5, с. 46]. It is an explicitly visible<br />
distance between who the person is and who he must become, which, of course, must establish an aspiration to transfer from an old status into<br />
absolutely new, and in this case educational impacts acquire especially internal value and concentrate inside the individual. Readiness for a<br />
dialogue, and readiness for understanding and accepting what the thought bears through centuries, directs a person to open something new and<br />
unknown, convinces him that when following to wise advice there is no limit to enhancement of moral qualities, especially if the person thinks<br />
and reflects, looks for responses to questions, reveals himself in the course of obtaining experience.<br />
Pedagogical anthropology examines a transfer of experience from generation to generation based on division of real and ideal<br />
understanding, after all the principal conditions of education are not in reality, but in ideal and hidden opportunities, that is in an inner world<br />
of a developing person. The works of philosophers – dialogists attempt to direct the dialogue towards the internal world of the subject as to<br />
reveal him is possible only as a result of a dialogue.<br />
Dialogue has no limits, it is borderless, it reveals creative activity of an individual, it is borderless as an opportunity to think and live. This<br />
opportunity means that first of all a person is ready to perceive another person in a constructive dialogue, in an exchange of ideas, values,<br />
experience and knowledge. It is an effect of the factor perceiving the other.<br />
As a proof we can give Ortega-y-Gasset’s position: “When we look at each other, two different worlds are reflected in pupils of our eyes»<br />
[2, p. 5]. Penetration and knowledge of an inner world of a pupil, a person who trusts your word and example is based on trust, and this trust<br />
facilitates to passing a joint way of moral discoveries only in the course of a dialogue, formation of own moral position. According to Socrates,<br />
during dialectic conversations a person recovers knowledge of the immortal soul he has got, in other words – revives spiritually. Therefore a<br />
role of the interlocutor, who is assisting to the revival of the knowledge and its reinforcement by means of dialectics, is similar to the craft of<br />
his mother - midwife called "maieutics", i.e. midwifery.<br />
A person, talking to Socrates, acquired knowledge, but Socrates didn't put credit for it, considering that the acquired was the fruits of the<br />
interlocutor’s achievements, and not the result of his wisdom. He assumed that his listeners could not learn from him as it usually means in the<br />
relationship “teacher – learner” but with his help they could reveal something majestic they had already been gifted by the nature.<br />
Well-known Socratic phrase «I know that I know nothing» illustrates Socrates's skeptical and ironic attitude to human<br />
wisdom. He believed that human wisdom was a relative concept and revealing another person's ignorance, he did it very<br />
tactfully, first of all, on his own example, on his own ignorance, and thereby convincing interlocutors that they were equal (it<br />
is visibly presented at one of the stages of his dialogue). What promoted emergence of a dialogue? Conversations often arose<br />
spontaneously, on a course of joint reading different works, discussions of the read, and very important role was played here<br />
by Socrates’s encouragement of inquisitiveness and keenness of his listeners. When he himself could not find the response, he<br />
recommended to apply to knowledgeable people and at the same time continued reminding that “knowing –all” must be<br />
confronted by the development of something essential and useful in a practical sense. Those who were ready to listen to<br />
Socrates understood that he helped them to understand themselves, to understand their difficult inner self, which finally<br />
affected understanding of "another person" as well as themselves. The Socratic philosophical dialogue consisted of several dialectically<br />
interdependent stages which assumed the solution of the set problems at the level actual for the interlocutor. This<br />
model is the bright evidence of the fact that Socrates managed very quickly and, at first sight, by simplest methods to create<br />
an active cognitive vector in the “teacher – learner” system. Socrates’s ideas, signs of good skills is a fast assimilation<br />
of a subject by the person, memorizing the learned and interest to all knowledge which help to be in charge of housekeeping,<br />
run the state and generally to be able to use people and actions of people. That is why Socrates is believed to be a founder of<br />
true Greek philosophy and a new method of philosophical thinking. Recognizing that philosophical thinking has different<br />
forms of expression, dialogue in a bosom of philosophy is made within one sense, but at level of different speculations. In our<br />
opinion, these levels can be called as the fund of human experience from which approaches to influence a personality<br />
formation are scooped, and a man is flexible, he is a subject to educational influence, and this influence can help to reveal<br />
inclinations given by the nature. If philosophy examines education from the human entity standpoint, pedagogics should be<br />
philosophical, and philosophy - pedagogically effective. Undoubtedly philosophy provides the basis of understanding the<br />
educational process in unity with activities which reform human identity. Pedagogical anthropology claims to create an<br />
integral, all-round view on education, and at the same time there is a connection of instructions and principles of various<br />
philosophical views. Such measurement how to educate and be educated implies mandatory appeal to the phenomenon of<br />
dialogical communication in various situations and relations, and provides eligibility which, from the pedagogical anthropology<br />
standpoint, is an essential condition for saving the whole and modifying the particular. Its translational character enables to<br />
identify cultural and philosophical potential of the old and valuable orientation of the new judgment of the reality. A person<br />
receives the public status only in the course of mastering a group experience, the experience of the society he belongs to, and<br />
forms of mastering this experience can be various. Each of these forms fixes and expresses different sides of the "people –<br />
society" relationship. Various aspects of their interaction allow to trace the process of historical formation of a human<br />
personality entity and union of a certain individual to this entity by means of knowledge and education, therefore dialogue is<br />
a peculiar step on the way of a person’s formation as a social and cultural object, on the way of his development as an<br />
individual.<br />
References:<br />
1. Kulikov V.B. Pedagogical anthropology: origins, directions, issues. – Sverdlovsk: publishing house Ural university, 1988. – page192.<br />
2. Ortega-y-Gasset. Х. What is philosophy? // АS USSR Institute of philosophy. – М: Nauka, 1991.<br />
3. Ushinsky K.D. Pedagogical works: in 6 volumes, V.5 // compiled by S.F.Yegorov. – М.: Pedagogika.<br />
4. Fomina M.N. Philosophical culture: ontological dialogism. // monography. – Chita, 1999.<br />
5. Anthology of pedagogics history: in 3 volumes, V.1. Antiquity. Middle Ages // editor-in-chief A.I. Piskunov. – М.: Publishing Centre<br />
«Sfera», 2006. – page 512<br />
20
CITATION INDEX AND IMPACT-FACTOR – CRUCIAL ATTRIBUTES OF SCIENTIFIC JOURNALS<br />
AND SCIENTIST RATING<br />
Praliyev S.ZH., Dr. of pedagogical sciences, academician, Rector<br />
Kazakh National Pedagogical University named after Abay, Kazakhstan<br />
«The country where science and innovations are on the second place<br />
will not achieve the first place in any sphere…»<br />
Nazarbayev N.A.<br />
The given article examines citation indexing as bibliographic data base and major instruments to identify bibliometric index and to<br />
evaluate scientific knowledge. The paper provides review of the foreign experience in the given sphere.<br />
Keywords: impact-factor, citation index, cited and citers, Thomson Scientific, JCR, SCI, ISI.<br />
В статье рассматривается индексы цитирования как библиографические базы данных и основные инструменты для<br />
определения библиометрических показателей и оценки научного знания. Представлен обзор зарубежного опыта в этой сфере.<br />
Ключевые слова: импакт-фактор, индекс цитирования, цитируемые и цитирующие, Thomson Scientific, JCR, SCI, ISI.<br />
Successful realization of the major strategic objective to enter the group of fifty the most competitive countries in the world set by the<br />
Head of the state before the economy and industry of our country, is mainly defined by the presence of highly-qualified specialists whose<br />
competence meets the highest international requirements. In this regard a crucial issue of creating an effective system of training scientific and<br />
scientific-pedagogical staff of a new formation arises; the staff that are able to solve effectively tasks of any professional level in all spheres of<br />
production and scientific activity. It is quite obvious that level of the higher and postgraduate professional education system at universities in<br />
many respects is defined by the level of scientific research works carried out at these establishments. It is no accident that in recent years<br />
higher education in our country has had tendencies which make scientific achievements of higher educational institutions one of the crucial<br />
indexes of their work. Publishing results of scientific research works and achievements in leading world issues with a high citation index is<br />
one of the target objectives of Development Strategy 2011 -2012 of the Kazakh national pedagogical university named after Abay.<br />
Major idea of the Strategy is to achieve specific results from the entrance into the world scientific and educational space. Citation index is<br />
one of the key indexes widely applied all over the world for evaluation of the works of researchers and scientific teams. Scientists’ attention to<br />
the research of scientific citing is explained by the fact that it is an efficient approach to study communication in professional community,<br />
disciplinary structure of the science, mechanisms of a birth of a new knowledge. Citing provides a researcher with not exhaustive but objective<br />
indexes. The process of scientific communication is most visibly presented in journal publications. Periodicals are known for their efficiency<br />
in reflection of new scientific tendencies. Scientific journals are the major communication channel between scientists. Besides its informational<br />
function of notifying the scientific community on results of the carried surveys, a journal article fixes intellectual rights of scientists and<br />
reflects (by citing) his links with the works of predecessors. Therefore researchers aim to place their printed works in such scientific journals,<br />
the weight or informative value of which guarantee that wide scientific audience will get acquainted with his materials. Structure of citations<br />
and bibliometric indexes identification are based on so-called “quotation” data bases on periodicals which gather not only bibliographic data<br />
on journal publications (author, title, journal, year, volume, issue, pages) but the list of the cited literature as well. It enables to find publications<br />
cited in a certain article and publications citing this article.<br />
Thus, a user can conduct an effective search for all bibliography on the issue of his interest. At the same time a special "superstructure"<br />
over such database, aggregating data on the whole journals, gives experts an access to bibliometric indexes of periodicals. In Western<br />
countries the most popular citation data bases are presented by a line of products of the company Thomson Scientific (former Institute for<br />
Scientific Information, ISI) – Science Citation Index, Social Sciences Citation Index and Arts & Humanities Citation Index. Aggregated<br />
journal bibliometrics is represented in a special product of Journal Citation Reports (JCR). SCI (or its Internet-version Web of Sciences –<br />
WOS) contains bibliographic descriptions of all articles from the processed research journals and reflects mainly publications on fundamental<br />
aspects of the science in leading international and national journals. JCR - citation index of journals identifies informational value of research<br />
journals. At present many have recognized that impact-factor of a journal is one of the official criteria which enable to compare the level of<br />
research works in close spheres of knowledge. Experts take into account a competitor’s publications in journals covered by JCR when<br />
providing with grants and promoting for scientific awards (including the Nobel Prize). According to the definition given by specialists who<br />
prepare Journal Citation Reports (JCR), impact-factor (IF) of a certain journal is a fraction, the denominator of which is equal to the number<br />
of articles which have been published in the given journal during the given period (usually it is two years), and the numerator which is the<br />
number of references (made during the same period in various sources) on the above-mentioned articles.<br />
As a rule, JCR publishers refer IF values calculated this way on the basis of the data for a certain period to the year directly following this<br />
period. For example, if has been calculated by the 2009-2010 period data, JCR will refer to it as the IF of 2011.<br />
The impact-factor value range is enormous, let us examine some examples. For example, maximum value of the impact-factor in 1996<br />
made 58.286 (journal “Clinical Research”), and an authoritative journal “Nature” had 27.074 whereas the impact-factor value of the most ISI<br />
processed journals for this year did not exceed 0.7, and minimum value of this parameter was equal to 0.001. Average value of an impactfactor<br />
presented in JCR journals in 1996 (their number = 4623) made 1,288. As for 119 Russian journals included in the number of 4623, the<br />
average value is 0.268 at dispersion from 2.862 to 0.009.<br />
It means we can state that average value of the impact-factor for Russian journals is almost 5 times lower than the corresponding value<br />
for the whole list of JCR journals. Using impact-factor as criterion for evaluating the journal is based on the assumption that the journal<br />
publishing a substantial number of articles which are cited much by other researchers deserves a special attention.<br />
Thus, it means that the higher the value of the impact-factor, the higher the scientific value and authority of the journal. Impact-factor of a<br />
journal depends on the research area, type of a journal, development rate of the given knowledge sphere, and issues it is devoted to. There are<br />
two standard approaches to evaluate the level of researchers. The first is a citation index, and the second – an impact-factor.<br />
Citation index demonstrates how many times articles of the given author were cited in the works of other authors. As a rule, a researcher<br />
has a high citation index if his or her works were published in the journals with high impact-factor. There has been interest to evaluation of<br />
publications’ citation rate for about 80 years already. The first attempt to compare research periodicals by this feature were taken in the late 20s<br />
of the last century (Gross P.L.K., Gross E.M.).<br />
Later, and thanks to efforts of Estelle Brodman, who was studying journals on physiology, these techniques were improved (Brodman E.,<br />
1944). For many years Eugene Garfield has been an inspirer and organizer of development of this idea. Eugene Garfield is Doctor of<br />
Philosophy and founder of the present «Thomson Scientific» – part of «Thomson» corporation – leading world provider of information for<br />
professionals (www.thomson.com).<br />
Eugene Garfield wrote about citation index first in the journal «Science» in 1995.<br />
21<br />
Pedagogical sciences<br />
Actual problems of modern pedagogics
Pedagogical sciences<br />
Actual problems of modern pedagogics<br />
This project of a researcher and publisher with the degree of Bachelor in chemistry and Master in library sciences developed into the<br />
“Science Citation Index” (SCI) published first in 1963. The index of 1965 contained data on 3.3 million references in 196 000 publications on<br />
all exact, humanitarian and applied sciences and in 60 000 patent descriptions of the USA. SCI contains the list of all works which have been<br />
mentioned in any publication of the current year, and consists of two parts published as separate volumes – “Literature Citation Index” and<br />
“Citation Index”. Since 1975 the organization established by Eugene Garfield has been publishing annual “Journal Citation Reports” (JCR)<br />
providing with the data on more than 7.5 thousand scientific-technical journals of more than 3.3 thousand publishers from about 60 countries.<br />
In the early 60s, Eugene Garfield and his colleagues developed a method of calculating an impact-factor so that to select journals for SCI.<br />
Need in it arose because using the number of articles or their citation frequency as criteria led to the exception of small or specialized journals.<br />
Of course, impact-factor is an important feature of research journals. It is calculated annually by the Institute of Science Information (ISI). Impact-factor<br />
of a journal is equal to the relation of references during a certain period (normally 3 years) on articles in the given journal to the<br />
number of articles published in it. Scientific funds apply the citation index of the project supervisor and impact-factor of journals where his<br />
works have been published as the major criteria when providing grants on research projects. Absolute number of citations of a certain edition<br />
cannot be considered objective enough for assessing the quality of publications. For instance, “The Journal of Biological Chemistry” is one of<br />
the most cited editions in the whole history of science, and it is one of the biggest. Among the large number of articles published in similar<br />
journals (several thousand a year), there can be more or less high-quality articles, and more or less interesting ones. Therefore, despite the<br />
frequent citation of all publications in total, the number of references to a certain article can be not much compared to some small, especially<br />
review, journals.<br />
«A classical impact-factor, that is how it is understood by default, V. Pislyakov writes, is in strict determination «synchronous two-year<br />
impact-factor excluding the current year».<br />
It is calculated by the Institute for Scientific Information® – ISI and annually published in the JCR database. SCI appear more often (at<br />
least not in scientometrics circles) when comparing levels of journals. This index enables to evaluate how many times for a certain period “an<br />
average article” of a certain journal has been cited. Classical impact-factor is defined as the correlation between the number of references per<br />
year to the articles of a journal, published during two previous years, and the number of these articles. Due to a wide coverage of periodicals<br />
and informational feature, impact-factor has won world recognition, fell out of purely theoretical interest and began to be used widely in<br />
publishing and scientific circles as an approach to assess scientific journals and activity of certain scientists.<br />
Analysis of citation enables to reveal significant results and evaluate productivity of the research work. This method is applied in<br />
scientometrics. Since 1993 International Society for Scientometrics and Infometrics – ISSI has been contributing to the development of this<br />
discipline. Probably, many scientists (and not only of our higher educational institution) have asked a question: «What, exactly, impact-factor<br />
should be considered high enough?». In this regard we would like to remind here that the world system of assessment of the rating of scientists<br />
and scientific journals on the basis of citation index and impact-factor was created and developed in practice by the Institute of Scientific<br />
Information, ISI, The Thomson Corporation, USA about 44 years ago. Impact-factor (IF) is calculated as the correlation of the number of<br />
citations made in a certain year in journals included in the ISI database on the articles published in the given journal during two preceding<br />
years and the number of articles published in the given journal during this period.<br />
Impact-factor characterizing an international rating of a scientific journal, is annually calculated for all international authoritative<br />
journals registered in the ISI database. ISI can provide any scientist who has published at least one article in the journal of this<br />
institute database with the information on citation index, the number of articles, and their citation frequency in other international<br />
editions. Every scientist dreams of publishing his research article in such journals as “Nature” which have the highest impact-factor<br />
in the world (more than 30) as there is a belief in the scientific world that publication in the journal “Nature is almost equivalent to<br />
receiving the Nobel Prize. However, publication even in journals with IF in the range from 3.0 to 7.0 is quite a challenge as despite<br />
the significant research result presented in the article corresponding to the world standards, editorial boards of such journals are<br />
reluctant to accept articles from researchers who do not have high citation index and have not published at least ten articles in<br />
international journals with relatively low or average impact-factor. At the same time we need to state here that IF does not always<br />
provide objective reflection of the journal rating and scientific level of the articles published in it. Actually, majority of “classical”<br />
scientific Russian journals published since the Soviet times (publishing house “Nauka”) with Russian and English editions have an<br />
impact-factor of about 0.2 -1.3. However, any expert, comparing articles with close IF values published in Russian and foreign<br />
editions, will inevitably come to a conclusion that scientific level of publication in Russian journals of the publishing house “Nauka”<br />
is higher than in journals of foreign editions with similar impact-factor. Therefore we can say that for us, scientists from the CIS -<br />
region, an impact-factor over 0,2 (i.e. a nonzero impact-factor) can be considered as quite high and corresponding to an international<br />
level as publication in an edition even with lower IF value is anyway taken into account when calculating a scientist’s or university’s<br />
rating. Certainly, a publication in journals with high impact-factor of 3.0 and over is quite a complex challenge, and every time<br />
requirements to the level of the presented articles is increasing and their reviewing is becoming more rigid. It should be noted here<br />
that for the last years there have been distinct tendencies when practically all journals, even with quite small impact-factor (about 1.0)<br />
are increasing their requirements to the level of publications. Many editorials of such journals in particular require providing photos<br />
or even video materials which will not be published but can be used as additional evidence of reliability of the experimental data<br />
received by the author. In this regard at the initial stage some scientists can publish their works in Russian journals which have<br />
Russian and English versions so that to ensure reliable and rapid growth of their rating and citation index. As we have mentioned<br />
earlier such journals can have average and even low impact-factor but by their level surpass considerably similar journals with close<br />
IF value. Publications in Russian journals are quite well cited and promote increase of the rating of authors. Having several of these<br />
articles you can hope that in the future editorials of higher impact-factor journals will be willing to accept your articles as well. And<br />
in the nearest future you will be able to publish tens of articles in “big journals” with an impact-factor of over 3, and from there it is<br />
not too far from the “greatest” journal “Nature”…<br />
References:<br />
1. Garfield E., Sher I. H. New Factors in the Evaluation of Scientific Literature Through Citation Indexing//American Documentation. –<br />
1963. – vol. 14, No. 3. – р. 195-201.<br />
2. Roth D. L. The emergence of competitors to the «Science Citation Index» and the «Web of Science» // Current Science. – 2005. – vol.<br />
89, No. 9 – 10. – р. 1531-1536.<br />
3. List of leading cited research journals and publications issued by Russian Federation to publish results of dissertatitions for a<br />
competition for scientific degree of Doctor of Science (2001-2005) – Moscow, 2005. vak.ed.gov.ru.<br />
4. Report on scientific – research work (intermediate) on «Developing a system of statistical analysis of the Russian science based on the<br />
Russian citation index data». – Moscow, 2005. elibrary.ru.<br />
5. Van Leeuwen e. a. Language biases in the coverage of the «Science Citation Index» and its consequences for international comparisons<br />
of national research performance // Scientometrics. –2001. – vol. 51, No. 1. – P. 335-346.<br />
22
Pedagogical sciences<br />
6. Pislyakov V.V. Why do we need to create national index of citation? – Moscow, 2005.<br />
7. Petrova S.V. Russian journals in Internet: a step from paper to online is Report at VI international conference «Science online:<br />
electronic informational resources for science and education». 2005. elibrary.ru.<br />
8. Jin B., Wang B. Chinese Science Citation Database: Its construction and application // Scientometrics. – 1999. – Vol.<br />
45, Iss. 2. – р. 325-332.<br />
9. Wu Y. e. a. China Scientific and Technical Papers and Citations (CSTPC): History, impact and outlook. // Scientometrics.<br />
– 2004. – Vol. 60, Iss. 3. – р. 385-397.<br />
10. Data by prof. L. M. Liang, forwarded by Eugene Garfield: listserv.utkedu.<br />
11. Jin B. e. a. Development of the «Chinese Scientometric Indicators» (CSI) // Scientometrics. – 2002. – Vol. 54, Iss. l. – р. 145-154.<br />
12. Xin-Ning S., Xin-Ming H., Xin-Ning H. Developing the Chinese Social Science Citation Index. // Online Information Review. –<br />
2001. – Vol. 25, No. 6. – р. 365-369.<br />
13. Chen K. H. The construction of the Taiwan Humanities Citation Index // Online Information Review. – 2004. – Vol.<br />
28, No. 6. – р. 410-419.<br />
14. Negishi M., Sun Y., Shigi K. Citation database for Japanese Papers: A new bibliometric tool for Japanese academic society //<br />
Scientometrics. – 2004. – Vol. 60, Iss. 3. – р. 333-351.<br />
15. Praliev S.Zh. Impact-factor is an important feature of research journals. // Materials of the international scientific-practical conference<br />
in Czech Republic (Prague) «Effective tools of contemporary sciences», 27.04.-05.05.2012 year – Vol. 2, p. 13-17.<br />
THE THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF COMMUNICATIVE TASK DESIGN FOR INFANT<br />
AND INTERMEDIATE COURSES<br />
I.Е. Rgizbaeva, PhD philology, assoc. prof.<br />
Almaty Humanitarian-Technical University, Kazakhstan<br />
Conference participant,<br />
National championship in scientific analytics,<br />
Open European and Asian research analytics championship<br />
“Just love your audience;<br />
the most important thing is<br />
not what you tell them<br />
but how you do it.”<br />
1. The purpose of the report is to show the reader how I teach, what I teach and why. All these questions are very<br />
important and problematic ones for me. From the very beginning of my teaching activity I came to the conclusion that it is<br />
necessary to find something new in the process of teaching, to find fresh approaches in methodology of teaching the children.<br />
Looking through various resources, listening to colleagues, visiting workshops of American and Kazakhstani teachers, I<br />
realized that only teaching of communication gives the learners the real ability to speak and to know a foreign language<br />
properly. To speak means to know. Together with the other methods, communicative approach is the most productive and<br />
useful in reaching this goal. Alongside the practical aspects of the subject, I try to deal with theoretical issues such as the<br />
theory of methods and techniques of different methods. Of course, I’m very far from finding the “right method” for teaching.<br />
I’m sure it’s impossible to find such one. I think that every teacher uses a combination of various techniques and devices<br />
while working with the learners, so do I. The main goal for me is to teach the learners to listen, to speak, to read, and to write.<br />
The most important ability or skill is to speak a foreign language. There is a great amount of modern methods. They are: Audio-lingual<br />
Method, Silent way, Suggestopedia, Community Language learning, Total physical response, Communicative<br />
approach. All of them have some specific aspects. I do not intend to describe all of them, but they all have one common<br />
feature. The main goal is to teach communication. While teaching communication, I use various techniques: grammar and<br />
language games, role plays, question and answer work, chair work, dialogue memorization, pair and group work, questionnaires,<br />
puzzles, problem-solving, jigsaw tasks, discussion, brainstorming, word-clustering, gallery-work, etc. Now it’s relevant to<br />
notice that I have a lack in choosing good authentic materials for teaching. There is a problem: What texts or other materials<br />
can be called authentic ones? Authentic materials are oral or written texts that occur naturally in the target language (English,<br />
for us) environment and which have not been created or edited for language learners. Where can we find examples of such<br />
materials? – TV, radio, video news, sport, advertising, entertainment shows, newspaper articles, editorials, letters to the<br />
editor, interviews, maps, brochures, documents, food recipes, menus, labels, etc. In language teaching, non-authentic texts<br />
can give a false impression of common usage of words or phrases, even structures. So, I can make a survey, such as:<br />
• authentic materials provide more variety and spontaneity;<br />
• a.m. present different vocabulary and structures;<br />
• a.m. can give a truer perception of common usage<br />
• a.m. can be used to focus on all the skills: reading, writing, speaking, listening, grammar, conversation.<br />
Summarizing all these I may say that all this theory helps me to understand how to teach, what to teach. I see that there is<br />
a close link between theory and practice. Theory should be derived from practice. Such orientation allows theory to be<br />
integrated with practice.<br />
2. In this chapter, I’d like to give a brief analysis of my teaching activity. From the first years of my teaching activity, I<br />
noticed my great wish to work with children in primary school. I realized that I can teach children of this age more<br />
successfully than the others. First, the children of 4-7 years are lively, active, and interested during the whole process of the<br />
lesson. Second, children are eager to take part in all that is taking place around them. All my lessons I begin with something<br />
unusual. It may be a toy, a puppet or a song. Every lesson I start and finish with a kind smile, I use everyday phrases,<br />
greetings, rhymes, action-songs, etc. My children and I prepare a gallery work, pictures which help the kids imagine various<br />
things while speaking English. A year ago, I got acquainted with the teaching programme, “Step by Step”. According to it,<br />
children are involved into the activity which is a combination of the learning of English and making of different types of<br />
23<br />
Actual problems of modern pedagogics
Pedagogical sciences<br />
Actual problems of modern pedagogics<br />
activity such as singing, dancing, drawing, taking care of animals and plants, etc. I know that language is an interactive<br />
process, children learn language and play, dance, sing at the same moment while developing vocabulary and structures. My<br />
children and I like to play at “Toy Shop,” “The Zoo,” “Sorry, I’m late,” “Tomorrow on Sunday,” etc. Here we drill different<br />
structures and patterns. My American colleagues from Peace Corps gave me good cassettes of American action songs and<br />
games. All of my children prepare a set of lexical cards for various topics: “Food,” “My Pets,” “My Family,” etc. All these<br />
help us to prepare frameworks according to every theme. All my children enjoy games and stories. I prepared a “language<br />
story” about a hungry caterpillar. Children are interested in investigating nature, animals, insects, plants. I painted a<br />
caterpillar, a butterfly, a little egg, a cake, ice-cream cone, a sausage, cheese, watermelon, etc. And presented all these<br />
pictures to the kids. I drilled and practiced all the words, then the structures and at the end of the whole story about the life of<br />
the insect. From lesson to lesson the children could perform the whole story and act it. The parents and the teachers prepared<br />
costumes for the play. We composed a turn and sand the caterpillar chant.<br />
This story contains the days of the week, numbers (1-5) and the vocabulary for the topic, “Food.” It was a review lesson<br />
where the children acted and sang songs. At the end of the story, the caterpillar emerged as a colorful butterfly. The kids and<br />
their teacher painted beautiful butterflies, it was a nice gallery work. Next lesson we played an alphabet bingo using<br />
vocabulary from the story. It was the cycle of the lessons where I fulfilled some educational and teaching goals, such as: to<br />
practice new vocabulary, patterns, structures, to develop the kid’s love of nature, to take care of small animals, to distinguish<br />
what is good or bad.<br />
All my children like English customs and traditions. Everybody knows that through knowledge of customs the teacher<br />
develops deep interest of the learners to the studying of a foreign language. My junior students enjoy such holidays as<br />
Halloween, Thanksgiving Day, and Christmas. This year I worked out and prepared a lesson-dramatization dedicated to<br />
Christmas. The children played the roles of Santa Claus, his helpers – reindeer and the other animals from the zoo. It was a<br />
review lesson about English traditions and grammar structures (Past. Ind.)<br />
Every teacher knows the English proverb, “A good beginning makes a good ending.” Usually I pay a lot of attention to<br />
the warm up activity. This type of work involves the learners into the process of the lesson easily and quickly. Some of the<br />
activities are short and could be used as a quick warm up – others may take longer. My students and I enjoy different warm<br />
up activities. Among them are: home circle, names crossword, blackboard bingo, brainstorm round the word, controversial<br />
sentences, correcting mistakes, jumbled sentences, likes and dislikes, martian, etc. All of these activities can be used as a<br />
practice of grammar, lexics. As for vocabulary review in the primary courses, there is a very easy game, “Name Circle.” The<br />
students sit in a circle. The first student introduces him/herself. The second student introduces himself, but also the first<br />
student, and so on around the circle. The last student will have to remember all of the information about everybody in the<br />
group. This warm up activity is suitable at the beginning of the year or if a newcomer appears in the class. The next warm up<br />
is called “Controversial Statements.” This type of activity is for the advanced level of students. I make up cards with<br />
controversial sentences or proverbs. Each student agrees or disagrees with this or that idea. Then I find out what the majority<br />
opinion on each is, by vote. Here are some examples of such statements:<br />
1. Beauty is only a matter a taste.<br />
2. Riches are for spending.<br />
3. Punishment never does any good.<br />
4. It is necessary to study foreign languages<br />
5. People work better if they are paid more<br />
These activities are used for developing mental and speaking abilities. Pupils are taught to argue about this or that<br />
problem. Such work or correcting mistakes encourage monitoring by students of their own mistakes. The next activity deals<br />
with forming grammatical sentences, it is called “Jumbled Sentences”. I write a sentence in a jumbled order and the students<br />
have to write them in the right order.<br />
My students enjoy playing, “Martian.” He/She pretends that he does not know what food, cars, planes, music are. The<br />
children should try to help the Martian understand what each object or idea is. The Martian asks a question: What is a car?<br />
The pupil answers: People travel in cars, etc. All children of junior grades enjoy drawing and making various things. I use all<br />
these abilities of the children. I’m sure of the fact that whatever the activity, getting the students to “bring, cut, draw, paste,<br />
make, put up, and clean up” doubles the learning opportunity of them. While practicing the topic, “food” and the simple<br />
present tense each student of 3-4 grades brought to the lesson a sheet of ads from a shop. Then practice: “How much do apples<br />
cost in “Arai”? Each student makes a shopping list based on his needs, so they find where the best place is for them to shop<br />
for this or that.<br />
The next grammar activity with pictures is the following: Each student brought a picture or a photo with his favourite<br />
dish. They exchange the pictures and discuss what each student likes best. Then the students give the recipe for his or her dish<br />
using such skeleton: “You need the following ingredients…”, “First you…”, “Then you…”, “Finally you…”, “now your dish<br />
is ready.” Usually I like to use group work and the students enjoy working in groups and then teaming up and discussing<br />
something or do some work together. During my lessons, they argue about different problems. Eg group n 1 hates holidays,<br />
rest, etc. I divide the class into groups of four or five. Then I designate one person in the group as a group artist. Then I give<br />
a picture to the group of the students. They describe to the artist what is in the picture so that he or she can make a copy. After<br />
20 minutes or so, each group shows the original and the copy of the artist, they compare the pictures and discuss them. The<br />
next work is the following. I divide the group into pairs and give them a postcard with a landscape. One student has to write<br />
a letter to his/.her parents about his holidays in the camp. The other student has to guess where the writer has spent his<br />
holidays, with whom did he do it and how. So, he has to give a detailed description of his opponent’s rest, his mood and<br />
feelings, etc.<br />
3. Of course, I can continue the list of various activities for developing communication skills and habits, because I pay<br />
particular attention to this aspect of the teaching. While teaching primary students I came to the conclusion that communication<br />
is a complex skill requiring the simultaneous use of different abilities which often are generally recognized in analysis of the<br />
speech process. They are: a. pronunciation, b. grammar, c. vocabulary, d. fluency, e. comprehension. Everybody knows that<br />
the teacher is a key-figure in the teaching process. I realize the great role of mine in it. It is a disputable question: “What is<br />
the best age for teaching a foreign language?” I can answer the question easily: as early as possible. It depends upon the<br />
psychological and mental abilities of the child. The infant age is the best period for beginning of the process. Before I finish,<br />
I’d like to add that learners who are loved are most likely to learn. So, I’d like to come back to the words at the beginning of<br />
my report. I’m sure that the real teacher has to love his students first of all. As for me, I know that luckily teachers don’t have<br />
to have all the answers, they don’t even have to have most of the answers. So, do I. But, I shall try to find them.<br />
24
МЕТОД НАСЛАИВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ КАК СПОСОБ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ЗАПОМИНАНИЯ<br />
ТЕОРЕТИЧЕСКОГО УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА<br />
Семенова Л.А., канд. пед. наук, ст. преподаватель<br />
Инновационный Евразийский Университет, Казахстан<br />
Участник конференции<br />
В данной статье рассматриваются проблемы усвоения учащимися средних общеобразовательных школ учебного материала.<br />
Предложен метод подачи теоретических основ предметных знаний, позволяющий решить проблему их запоминания.<br />
Ключевые слова: математика, метод, запоминание, наслаивание информации<br />
In article problems of mastering are considered by pupils of average comprehensive schools of a teaching material. The method of giving<br />
of theoretical bases of the subject knowledge, allowing to solve a problem of their storing is offered.<br />
Keywords: mathematics, a method, storing, an information lamination<br />
Современный этап развития математики как учебного предмета характеризуется: жёстким отбором основ содержания; чётким<br />
определением конкретных целей обучения, межпредметных связей, требованиями к математической подготовке учащихся на<br />
каждом этапе обучения; усилением воспитывающей и развивающей роли математики, её связи с жизнью; систематическим<br />
формированием интереса учащихся к предмету и его приложениям. [1]<br />
Прочное усвоение знаний является главной задачей процесса обучения. В него входят восприятие учебного материала, его<br />
запоминание и осмысливание, а также возможность использования этих знаний в различных условиях. Знания учащихся по<br />
математике не будут достаточно полными и прочными, если в работе учителя отсутствует система накопления математических<br />
знаний учениками в процессе обучения, включая постоянное воспроизведение полученного материала [2]. Это объясняется психологическими<br />
особенностями процесса познания и свойств памяти. Только постоянное в определенной системе осуществляемое<br />
включение новых знаний в систему прежних знаний может обеспечить достаточно высокое качество усвоения предмета.<br />
Одной из целей математического образования является:<br />
• овладение учащимися конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в практической деятельности,<br />
для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования.<br />
Исследуя проблемы усвоения математических знаний учащимися средней общеобразовательной школы, мы выяснили, что их<br />
можно условно разделить на следующие:<br />
- проблема запоминания теоретического материала;<br />
- проблема применения теоретического материала на практике.<br />
Сразу отметим, что мы не берем во внимание познавательный интерес учащихся к предмету, считая, что у обучаемых есть<br />
стремление и желание освоить данный предмет на достаточно высоком уровне.<br />
Остановимся на первой проблеме. Какова же истинная причина неэффективного, плохого запоминания учебной информации?<br />
Как запомнить большой объем информации прочно, надолго и при необходимости быстро вспомнить и применить?<br />
Память лежит в основе способностей человека, является условием научения, приобретения знаний, формирования умений и<br />
навыков. Память можно определить как способность к получению, хранению и воспроизведению жизненного опыта. Задачи<br />
психологии и развитие кибернетики потребовали сегодня ввести такое понятие о памяти, как долговременная память, кратковременная<br />
память и память оперативная, или промежуточная. Мы не будем подробно останавливаться на сущности перечисленных видов<br />
памяти. О них достаточно подробно изложено в психологической литературе. Нас интересует ответ на вопрос – как преподнести<br />
материал ученику, чтобы полученные знания не только прочно запомнились, но и при необходимости быстро воспроизводились и<br />
применялись.<br />
Лучшим способом запоминания во все времена был способ повторения. Без повторения невозможно, раскрыть сущность вещей<br />
и явлений, их развитие. Большинство когнитивных психологов сходится во мнении, что повторение дает возможность:<br />
• Перевести информацию из персептивной в кратковременную память.<br />
• Понизить нагрузку на кратковременную память.<br />
• Перевести информацию в долговременную память.<br />
• Группировать материал для последующего воспроизведения.<br />
Лучше всего запоминается то, что составляет цель нашего действия. Большинство систематических знаний появляется в<br />
результате специальной деятельности, цель которой — запоминание и сохранение в памяти запомненного материала. Следует<br />
отметить, что осмысленное запоминание гораздо продуктивнее механического, требующего многих повторений и времени. Однако,<br />
на наш взгляд, для лучшего запоминания недостаточно только повторения, информация должна быть специальным образом<br />
сгруппирована, соотнесена, что послужит для закрепления связей. Н.Ф. Талызина подробно останавливается на поэтапном<br />
формировании понятий [3].<br />
Приняв во внимание вышесказанное, мы предлагаем особую методику подачи учебного материала, которую назвали «Метод<br />
наслаивания информации». Суть метода заключается в том, что материал подается порционно, при чем при подаче очередной<br />
порции изначально повторяется предыдущая. Применение компьютерного оборудования позволяет представить материал в виде<br />
последовательного наслоения из урока в урок блоков изучаемого материала. Что происходит при такой подаче материала? На<br />
каждом этапе освоения нового материала обязательно восстанавливается изученный материал. При чем, если это делается в виде<br />
схем, то временные затраты для повторения оказываются минимальными. Таким образом, срабатывает запись учебного материала<br />
в долговременный блок памяти (дети назвали это «записать на жесткий диск»!) Очевидно, что при использовании метода<br />
наслаивания информации срабатывают принципы эффективного запоминания материала. А именно:<br />
• Осмысление, т.к используются ключевые слова, схемы, рисунки и таблицы.<br />
• Первоначальное восприятие, т.к. материал дается порциями и с системе одновременно.<br />
• Повторение.<br />
Мы считаем, что использование метода наслаивания информации позволяет успешно решить выделенную проблему, а именно<br />
проблему запоминания теоретического учебного материала.<br />
На наш взгляд, такой метод подачи материала может быть использован не только на уроках математики, что делает его<br />
универсальным. Его применение в сочетании с применением ИТ позволяет решить проблему дозированного использования интерактивного<br />
оборудования в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, что немаловажно для сохранения здоровья детей в<br />
процессе обучения.<br />
25<br />
Pedagogical sciences<br />
Actual problems of modern pedagogics
Pedagogical sciences<br />
Литература:<br />
1. Епишева О.Б. Общая методика преподавания математики в средней школе / Тобольск, Изд-во ТГПИ им. Д.И.<br />
Менделеева, 1997<br />
2. Саранцев Г.И. Формирование математических понятий в средней школе. // Математика в школе. — №6, 1998.<br />
3. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология.: Учебное пособие для средних педагогических заведений. – М.: Академия, 2001.<br />
THE MORALITY OF PROVERBS<br />
Syzdykov K., Cand. of Pedagogy sciences,<br />
SDU, Kazakhstan<br />
Conference participant<br />
Бұл мақалада ағылшын-қазақ мақал-мәтелдері мән-мағынасы талданып, олардың жас жеткіншектерге беретін тәрбиенің<br />
сан алуан мәселелерін қозғайтын тәлімдік бағыттары қарастырылады.<br />
В этой статье автор пытается провести анализ значений пословиц и поговорок в английском и казахском языках, а также<br />
старается определить их роль в методике воспитания подрастающего поколения.<br />
Actual problems of modern pedagogics<br />
The main purpose of proverbs is to give people's assessment of the objective reality of phenomena as an expression of world. In proverbs<br />
and sayings express the peculiar store of [mindset] peoples’ intelligence, a way of judgment, view features, they reveal the ways of life and<br />
everyday life, the spirit and character, manners and customs, beliefs and superstitions.<br />
Proverbs and sayings illustrate lifestyle, and geography, and history, and traditions of a community united by a single culture most clearly.<br />
On this subject, written many scientific papers.<br />
National specific character of proverbs is most clearly revealed in the comparison of different languages. It is known that the Kazakh and<br />
British people who live in different social and natural conditions have a different history, religion, morals, principles, morality, psychology, etc.<br />
The topicality of our work is a comparative cultural analysis of Kazakh and English proverbs and sayings<br />
It has long been observed that the wisdom and spirit of the people manifested in his proverbs and knowledge of proverbs those people not<br />
only promotes better knowledge of the language, but also better understanding of the mindset and character of the people.<br />
A proverb is a short and precisely formulated result of long experience, the sum of past absorption.<br />
Proverbs accompany people from ancient times. These means of expression, as an exact rhyme, simple form, the brevity of proverbs have<br />
made resistant to remember and necessary in the speech. The publication of Russian proverbs and sayings, collected in the last century over<br />
the course of many decades by V. I. Dahl, the outstanding dialectician and writer.<br />
V. Dahl examines the proverb as a product of extremely popular medium of communication: "What kind of proverbs and sayings have to<br />
go to the people, this one will not be argued, in an educated and enlightened society, there is no proverb. Finished the proverbial high society<br />
does not accept, because it is alien to him a picture of everyday life, and not his tongue, but its not resign, [compose] perhaps out of politeness<br />
and propriety of the secular: the proverb splits the nail, and right in the eye"[1,10].<br />
Just about everyone has heard at least one proverb, and most people have heard more. Proverbs offer a concise record of folk wisdom and<br />
have appeared in oral tradition, literature, art, and popular culture for centuries. One of the most varied and fascinating types of folklore,<br />
proverbs are studied at all levels and are of interest to a wide range of audiences.<br />
The author gives here the suggestion that proverbs provide the core of education.<br />
Recently, a special interest in research in the field of folklore has appeared. The peculiarity (originality) of life, life, history and culture of<br />
the people are especially pronounced in proverbs. Knowledge of and active possession of folk wealth not only beautifies it, but also promotes<br />
a better understanding of the mentality of the people of the target language.<br />
The significance of this work lies in the fact that the problems of communication of cultures and people are intensively studied in relation<br />
to the increasing importance of knowledge of foreign languages.<br />
To study a foreign language’s proverbs not only enhances the effectiveness of learning vocabulary, but also helps enrich the language area<br />
expertise, reflecting the specific conditions of life.<br />
Proverbs enrich everyday language, making it more colorful and expressive. They can concentrate the meaning of several sentences and<br />
make it more capacious. Because proverb is usually a succinct statement that stands in place of a long explanation and expresses a truth about<br />
reality. Profound truths are talked about in daily words, which are simpler and the grounds of arguments are more persuasive. Also proverbs<br />
are definite expressions of the crystallized experience of many generations. They reflect the particular history, culture and life of the nation.<br />
Therefore, by studying proverbs and sayings in foreign languages we can better understand the native speakers’ language (note that most<br />
often they are not translated literally, but the same idea can be expressed using different words), I will give a few examples of English<br />
proverbs. At first, I give a proverb or a saying in Kazakh, then - in English, and in parentheses - its explanation.<br />
«Жеті өлшеп, бір кес»,<br />
«Look before you leap» (Avoid acting hastily, without considering the possible consequences)<br />
«Көрпеңе қарай көсіл»<br />
«Cut your _______ according to your cloth» (Live within your income; don't be too ambitious in your plans)<br />
«Жолдас қадірін жорықта білерсің, дос қадірін соғыста білерсің»<br />
«Prosperity makes friends, adversity tries them» (If you are rich and successful, you will attract many friends, but if you should suffer<br />
hardship or have misfortune ( adversity ), your friends will quickly depart)<br />
«Жоқ кездегі дос – дос, бар кездегі дос – бос»<br />
«A friend in need is a friend indeed» (A friend who helps when one is in trouble is a real friend)<br />
«Үмітсіз тек шайтан»<br />
«Hope for the best, expect the worst»<br />
(Never lose hope, but be prepared with an alternative if things do not go as planned)<br />
«Қолы қимылдағанның аузы қимылдар»<br />
«Business before pleasure»<br />
(It is better to finish your work before you have a good time)<br />
«Өз үйім, өлең төсегім»<br />
26
«East or West, home is best»<br />
(You feel safest, most comfortable and most at peace in your own home)<br />
«Аштықта талғам жоқ»<br />
«Hunger is the best spice»<br />
(When you are really hungry, everything tastes good, and you eat up everything placed in front of you)<br />
People - an instructor, people – a good educator. But nevertheless there is the necessity for further research on proverbs. Comparison of<br />
different nations proverbs reveal that how much these people have in common, and contributes to better understanding and rapprochement by<br />
turn. Proverbs reflect the rich historical experience of the people, ideas which related with work, lifestyle and culture of people. Using<br />
proverbs correct and appropriate makes speech unique originality and the expressiveness.<br />
In its basic form, the proverb is an ancient saying that takes wisdom and endows it with youthful vigor. The most concise, informative and<br />
perhaps, the most commonly used messages are proverbs. By their use, we make our communication bright and expressive.<br />
Proverbs of all nations have much in common, but along with this there are specific features that characterize the color of the original<br />
culture of a particular people, based on its long history.<br />
There is a deep wisdom in proverbs. Proverbs are slices of life that picture what life is usually like. Here we can see the culture, traditions,<br />
and history of the people and learn what is good and evil.<br />
Proverbs are a short genre of folk poetry: invested in short, rhythmic sayings that carry a generalized idea and/or conclusion. In proverbs<br />
there is not any futuristic opinion or suggestion about a case, but rather the summing up of cases: the final purified extract of many cases from<br />
various sides, rather than only one.<br />
Folklore - this is folk art, and nowadays it is very necessary and important to study folk psychology. Folklore includes works that convey<br />
the most important basic representation of the people on the main values of life: work, family, love, debt, home.<br />
By the composition of such works has been brought up our children. Cognition of folklore can give a person the knowledge of the any<br />
nation’s background, and eventually about himself.<br />
M.Zhumabayev the Kazakh famous poet and writer said: “It is not necessary to educate children the same as who educates them but they<br />
must be educated to the future requirements… Every tutors teaching methods are moral values of Kazakh nation” [2, 8]<br />
There are various sources about the history of proverbs. In order to become a proverb, a statement must be perceived and assimilated by<br />
ordinary people. The turning of a word phrase into a proverb becomes part of public consciousness, who invented the proverb does not matter.<br />
We can safely assume that any proverb was created by a certain person in certain circumstances, but for many old sayings, the source of their<br />
origin is completely lost. Consequently, giving opinion about the original proverbs that were created from the collective wisdom of the people<br />
is much more correct. In the set of propositions, summarizing the daily experience, the meaning of words, apparently, grew into the shape of<br />
proverbs gradually, without any explicit declaration.<br />
The phrase “Make hay while the sun shines”,-derived from the practice of fieldwork, it is an example of such proverbs. Any farmer feels<br />
the rightness of this idea, not necessarily expressed by these words. But after hundreds of people have expressed this idea in many different<br />
ways, after many trials and errors, this idea finally gained its memorable shape and began its life as a proverb.<br />
Similarly, the proverb “Don’t put all your eggs in one basket” was the result of much practical experience in trade relations.<br />
Folklore does not only provide a historical picture of the spiritual development of people. From the works of all genres, it appears multifaceted<br />
and at the same time expressed the solid and unique character of the entire Kazakh nation.<br />
Courageous, strong, harsh – in epics; sly, mocking, mischievous - in tales; wise, observant, witty - in proverbs and sayings - this is the<br />
Kazakh in all his/her grandeur, simplicity and beauty.<br />
Collecting proverbs began a long time ago, but manuscript collections have come to us only from the XVIIth century.<br />
Proverbs show the views and opinions of the people, their understanding of the phenomena of reality. The cognitive significance of<br />
proverbs is also in the fact that they are types of phenomena; they divide between them the most exemplary and noteworthy or essential<br />
features of them.<br />
Kazakh people should not lose his moral authority among the nations - the authority, dignity of the conquered kazakh art and literature.<br />
We must not forget our cultural past, our monuments, literature, language<br />
That is why the native culture, as a father and mother, must become an integral part of the soul of the child, the beginning of generating<br />
the individual.<br />
Now we are gradually returning to the national memory, and we have a fresh start to relate to the old holidays, traditions, folklore, crafts,<br />
arts and crafts in which the nation has left us the most precious of their cultural achievements, sifted through the sieve of the ages.<br />
This moral principle is reflected in proverbs: “As you sow, so you shall reap”, “No pains, no gains”, “No sweet without sweat”, “Love<br />
makes labour light” emphasize the importance of the work. People spiritually enriching due to the labor. Linking life with work, people see it<br />
as the basis of all wealth and happiness. So proverbs bless labor and condemn laziness. There is no respect to slacker. Here it is proved “Work<br />
hard and become a leader; be lazy and become a slave”<br />
In proverbs says that work strengthening the health, endorsed a joint work: “Many hands make light work”, “Many people sharing a job<br />
or tasks make easier work of it”, “Commit your work to the Lord, and your plans will be established”. The moral is that in all labor there is<br />
profit.<br />
Proverbs can also be used to simply make a conversation/discussion more lively. In many parts of the world, the use of proverbs is a mark<br />
of being a good orator<br />
Also, using proverbs well is a skill that is developed over years. Proverbs, because they are indirect, allow a speaker to disagree or give<br />
advice in a way that may be less offensive. Studying actual proverb use in conversation, however, is difficult since the researcher must wait for<br />
proverbs to happen [3].<br />
Proverbs were created by our nation, and they are priceless wealth of the kazakh language. To know them better develops thinking,<br />
memory, vocabulary, and instilling the love of the native language, enhance literary speech, enriches students folk wisdom, enriches our<br />
language, give it expressiveness, precision.<br />
They become good helpers in the study of new material while consolidating the lessons. Therefore, proverbs should be paid attention to<br />
any lessons and in extracurricular activities.<br />
Kazakh people have a rich spiritual heritage, rooted in ancient times, from the ancient Orkhon-Yenisei written monuments VI—VIII cc.<br />
up to these days. So, young people should learn from the wise man.<br />
There in folklore embodied psychology of the people, and folklore provides a wealth of material to draw conclusions on the lifestyle of<br />
the people and its customs, traditions and national character. Proverbs are the legacy of people which absorbed the wisdom, traditions,<br />
customs, moral standards and ideals.<br />
Proverbs make you think, and not only simply think but invite you consider the meaning of what was said, because each proverb except<br />
the direct meaning always exist a hidden or indirect meaning too. The use of proverbs in typical life makes our speech more brightly,<br />
imaginative, deeply. Occasionally some proverb replaces verbose explanation of the situations.<br />
27<br />
Pedagogical sciences<br />
Actual problems of modern pedagogics
Pedagogical sciences<br />
Working with proverbs have very beneficial effect on child development, including the development of speech. While memorizing a<br />
proverb we should explain to inquisitive youth, firstly the direct surface meaning, and then acquaint with a hidden or indirect meaning of<br />
proverbs - in an accessible form.<br />
Life is changed and there are being created new proverbs, forgotten the old proverbs, but accumulated with undeniably valuable proverbs<br />
for subsequent periods. For instance: “Егемен елдің еңсесі биік”. The meaning of this proverb is that “An independent country always<br />
keeps his head up high”. Nowadays our country is not under of any country, so Kazakh nation should understand and value the freedom<br />
Whatever is mentioned in proverbs - it is always a synthesis. They are spread widely from mouth to mouth. Proverbs are the result that people<br />
have achieved in the practice and expressed in beautiful words.<br />
Figurative reflection of reality in the proverb associated with the ethical evaluation of various phenomena of life. That is why some<br />
proverbs expresses funny, and sad, and funny and even bitter things. Thus, the main source of proverb is exactly the life of socio-historical<br />
experience of the people.<br />
For instances: The first is about individual’s cultivation. “Кісінің кісілігі, Киімінде емес, Білімінде. Күш - білімде, Білім кітапта”<br />
is cited to indicate it is good to store books get education from it. “Еңбегіне қарай өнбегі” is used to expound that people should be cautious<br />
to need the harvest. “Ерінбеген електен су ішеді” is cited to explain that if you keep working hard, you are sure to succeed. Therefore,<br />
consistency is very important to ensure the success. “Жігіттің түсін айтпа, ісін айт” is quoted to explain that the people should not admire<br />
the appearance of a worker but the result of the work. “Басы қатты, соңы тәтті” is used to emphasize the result will be fruitful and<br />
productive. “Ерінбей еңбек етсең – ерінің асқа тиеді, Ерініп ілбіп кетсең – иегің тасқа тиеді” is adopted to demonstrate in any<br />
hardworking job there is a benefit, but who is lazy will lose something at last.<br />
The second is about the family life. “Ағайын бар болсаң көре алмайды, жоқ болса бере алмайды. Жоқ болсаң күндейді, жаман<br />
болсаң жүндейді” is quoted to indicate that brothers will bursting with envy if you are rich but when you are in need of help it is hard to share<br />
the possessions.<br />
The third is about the social life. “Қарыз күліп барып жылап қайтады” reveals that it is easy to borrow money but returning the<br />
money takes a long time, is used to indicate the debt should be given for truthful person. Әр батқан күннің атар таңы бар. Бұлт артынан<br />
күн шығыр is quoted to explain that the truth that success and failure can change in turn. We do not have to give up. End of my article I’d<br />
like to say the short sentences of wisdom must be venerable.<br />
References:<br />
1. V.I.Dahl. Russian Proverbs. – Moskow.: Eksmo press, 2003. – 616<br />
2. Жұмабаев М. Педагогика. –Алматы: Ана-тілі, 1992. 160 б<br />
3. Elias Dominguez Baraja. 2010. The function of proverbs in discourse. Berlin http://en.wikipedia.org<br />
4. Jennifer Speake. The Oxford Dictionary of Proverbs. – Oxford university press, 2004<br />
ПРОБЛЕМА ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА<br />
К ФОРМИРОВАНИЮ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭТИКИ У УЧАЩИХСЯ<br />
Умурзаков А. Г., канд. пед. наук<br />
Кокшетауский государственный университет имени Ш.Ш. Уалиханова, Казахстан<br />
Участник конференции<br />
Actual problems of modern pedagogics<br />
Современная педагогическая наука, разрабатывая вопросы экологического образования, исходит из того, что формирование ответственного<br />
отношения к природе является составным элементом формирования экологического мировоззрения личности.<br />
«Проблема экологического образования - это, прежде всего, проблема формирования экологического мировоззрения, так как оно<br />
является ядром сознания, придает единство духовному облику человека, вооружает его социально значимыми и экологически приемлемыми<br />
принципами подхода к окружающей природной среде» [1].<br />
А.И. Герцен, Д.И. Писарев, Н.А. Добролюбов выделяли значение знаний о природе для формирования материалистического<br />
миропонимания и моральных представлений, определяющих поведение человека. А.И. Герцен, отстаивая принцип всестороннего<br />
и гармоничного развития личности, боролся за увеличение роли естествознания в обучении. «Нам кажется, почти невозможным без<br />
естествознания сосчитать действительное мощное умственное развитие; никакая отрасль знаний не приучает так ум к твердому положительному<br />
шагу, к смирению перед истиной, к добросовестному труду, и что еще важ¬нее, к добросовестному принятию<br />
последствий такими, как они выйдут, как изучение природы» [2, с.140]. Д.И. Писарев считал, что именно естественные науки дают<br />
человеку власть над окру¬жающей природой, возможность управлять ее силами и «...ставят человека лицом к лицу с действительной<br />
жизнью и кладут свою печать на все его рассуждения и поступки» [3, с.173].<br />
Прямые указания на необходимость связывать знания обучающихся о природе с формированием отношения к ней имеются в<br />
работах передовых мыслителей и педагогов К.Д. Ушинского, В.Ф. Одоевского, Н.И. Пирогова и др., стоявших на позициях<br />
воспитывающего обучения. Так, К.Д. Ушинский рассматривал освоение знаний о природе как важный фактор развития сознания и<br />
нравственных качеств чело¬века. «Человека можно развить гуманно изучением природы»,- говорил он и сетовал, что «воспитательное<br />
влияние природы, которое каждый более или менее испытывал на себе, так мало оцене¬но в педагогике» [4, с.53].<br />
Идеи К. Д. Ушинского о значении природоохранительного образования, усвоения новых знаний получили дальнейшее развитие<br />
в трудах его последователей Е.Н. Водовозовой и Е.И. Тихеевой. Е.Н. Водовозова считала, что поступки человека, его отношение к<br />
окружающей природе - большей частью верное зеркало его умственного развития [5].<br />
Вопрос взаимосвязи знаний человека о природе и воспитания бережного отношения к ней нашел достаточно широкое<br />
отражение в педагогической и психологической литературе. Много внимания этому вопросу уделяли М.И. Калинин, Н.К. Крупская,<br />
А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский и др. Например, М.И. Калинин утверждал, что поступки человека должны бази¬роваться не<br />
на отвлеченных понятиях, а на прочном фундаменте знаний естественных наук, изучение которых позволило бы поз¬нать наши<br />
природные богатства. «Наша земля, леса, горы, наши реки, моря с их разнообразием - все это может служить обиль¬ным<br />
материалом для воспитания» [6, с. 266].<br />
Глубокие идеи об использовании природы для умственного и нравственно-эстетического развития были высказаны В. А. Сухомлинским.<br />
Он оценивал природу как «вечный источник мысли» и добрых чувств воспитанников [7].<br />
Мысль о зависимости поведения человека в природе от полученных им знаний приводят и психологи (Б.Г. Ананьев, А.В.<br />
Запорожец, Г.С. Костюк, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, П.М. Якобсон и др.). Так, Б.Г. Ананьев указывает, что знания определяют<br />
28
«волевые усилия, поступки и действия, становятся принципами поведения, опреде¬ляющими весь моральный облик целостной<br />
личности» [8].<br />
В дальнейшем, многостороннюю и глубокую характеристику этой проблемы влияния знаний человека о природе на ответственное<br />
отношение к ней дал И.Д. Зверев. Он показал, что основным компонентом, определяющим отношение человека к природе,<br />
являются научные знания о ней, о взаимоотношении общества и природы. Эти знания составляют общедидактическую основу экологической<br />
деятельности [9].<br />
Следовательно, одним из ведущих факторов, формирующих отношение к природе, является совокупность знаний о ней<br />
каждого человека, т.е. так называемый интеллектуальный фактор. Процесс формирования экологических знаний выступает в образовании<br />
и воспитании двояким образом: с одной стороны, такие знания накапливаются в личном взаимодействии человека с<br />
природой; с другой - их слагают теоретические основы изучаемых естественных и общественных наук. Раскрывая названные две<br />
стороны знаний о природе, А.П. Сидельковский пишет: «знания, возникающие вследствие личного участия в деятельности среди<br />
природы, носят живой, конкретно-чувственный характер. Будучи наивно реалистичными, они в то же время нередко опосредствуются<br />
фольклорными, литературными и другими художественными мотивами. Они слагают в определенной мере эстетический и<br />
нравственный идеалы личности. В то же время они не отграничены непроходимой стеной и от элементов научных знаний и, вбирая<br />
последние в себя, постепенно утрачивают свой наивный и подчас поверхностный характер. В свою очередь, освоение теоретических<br />
знаний о природе происходит сложным путем. Оно охватывает формирование научных понятий, суждений и умозаключений,<br />
усвоение их истории и законов, овладение элементарными методами науки, развитие научного мировоззрения и получение<br />
образования» [10].<br />
В педагогике сложилось единое мнение о решающей роли знаний о природе в экологическом образовании. Причем, влияние<br />
полученных знаний на поведение человека в природе определяется не только их содержанием, но и методами обучения и<br />
воспитания. Однако, в то же время одного знания законов природы недостаточно, так как усвоение знаний - лишь важнейшая<br />
предпосылка и основа формирования отношения к природе. «Само по себе овладение знаниями не обеспечивает еще появления тех<br />
или иных черт личности человека» [11].<br />
Переоценка знаний в экологическом образовании и перенос вследствие этого центра эколого-педагогической работы на<br />
словесные методы (беседы, разъяснения, убеждения, диспуты, лекции, конференции и пр.) могут привести на практике к<br />
возникновению разрыва между знанием и поведением, т.е. к своеобразному формализму, который характеризуется тем, что<br />
человек, прекрасно зная моральные нормы и правила, отнюдь не следует им в своем личном поведении. Изучение состояния<br />
подготовки будущих учителей к формированию основ экологической этики учащихся в ряде педагогических вузов нашей<br />
республики выявило несоответствие между экологическими знаниями студентов и практической реализацией их в деятельности.<br />
Преодоление этого разрыва между словом и делом было актуальнейшей задачей педагогов во все времена. Д.И. Писарев<br />
предупреждал, что «знание природы ни в коем случае ни при каких условиях жизни не может быть мертвым капиталом для<br />
человека» [3, с.172].<br />
В.А. Сухомлинский указывал, что диспропорция между знаниями и умениями «ведет к тому, что знания остаются в голове<br />
мертвым грузом, без развития, так как они не трансформируются, не обогащаются новыми фактами, не применяются для<br />
объяснения новых фактов. Происходит то, что хочется назвать окостенением знаний» [7, с.76]. В.А. Сухомлинский считал, что<br />
воспитание нравственности «начинается там, где знания переходят, перерастают в убеждения. Отсутствие же убеждений, даже при<br />
наличии знаний, - показатель нравственной безликости человека. Знание фактов о природе является основой для формирования<br />
нравственных идей. Между знанием фактов и убеждениями пролегает мостик - идея. Знания становятся убеждениями через идеи»<br />
[7, с.262]. Только «перевод» знаний и личного осознанного опыта, приобретенного в разнообразной деятельности, в устойчивые<br />
взгляды, убеждения и идеалы, в основе которых лежат идейные устремления личности, создает четкое мировоззрение, направляющее<br />
отношение человека к природе. С учетом вышеизложенного по вопросу влияния знаний человека о природе на ответственное<br />
отношение к ней, можно отметить, что становление личностных отношений к природе достигается на основе органического взаимодействия<br />
нескольких факторов: интеллектуального, эмоционально-волевого и действенно-практического, ибо научное мировоззрение<br />
представляет собой высший синтез знаний, идейно-эмоциональных оценок и практического опыта.<br />
Руководствуясь позицией известных дидактов М.Н. Скаткина, И.Я. Лернер, В.В. Краевского [11-13] и др. о многообразии<br />
функций знаний, можно выделить три основных функции экологических знаний. Первая функция состоит в том, что они служат<br />
основой представлений о природном окружении. Вторая функция знаний состоит в их роли ориентира при определении человеком<br />
направления своей практической деятельности в природе. Зная природные законы, тенденции развития явлений природы и умея их<br />
объяснять, человек избирает способы и принципы действий в соответствии с этими знаниями. Наконец, знания служат базой<br />
формирования отношения к объектам природы. Это их третья функция. Овладение знаниями, по убеждению педагогов и психологов,<br />
есть формирование основ важнейших мировоззренческих отношений. В этом плане учебный процесс в вузе обогащает студентов<br />
естественнонаучными и оценочными знаниями, формирует у них моральные понятия, а в конечном счете способствует выработке<br />
системы отношений «человек - природа».<br />
Изучение предметности и содержательности деятельности учителей по формированию основ экологической этики у учащихся<br />
как целостного вида педагогической практики, исследование усло¬вий и закономерностей становления и развития у них<br />
потребностей и мотивов этой деятельности, определяющих ее личностный смысл, составляют необходимую психологопедагогическую<br />
основу целенаправленного формирования эколого-педагогических знаний, умений и навыков и выработки экологозначимых<br />
качеств личности.<br />
Другим аспектом теории деятельности, важным для экологической подготовки учителя, является представленная в ней система<br />
взглядов на структуру деятельности. Общая характеристика строения деятельности может служить основой для научного<br />
исследова¬ния эколого-педагогической деятельности и тех психологических образований, которые обеспечивают ее освоение и<br />
развитие. Знание строения человеческой деятельности, структуры профессионального труда учителя составляет необходимую ориентировочную<br />
основу планомерной выработки эколого-педагогических умений и навыков у студентов вуза.<br />
Рассмотрим общее строение деятельности, а также выводимую из него структуру педагогической деятельности. Благодаря<br />
работам А.Н.Леонтьева [14, с.176] и его последователей, утвердилась следующая структура деятельности: потребность, мотив,<br />
цель, условия достижения цели (единство цели и условий составляет задачу) и соотносимые с ними деятельность, действие,<br />
операция. Реально эколого-педагогическая деятельность разворачивается как процесс деятельного общения в условиях совместной<br />
(коллективной) деятельности учителя и учащихся. Предметно ориентированное общение (с учащимися, коллегами, родителями)<br />
составляет необходимую сторону педагогической деятельности, а коммуникативные и организаторские умения составляют важный<br />
компонент эколого-педагогической деятельности учителя. Сказанное позволяет выделить в структуре эколого-педагогической<br />
деятельности такие основные составляющие, как ориентация в мотивах, целях, условиях и средствах эколого-педагогической<br />
деятельности. Сам процесс включает в себя, во-первых, выделение главного и существенного в деятельности, постановку цели и<br />
формулирование задач; во-вторых, процесс планирования, т.е. определение средств (методов, приемов и форм). Затем процесс<br />
29<br />
Pedagogical sciences<br />
Actual problems of modern pedagogics
Pedagogical sciences<br />
Actual problems of modern pedagogics<br />
реализации поставленных целей и сформированных планов действий, включающий совокупность действий учителя по организации<br />
педагогического процесса, деятельности учащихся и своей собственной, а также контроль и оценку учителем процесса и результатов<br />
деятельности учащихся и своей собственной. Следовательно, полноценное руководство освоением педагогической деятельности<br />
по формированию основ экологической этики учащихся предполагает знание специфики ее потребностей, мотивов, задач, действий<br />
и операций; норм, способов и средств ее осуществления; условий, механизмов, этапов ее становления и дальнейшего развития;<br />
результатов усвоения и критериев его освоенности.<br />
На сегодняшний день процесс подготовки будущего учителя к формированию основ экологической этики у учащихся требует<br />
обстоятельного изучения, так как здесь имеется достаточно много неисследованных вопросов. Прежде всего, не выработана<br />
целостная теоретическая концепция данного вида педагогической деятельности как особого вида общественной практики, мало исследованы<br />
педагогические условия ее реализации, особенности и механизмы ее осуществления. Отсутствие такой концепции и<br />
познанных механизмов осуществления исследуемого вида педагогической деятельности может лишить процесс подготовки<br />
будущих учителей к формированию основ экологической этики у учащихся целенаправленности, организованности и управляемости.<br />
Как уже отмечалось, подготовка к эколого-педагогической деятельности в целом воплощает в себе определенные потребности,<br />
задачи, общественно выработанные нормы и способы их удовлетворения. Научным образцом анализа этого процесса может<br />
служить логико-психологический анализ В.В.Давыдова [15, с.67] содержания и структуры особого типа воспроизводящей<br />
деятельности человека - учебной деятельности. Как известно, учебная деятельность вводит индивида в сферу теоретических<br />
знаний и обеспечивает у него развитие основ теоретического сознания и мышления. Структура этой деятельности включает такие<br />
компоненты, как учебно-познавательная потребность и мотивы, учебная задача, учебные действия и операции. Специфика учебной<br />
задачи состоит в том, что при ее решении индивид овладевает общим способом решения всех частных задач определенного класса.<br />
Учебные задачи решаются посредством учебных действий, операций, среди которых выделяются действия преобразования, моделирования,<br />
контроля и оценки. Освоение профессии учителя также осуществляется в особой учебной деятельности студентов.<br />
Учебная деятельность студентов педагогического вуза сохраняет принципиальное родство с учебной деятельностью школьников, и<br />
к ней применимы ее существенные определения. Вместе с тем ей присущи специфические черты, определяемые ее функциональным<br />
назначением, способами и средствами осуществления, мерой освоения.<br />
В отличие от учебной деятельности школьников, учебная деятельность студентов направлена не столько на усвоение системы<br />
знаний, отражающих определенную теоретически освоенную сферу объективной реальности физическую или социальную, - и на<br />
формирование соответствующих способов действий, способностей, сколько на освоение теоретических знаний и умений<br />
педагогической деятельности, на формирование конкретных профессиональных способностей. Освоение эколого-педагогической<br />
деятельности невозможно вне активной самостоятельной учебной деятельности ее будущих субъектов, которая тем самым<br />
приобретает черты учебно-профессиональной деятельности.<br />
Эколого-педагогические знания, способы их использования должны осваиваться студентами в процессе постановки и решения<br />
задач, родственных исследовательским задачам. В связи с этим подготовка к эколого-педагогической деятельности студентов<br />
должна приобретать характер учебно-исследовательской деятельности.<br />
В результате освоения эколого-педагогической деятельности, у ее субъектов складываются профессиональные мотивы,<br />
вырабатывается понимание целей и задач, формируется экологическое и профессионально-педагогическое мировоззрение,<br />
приобретаются предметные, педагогические, дидактико-методические знания, соответствующие им умения и навыки. На наш<br />
взгляд, целесообразно эколого-педагогические умения связывать с освоением эколого-педагогической деятельности. Эколого-педагогическое<br />
умение - это действие в конкретной сфере эколого-педагогической действительности с определенными характеристиками<br />
(успешности, освоенности, прочности и т.д.), это действие, воплотившееся в определенной форме реализации экологического<br />
образования и воспитания учащихся. Известно, что эколого-педагогическое умение как действие отвечает определенной цели, оно<br />
всегда сознательно. Навык соотносим с операцией как способом осуществления действия, это хорошо освоенная операция, не<br />
требующая сознательного контроля ее осуществления. Навык возникает как сознательно автоматизируемое действие, а затем функционирует<br />
как автоматизированный способ выполнения действия. То, что данное действие стало навыком, означает собственно, что<br />
индивид в результате упражнения приобрел возможность осуществлять данную операцию, не делая ее выполнение своей<br />
сознательной целью. Освоение эколого-педагогической деятельности, на наш взгляд, является педагогическим мастерством в сфере<br />
экологического образования. Это высший уровень ее освоения, приобретаемый педагогом в процессе длительной практики.<br />
Таким образом, сущность процесса подготовки будущих учителей к формированию основ экологической этики у учащихся заключается<br />
в организации педагогического процесса в вузе, получения и анализа информации о состоянии готовности каждого<br />
студента к данному виду деятельности. Характеристиками деятельности студентов являются осознание важности изучения<br />
дисциплин экологической направленности, актуализация, трансформация, совершенствование, усвоение системы экологических<br />
знаний, стремление самостоятельно приобретать новые знания, обогащать личный опыт, овладевать умениями и навыками решать<br />
важные эколого-педагогические задачи, развивать интеллектуальные и коммуникативные умения.<br />
Для формирования экологического мировоззрения будущих учителей и эффективной подготовки их к экологическому<br />
образованию школьников в будущей профессиональной деятельности большое значение имеет формирование экологического<br />
сознания личности будущего учителя, его мотивационной готовности к предстоящей эколого-педагогической деятельности, система<br />
теоретических знаний и практических умений на основе оптимального сочетания аудиторной и внеаудиторной работы. Все<br />
большее число исследователей приходит к выводу, что решение экологических проблем невозможно без формирования экологического<br />
сознания личности, которое определяет поведение людей по отношению к окружающей природе. В начале третьего тысячелетия в<br />
связи с осознанием разрушительных последствий воздействия техногенной цивилизации на окружающую среду проблема<br />
формирования экологического сознания особенно обострилась. Следствием этого стала активизация педагогических, социологических,<br />
психологических и других исследований, связанных с изучением отношения человека к природе. К настоящему времени еще не<br />
сложилось единого подхода к определению понятия «экологическое сознание», в его структуре выделяются разнообразные<br />
компоненты, разными авторами делаются акценты на различные его аспекты, одни соотносят экологическое сознание преимущественно<br />
с экологическими знаниями, другие - с отношением к природе.<br />
Литература:<br />
1. Кудрявцев Е.М. Педагогические принципы и условия экологического образования. – М., 1983. – 174 с.<br />
2. Герцен А.И. Собрание сочинений.– М., 1966. – Т. 2. - 280 с.<br />
3. Писарев Д.И. Избранные педагогические сочинения.- М.,1968.- 340с.<br />
4. Ушинский К.Д. Педагогические сочинения.- М., 1983. – Т. 6.- 426 с.<br />
5. Водовозова Е.Н. Содержание экологического образования. – М., 1986 – 124 с.<br />
6. Калинин М.И. О воспитании и обучении // Избранные статьи и речи.- М., 1957.- 280с.<br />
30
Pedagogical sciences<br />
7. Сухомлинский В.А. Сто советов учителю.- Ижевск, 1981.- 346 с.<br />
8. Ананьев Б.Г. Окружающая среда и ее охрана: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1985. – 191 с.<br />
9. Зверев И.Д. К вопросу о системе обучения основам наук // Педагогика.- 1980.- №6.- 380 с.<br />
10. Сидельковский А.П. Экологические проблемы в системе содержания общего образования. – М.: Педагогика, 1981.- 344с.<br />
11. Скаткин М.Н. Совершенствование процесса обучения.- М., 1981 – 256 с.<br />
12. Лернер З.Я. Дидактические основы методов обучения.- М., 1984.- 185 с.<br />
13. Краевский В.В. Дидактический принцип как структурный элемент научного обоснования обучения // Принципы обучения в<br />
современной педагогической теории и практике. – Челябинск, 1985.- С.3-24.<br />
14. Леонтьев А.Н. Психология учебной деятельности. – М., 1988.- 366 с.<br />
15. Давыдов В.В. Виды обобщения в обучении: Логико-психологические проблемы построения учебных предметов.- М.:<br />
Педагогика, 1982.- 385 с.<br />
УДК 373<br />
ДЕТСКАЯ СУБКУЛЬТУРА КАК ФОРМА СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ДЕТСТВА 1<br />
Иванова Н.В., д-р пед. наук, проф.<br />
Виноградова М.А., канд. пед. наук, доцент<br />
Череповецкий государственный университет, Россия<br />
Участники конференции<br />
Статья раскрывает авторский подход к содержанию социализирующих функций детской субкультуры, а также<br />
практические аспекты их реализации в дошкольном образовательном учреждении для обеспечения социального<br />
развития детей дошкольного возраста.<br />
Ключевые слова: детская субкультура, социализирующие функции детской субкультуры<br />
Article opens an author's approach to the content of socializing functions of children's subculture, and also practical aspects of their<br />
realization in preschool educational institution for ensuring social development of children of preschool age.<br />
Keywords: the children's subculture, socializing functions of children's subculture.<br />
Развитие во второй половине 20 века таких научных областей как культурно-историческая психология детства<br />
(Л.Демоз, В.Т. Кудрявцев, Е.В. Субботский, Д.И. Фельдштейн)), этнография детства (М. Мид), история детства (Ф.<br />
Арьес), социология детства (Е. Квортруп, И.С. Кон) способствовало осознанию детства не только как физиологического,<br />
психологического, педагогического явления, но и как сложного социокультурного феномена, имеющего историческое<br />
происхождение.<br />
Особую значимость в современных условиях качественного усложнения системы человеческих отношений<br />
приобретает проблема взаимодействия взрослого и детского сообщества, связанная с необходимостью<br />
Статья подготовлена в рамках реализации гранта «Система многоуровневой подготовки научно-педагогических<br />
кадров в сфере сохранения социального здоровья детей в условиях промышленного города» (Федеральная целевая<br />
программа «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» (2009-2013г.г.) Государственный<br />
контракт № 14.740.11.0776) переосмысления позиции отношений мира взрослых к детству не как к совокупности<br />
детей разных возрастов, а как к субъекту взаимодействия, как к особому социальному состоянию. Развитие детства,<br />
индивидуальное развитие каждого ребенка предполагает субъектный принцип построения отношений не только<br />
между отдельными взрослыми и детьми, но и между мирами взрослых и детей как субъектами взаимодействия.<br />
Совпадение способов конструирования взрослыми и детьми мира детства будет обеспечивать субъект-субъектный<br />
характер отношений, способствовать преодолению отчуждения взрослого сообщества от детей (3).<br />
Одним из путей преодоления одностороннего подхода в реализации посреднической роли взрослых и переосмысления<br />
субъект-объектной позиции по отношению к детству в процессе социализации может стать познание взрослыми особенностей<br />
внутреннего мира детства, его самобытности, которые наиболее полно раскрываются в детской субкультуре<br />
как источнике существования и развития современного мира детства.<br />
Детская субкультура – это вариант широко распространенного в обществе объективно социального процесса<br />
трансляции культуры, социального опыта от поколения к поколению. В широком значении – это все, что создано в человеческом<br />
обществе для детей и детьми; в более узком – смысловое пространство ценностей, установок, способов<br />
деятельности и форм общения, осуществляемых в детских сообществах в той или иной исторической ситуации<br />
развития.<br />
Наличие детской субкультуры долгое время оспаривалось. Медленно и постепенно формировался современный<br />
взгляд на ребенка как на сравнительно самостоятельного и активного социального индивида. Постепенный процесс<br />
автономизации подрастающего поколения повлек за собой формирование в детских сообществах собственного мира<br />
«для себя», который постепенно стал неиституционализированной формой социального образования детства,<br />
регулирующей социальные взаимодействия детей внутри своей группы и на уровне возрастных групп в ходе<br />
удовлетворения ими своих потребностей в процессе различных видов деятельности.<br />
В связи с тем, что детская субкультура рассматривается нами как своеобразная форма социального образования<br />
детства, ее изучение мы предлагаем рассматривать в контексте базового понятия «социализация».<br />
Раскроем содержание основных социализирующих функций детской субкультуры.<br />
1. Обеспечение гармонизации процессов социализации, индивидуализации.<br />
В педагогике проблеме соотношения процессов социализации - индивидуализации уделялось особое внимание в<br />
1 Статья подготовлена в рамках реализации гранта «Система многоуровневой подготовки научно-педагогических кадров в сфере сохранения<br />
социального здоровья детей в условиях промышленного города» (Федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры инновационной<br />
России» (2009-2013г.г.) Государственный контракт № 14.740.11.0776)<br />
31<br />
Actual problems of modern pedagogics
Pedagogical sciences<br />
Actual problems of modern pedagogics<br />
контексте педагогики свободы и теории педагогической поддержки. Именно О.С. Газман и его исследовательская<br />
группа обратили внимание на процесс образования с точки зрения двух его сторон: социализации и индивидуализации<br />
личности.<br />
Социализация, как отмечал О.С. Газман, предполагает обретение человеком способности к «адаптивной активности»<br />
и осуществляется как под воздействием целенаправленных процессов (обучения и воспитания) в педагогических<br />
системах, так и под влиянием стихийных факторов (семьи, улицы, средств коммуникации и т.д.).<br />
Индивидуализация в образовании, по мнению О.С. Газмана, - «это система средств, способствующих осознанию<br />
растущим человеком своего отличия от других: своей слабости и своей силы – физической, интеллектуальной, нравственной,<br />
творческой. Для чего? Для духовного прозрения, для самостоятельного и успешного продвижения в дифференцированном<br />
образовании, выборе собственного смысла жизни и жизненного пути» (1, с.25).<br />
Индивидуализация, таким образом, понимается как деятельность взрослого (педагога) и самого учащегося по<br />
поддержке и развитию того единичного, особого, своеобразного, что заложено в данном индивиде от природы или что<br />
он приобрел в индивидуальном опыте.<br />
Но, если процесс социализации привычен для российской школы и освоен ею, то процесс индивидуализации для<br />
многих образовательных учреждений является новым и сложным. Как отмечал О.С. Газман, «размешивание» индивидуального<br />
и социального до однородности в теории приводит к неразберихе в практике, которая, не имея специфических<br />
задач развития индивидуальности, всегда тяготеет к развитию социальности» (1, с. 24).<br />
Таким образом, для современной системы образования гармонизация процессов социализации – индивидуализации<br />
ребенка является одной из приоритетных задач, которую в полной мере может решать детская субкультура.<br />
С одной стороны, в процессе приобщения к детской субкультуре целенаправленно создаются условия, обеспечивающие<br />
накопление социального опыта взаимодействий ребенка со взрослыми и сверстниками, развитие умений<br />
ребенка войти в детское общество, действовать совместно с другими (путем предоставления неформальных правил<br />
поведения детская субкультура способствует интеграции ребенка в детское сообщество, регуляции взаимодействия<br />
между детьми разного возраста, разного пола), то есть активно осуществляется процесс социальной адаптации. Удовлетворяя<br />
потребности в признании, завоевании личностного статуса, отличного от формального статуса ребенка в<br />
семье, детская субкультура оказывает влияние на воспитание таких социально значимых качеств как социальная уверенность,<br />
активность, самостоятельность, инициативность. Так, например, дразнилки и обзывалки, высмеивающие<br />
ябедничество, плаксивость, жадность, то есть выполняющие воспитательную функцию помогают ребенку отстаивать<br />
себя при нападках сверстников в форме словесной самозащиты, тренируют эмоциональную устойчивость и самообладание;<br />
С другой стороны, познание мира сверстников, взрослых дает возможность приобщаться к ценностям других<br />
людей, осознавать свои отличия, предпочтения, интересы, корректировать и формировать собственную систему<br />
ценностей, то есть обеспечивается процесс индивидуализации.<br />
2. Функция формирования ценностного отношения к миру.<br />
Ведущей тенденцией современной педагогики как науки, изучающей сущность, закономерности, перспективы<br />
развития образования как фактора и средства развития человека, является ее обращение к своим мировоззренческим<br />
основаниям, «возвращение» к личности.<br />
Попытки формирования развернутой философско-психологической концепции личности привели в последние<br />
годы к развитию новых положений, раскрывающих содержание таких понятий как личность, индивидуальность, субъектность,<br />
Я-концепция. Личные ценности, свобода, самостоятельность, достоинство, перспективы, стратегия жизни<br />
и цели – вот основные характеристики, составляющие психологические образования личности.<br />
В работах В.В. Давыдова, Э.В. Ильенкова, А.В. Петровского, А.Б. Орлова, Д.И. Фельдштейна личность<br />
рассматривается как психологическое образование, которое формируется в жизненных отношениях индивида в<br />
результате преобразования его деятельности. Именно в личности, по мнению авторов, выражена сила индивидуализированных<br />
всеобщих устремлений, потребностей и целей группы.<br />
В педагогике категории «личность», «индивидуальность» рассматриваются в контексте основных подходов к<br />
процессу воспитания, которые ориентируют педагогическую практику на сбережение, сохранение, выращивание<br />
бытия ребенка, на помощь воспитаннику стать собой (В.А. Караковский, Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова, Н.Е.<br />
Щуркова и др.)<br />
Анализируя отечественную традиционную систему общественного воспитания, А.Б. Орлов отмечает, что она<br />
является нормативной системой формирования (навязывания и заучивания) ценностей, задаваемых человеку обществом.<br />
Причем, прекрасные сами по себе, но внешние по отношению к детям ценности рассматриваются педагогами как одинаковые<br />
для всех детей. Такое назидательное воспитание, при котором воспитатели делают акцент на внешней по отношению<br />
к ребенку, навязываемой системе ценностей, приводит к расщеплению социального и индивидуального<br />
опыта ребенка, к отчуждению его социального, внешнего Я от Я внутреннего, реального (2).<br />
Таким образом, современный взгляд на воспитание как «формирование иерархической системы ценностей<br />
личности, отвечающее и требованиям общества, и достигнутому человечеством уровнем культуры, и индивидуальным<br />
особенностям входящего в жизнь человека», предполагает, что суть данного процесса заключается не в информировании<br />
о ценностях, не в их изучении и навязывании, а, прежде всего, в приобщении к ценностному сознанию других людей<br />
(М.С. Каган).<br />
Соответственно, изменение приоритетов в системе образования связано, прежде всего, с переносом акцентов с социального<br />
опыта на индивидуальный, с нормативного Я на реальное Я ребенка, с внешних требований на внутренние<br />
мотивы и потребности детей (2).<br />
Современной технологией, базирующейся на данных концептуальных положениях, выступает детская субкультура.<br />
Коллекционирование, презентации образа жизни своей семьи, выставки семейных увлечений – все это дает возможность<br />
познакомиться с внутренним миром других людей, анализировать и сравнивать ценности свои и окружающих,<br />
формировать иерархическую систему ценностей, отвечающую как требованиям общества, уровню культуры,<br />
достигнутому человечеством, так и индивидуальным особенностям самого ребенка. Особую роль детская субкультура<br />
может играть в формировании ценностно-смысловой сферы ребенка с трудностями в социализации, так как<br />
предоставляет возможность выбора и ненасильственного приобщения к миру человеческих ценностей.<br />
Представим практические аспекты реализации социализирующих возможностей детской субкультуры для<br />
обеспечения социального развития воспитанников ДОУ.<br />
Исследование проводилось на базе МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 125» г. Череповца с 2000 г. по<br />
32
2012 гг. В нем принимали участие педагогический коллектив и воспитанники дошкольного учреждения (более 480<br />
детей в возрасте от 3до 7 лет).<br />
Основными задачами выступили:<br />
1. Педагогическое обеспечение социального взросления воспитанников ДОУ в процессе приобщения к детской<br />
субкультуре.<br />
2. Создание в ДОУ детской социальной среды, учитывающей специфику современной социализации дошкольников.<br />
В рамках исследования велась углубленная работа по следующим компонентам детской субкультуры: смеховой<br />
мир детства, детская картина мира, детский правовой кодекс, детское собирательство и детское коллекционирование,<br />
детская мода, предметный мир детства.<br />
Для решения поставленных задач целенаправленно создавались условия, обеспечивающие ребенку возможность<br />
транслировать окружающим свой собственный мир, его интеграцию в детское сообщество и накопление опыта<br />
регуляции взаимодействия между детьми разного возраста и разного пола:<br />
- использование разнообразных форм приобщения дошкольников к детской субкультуре с учетом возрастной специфики,<br />
- создание предметно-развивающей среды, наполненной компонентами детской субкультуры.<br />
В ходе эксперимента были разработаны следующие формы приобщения дошкольников к детской субкультуре:<br />
- презентации жизни детской группы («Новогодние фантазии», «Как мы играем», «В гостях у сказки» и др.),<br />
презентации как личных, так и семейных коллекций. Данная форма работы способствует развитию социальной<br />
уверенности и накоплению опыта разновозрастного общения;<br />
- организация выставок: персональных («Мои увлечения», «Мои достижения»), тематических («Семейные<br />
увлечения», «Смеховой мир детства», «Моя любимая книга»), Эта форма работы направлена на трансляцию ребенком<br />
собственного внутреннего мира и осознание значимости своей личности, а также дает возможность представить<br />
ребенку ценности куль туры на основе принципа поливариативности;<br />
-проведение праздничных событий и игровых тематических проектов («Ярмарка современной игрушки», конкурс<br />
«Антимода», «Фотоателье», организация издательства детского журнала). Включение ребенка в эти формы работы<br />
обеспечивает накопление опыта социальных взаимодействий, развитие групповой сплоченности и эмоционального<br />
сближения детей друг с другом;<br />
- совместные праздники детей и родителей. В процессе подготовки и проведения праздников создаются условия<br />
для гуманизации межличностных отношений между детьми и родителями, для поддержания веры ребенка в себя, в<br />
свои силы, желании «быть хорошим».<br />
Эффективность использования возможностей детской субкультуры в педагогическом процессе в значительной<br />
степени определяется предметно-развивающей средой. В результате проводимой работы предметно-развивающая<br />
среда пополнилась во всех группах следующими компонентами детской субкультуры:<br />
- для удовлетворения детской потребности в собирательстве - предметами-накопителями (сундучки, ларцы,<br />
коробы, корзины и т.д.);<br />
- для осознания ребенком предпочтений других детей – сокровищницами;<br />
- для осознания ребенком себя на разных возрастных этапах – моделями возрастных периодов (паровозики<br />
времени, «ладошки» и др.);<br />
- для формирования навыков социальной безопасности у детей – социально-адаптированными играми.<br />
Кроме того, группы периодически пополнялись временными компоненты детской субкультуры: материалами<br />
выставок; коллекциями; компонентами, полученными в результате реализации игровых проектов (журналы, книги,<br />
фотоальбомы, коллекция одежды и др.).<br />
Компоненты детской субкультуры позволяют детям глубже познать и раскрыть свои возможности и возможности<br />
других, апробировать различные социальные роли, усвоить ценности окружающего мира и адаптироваться в социальном<br />
мире.<br />
Сравнительный анализ результатов диагностики уровня социального развития детей в экспериментальных и контрольных<br />
группах на констатирующем и контрольном этапах исследования показал, что наиболее существенные<br />
изменения произошли по следующим параметрам:<br />
- взаимодействие ребенка со взрослыми (легко идет на контакт со взрослым, с удовольствием действует со<br />
взрослым сообща, успешно действует под его руководством и легко принимает его помощь);<br />
- социальная позиция ребенка по отношению к сверстнику (успешно взаимодействует со сверстниками и участвует<br />
в коллективной игре, легко устанавливает дружеские отношения со сверстниками, проявляет качества лидера, хорошо<br />
себя чувствует в большой группе детей, умеет занимать других детей, успешно участвует в делах и играх, предложенных<br />
другими детьми, успешно разрешает конфликты со сверстниками),<br />
- поведение в самостоятельной деятельности (хорошо действует самостоятельно, может занять себя сам, умеет<br />
сдерживать себя и контролировать свое поведение),<br />
- позитивное отношение к себе и к окружающим.<br />
Таким образом, в ходе экспериментальной части исследования было доказано, что приобщение ребенка-дошкольника<br />
к детской субкультуре выступает действенным средством обеспечения социального развития, в контексте которого<br />
осуществляется успешная интеграция ребенка в группу сверстников, формирование его целостного жизненного<br />
опыта, удовлетворение потребности в самостоятельности и участии в социальных изменениях.<br />
Литература:<br />
1. Газман О.С. Педагогика свободы: путь в гуманистическую цивилизацию ХХI века //Классный руководитель. –<br />
2000. - № 3. – С. 6-33.<br />
2. Орлов А.Б. Психология личности и сущности человека: Парадигмы, проекции, практики. – М.: Издательский<br />
дом «Академия», 2002.<br />
3. Фельдштейн Д.И. Детство как социально-психологический феномен и особое состояние развития // Вопросы<br />
психологии. – 1998. - № 1. – С. 3-19.<br />
33<br />
Pedagogical sciences<br />
Actual problems of modern pedagogics
Pedagogical sciences<br />
УДК 377<br />
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ<br />
СТУДЕНТА ТЕХНИКУМА В УСЛОВИЯХ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА<br />
Кунаккулов Х.Р., соискатель<br />
Мелеузовский механико-технологический техникум, Россия<br />
Зверев С.В., канд. пед. наук, доцент<br />
Филиал Московского государственного университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского в г. Мелеуз,<br />
Россия<br />
Участники конференции<br />
В статье рассматриваются вопросы разработки концептуальной основы педагогических условий личностно ориентированного<br />
подхода с целью повышения конкурентоспособности выпускников на основе маркетинговой деятельности.<br />
Ключевые слова: личностно ориентированное обучение, маркетинговая деятельность, моделирование.<br />
The article discusses the issues dealt with the development of pedagogical conditions of individually oriented approach having the aim to<br />
improve graduates` competitiveness on the basis of marketing activities.<br />
Keywords: personality-oriented education, marketing activities, competence.<br />
Actual problems of modern pedagogics<br />
Логически продуманная постановка любого исследования включает в качестве одного из важнейших компонентов выбор<br />
модели (от франц. modele, от итал. modello - образец), описывающей исследуемый объект.<br />
Согласно определения из энциклопедии профессионального образования, моделирование – это исследование объектов познания<br />
на их моделях [2, с. 75]. Поддающимися моделированию названы следующие объекты: выпускник, деятельность специалиста,<br />
подготовка специалиста, деятельность педагога, руководителя организации, учебный план [2, с. 77-81]. Сюда относят построение,<br />
анализ и изучение моделей, объектов, систем, конструкций, процессов и т.п., которые отображают или воспроизводят объект<br />
исследования и способны замещать его, так что их изучение дает нам новую информацию об исследуемом объекте. В этой связи,<br />
одним из условий моделирования выдвигается то, что модель должна как можно больше включать в себя свойств и характеристик<br />
исследуемого объекта для того, чтобы воссоздать те признаки, которые в литературе называются существенными и адекватными<br />
параметрами.<br />
В этой связи подчеркнём, что в известных педагогической науке моделях либо рассматриваются отдельные элементы или<br />
подсистемы высшей школы, либо предполагается, что вся эта система на макроуровне реагирует на изменение ситуации как единое<br />
целое. Вместе с тем, для нашего исследования, исключительно важными представляются системные характеристики среднего профессионального<br />
образования, представленные авторами в своих работах: целостность структуры и взглядов, системность в<br />
подходах исследования, кибернетические основы в алгоритмах выбора действий и направлений развития.<br />
Однако, в существующих моделях отсутствуют механизмы, связанные с анализом таких характеристик, которые позволяют в<br />
простейшем случае отвечать на вопрос о том, что делать, для того чтобы обеспечить динамичное развитие представленной модели.<br />
В конкретных примерах моделирование неразрывно связано с процессами абстрагирования и идеализации результата, посредством<br />
которых не происходит выделения динамики тех сторон моделируемых объектов, которые востребуются рынком труда.<br />
Будучи связанным процессами анализа, абстрагирования и идеализации моделирование позволяет вместе с тем решать и противоположные<br />
задачи синтеза и конкретизации знания, что обычно осуществляется посредством уточнения и дополнения исходной<br />
модели новыми элементами, свойствами и характеристиками, в результате чего конкретизирующая модель становится более<br />
полным и точным отображением моделирующего фрагмента действительности.<br />
В этом случае объединение элементов в систему дает ряд важных преимуществ. У целого появляются свойства, которыми не<br />
обладает ни одна из его частей. Из этого следует, что в теории конечных автоматов и теории самоорганизации существуют средства,<br />
которые позволяют описать появление новых качеств и повышение эффективности функционирования уже на примере<br />
образовательной системы<br />
На принципиальную пользу применения моделирования именно в педагогике указывал Г. Клаус, который считал, что<br />
«кибернетика, например, может разработать не только теорию обучающих автоматов, … но и, очевидно, такие кибернетические<br />
модели, которые могут иметь большое значение для современной педагогики» [1].<br />
В нашем исследовании мы придерживаемся позиции, что в процессе педагогического моделирования, целесообразнее<br />
использовать различные данные: нормативные документы, экспертные оценки, эмпирический материал. Одной из целей<br />
педагогического моделирования выступает воспроизведение объекта исследования таким образом, чтобы путем изучения модели<br />
получить новую информацию об объекте.<br />
Практическая и познавательная ценность модели в нашем исследовании в основном определяется ее адекватностью изучаемым<br />
сторонам объекта, а также тем, насколько правильно учтены на этапах построения модели основные принципы моделирования<br />
(культуросообразности, синергизма, востребованность), которые во многом определяют как возможности и тип модели, так и ее<br />
функции в исследовании. Только при соблюдении этих условий моделирование как метод научного исследования позволяет<br />
объединить эмпирическое и теоретическое в педагогическом исследовании, т.е. сочетать в ходе изучения объекта прямое наблюдение,<br />
факты, эксперимент (эмпирический уровень исследования) с построением логических конструкций и научных абстракций<br />
(теоретический уровень).<br />
Следовательно, в качестве необходимых условий для организации целостного процесса формирования конкурентоспособности<br />
нами выбран личностно-ориентированный подход.<br />
Характерной особенностью обозначенного направления выступает то, что одной из приоритетных задач образования становится<br />
формирование конкурентоспособности студента как базисного качества развивающейся личности. Направляющей основой<br />
процессов формирования конкурентоспособного студента служат факторы социально-экономического развития. Среди них<br />
глобализация и связанные с ней интернационализация рынков, растущие темпы мобильности производственно-технического<br />
сектора экономики за счет развития и внедрения продуктов искусственного интеллекта, сопровождающие формирования постиндустриального<br />
общества, в котором ведущая роль отводится уровню знаний, обеспечивающих формирование мобильной личности,<br />
свободной и ответственной, способной к творческой деятельности, готовой к масштабной реализации своих потенциальных возможностей.<br />
Очевидно, что в сложившихся экономических условиях приоритетные позиции занимают вопросы анализа сущности,<br />
механизмов, движущих сил, путей повышения качества процесса обучения, его динамики и осмысления особенностей конкуренто-<br />
34
Pedagogical sciences<br />
способности студента. Для успешного преодоления порочного круга складывающихся социально-экономических предпосылок<br />
необходимо научно обосновать структуру конкурентоспособности студента и деятельность техникума по реализации педагогических<br />
условий личностно-ориентированного обучения, показав зависимость критериев конкурентоспособности студента от процессов<br />
реформирования социально-экономической среды и динамики развития рынка труда.<br />
Вариативность современной системы образования, ее устремленность на личностно-ориентированное обучение<br />
все чаще приводит к превращению современных образовательных учреждений из объекта управленческих воздействий<br />
вышестоящих руководящих органов в субъект развивающейся системы образования. Достижение данного перехода<br />
возможно, если создаются условия, как для раскрытия творческого потенциала студентов, так и для инициативы<br />
педагогов и образовательных учреждений в целом.<br />
Но прежде всего, на этапе констатирующего эксперимента, нам хотелось выяснить мнение студентов относительно<br />
их удовлетворенности существующей системой образовательной деятельности в техникуме по формированию конкурентоспособности<br />
студента.<br />
В этой связи, студентам были заданы вопросы: «Считаете ли Вы целесообразной образовательную деятельность техникума по<br />
формированию конкурентоспособности студента? (I)» и «Удовлетворены ли Вы собственным достигнутым результатом<br />
сформированности конкурентоспособности? (II)» (табл. 1). Полученные данные вносились в таблицу и анализировались.<br />
Таблица 1. Результаты самооценки студентами сформированности собственной конкурентоспособности<br />
Анализ результатов опроса, внесенных в таблицу, показал, что большинство студентов, участвующих в эксперименте, (52,1%)<br />
затруднялись ответить о целесообразности образовательной деятельности вуза по формированию конкурентоспособности студента.<br />
Более того, 16,6% считали не целесообразным применение маркетинговой деятельности в техникуме, отрицательно относились к<br />
тому, чтобы на занятиях структурировалось содержание читаемых дисциплин под требования работодателей и во внеаудиторной<br />
деятельности обращалось особое внимание на формирование компонентов конкурентоспособности выявленных на основе опроса<br />
работодателей.<br />
Для получения информации в качестве инструментов диагностики были использованы методики анкетирования на основе<br />
опыта ученых (Е.И. Рогов, В.П. Симонов, Г.В. Щекин).<br />
Результативность процессов удовлетворенности потребителей проверяли методом тестирования «Восприятие», разработанным<br />
американскими учеными V.A. Zeithaml, L.L. Berry, A. Parasuraman и адаптированным нами к условиям исследования.<br />
Диагностика потребности обучения в техникуме обнаружила направленность на приобретение знаний у 37,3%, на овладение<br />
востребованной профессией у 32,6%, на получение диплома у 9,1%, 21% иное (в том числе уклонение от службы в армии по<br />
призыву). Диагностика потребности студентов в саморазвитии, позволила выявить следующую степень выраженности в любой<br />
деятельности (табл. 2).<br />
Таблица 2. Сведения о распределении студентов по уровням сформированности у них потребности в саморазвитии<br />
Диагностика удовлетворенности студентов и потребителей результатами процессов обмена в техникуме на первом этапе<br />
представлена в таблице 3.<br />
Перспективность использования такого метода заключалась в решении проблемы поиска индикатора удовлетворенности<br />
между ожиданиями потребителя и фактическим восприятием полученной услуги, качество которых трудно оценить на основании<br />
объективных характеристик. В качестве индикатора нами была принята критериальная (бальная) оценка.<br />
Таблица 2. Сведения об удовлетворенности студентов результатами процессов обмена в образовательной деятельности<br />
техникума на первом этапе<br />
Критерии<br />
Потребители<br />
2010 год<br />
Студенты<br />
Потребители<br />
5 9,1 22,1<br />
4 17,5 43,4<br />
3 24,2 17,6<br />
2 45,7 16,9<br />
1 3,5 0<br />
Варианты ответов интерпретировались следующим образом: если Вы полностью согласны, отметьте (кружком или другим<br />
знаком) число – 5. Если полностью не согласны – число 1. Если ваше мнение не столь категорично – отметьте одно из<br />
промежуточных чисел (2, 3, 4).<br />
Суть метода сводилась к выявлению несоответствия при предоставлении услуги. Модель Gap (от англ. gap - разрыв) помогала<br />
выделять возможные несоответствия при предоставлении услуг через величину и направление разрывов, показывая фактическое её<br />
качество. Ключевым являлся разрыв между элементами «ожидаемая услуга» и «воспринятая услуга», причем под «разрывом» под-<br />
35<br />
Actual problems of modern pedagogics
Pedagogical sciences<br />
разумевалось превышение ожиданий потребителя над оценкой услуги, полученной в действительности. Услуга являлась качественной,<br />
если разрыв наименьший или отсутствовал. Эта методика позволяла увидеть процесс предоставления услуги в целом, выявить<br />
возможные источники её неудовлетворительного качества.<br />
Недостатком у метода просматривалась невысокая степень его информативности: само по себе значение индекса могло сигнализировать<br />
лишь о соответствии оцениваемой услуги качественной и некачественной категории. Его основное преимущество было<br />
в том, что метод позволял получить результативное суждение там, где не представлялось возможным применение других методик с<br />
точной индексацией качества.<br />
Определив, таким образом, уровень удовлетворенности студентов и работодателей результатами деятельности техникума, была<br />
определена программа активизации смыслообразующих мотивов деятельностной и когнитивной основы, связываемых представления<br />
преподавателей техникума и студентов о желаемом результате, о возможностях, о личном потенциале в отношении конкурентоспособности<br />
с изучением спецкурса который определял основное содержанием когнитивного компонента конкурентоспособности.<br />
Анализ полученных на констатирующем этапе эксперимента эмпирических данных позволил нам сделать вывод, что в рамках<br />
традиционного обучения уровень конкурентоспособности студентов сформирован недостаточно. В этой связи подчеркнем, что для<br />
повышения уровня сформированности конкурентоспособности студентов требуется реализация специально организованных видов<br />
образовательной деятельности по реализации комплекса педагогических условий личностно-ориентированного подхода.<br />
Литература:<br />
1. Клаус, Г. Кибернетика и общество / Г. Клаус. – М.: Изд. «Прогресс», 1967. – 144 с.<br />
2. Энциклопедия профессионального образования: В 3-х т. – Т. 2 – М – П. / Под ред. С.Я. Батышева. – М., АПО, 1999. – 440 с.<br />
ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАНИЕ ОБУЧЕНИЕ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ВУЗЕ<br />
Мертинс К., соискатель<br />
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Россия<br />
Участник конференции,<br />
Национального первенства по научной аналитике,<br />
Открытого Европейско-Азиатского первенства по научной аналитике<br />
В статье представлен анализ особенностей проблемно-ориентированного обучения в вузе. Приведены проблемы, которые<br />
необходимо решить, в первую очередь преподавателям, для внедрения проблемно - ориентированного обучения в исследовательском<br />
вузе с целью формирования личностно- ориентированной образовательной среды.<br />
Ключевые слова: образовательный процесс, проблемно- ориентированное обучение, личностно- ориентированная образовательная<br />
среда, миссия преподавателя.<br />
In the article the analysis of Problem- based learning is given. The problems to be solved for implementing new methods of the<br />
educational process organization in the research university to form of student-centered educational approach, are presented.<br />
Keywords: Problem- based learning, student-centered educational approach, teacher's mission.<br />
Actual problems of modern pedagogics<br />
Любое высшее учебное заведение заинтересовано в том, чтобы подготовить выпускника к профессиональной деятельности.<br />
Работодатель, в свою очередь, ждет, что работника не придется переучивать, и через небольшой промежуток времени ему можно<br />
будет поручить важные проекты. Качество высшего образования определяется через компетенции выпускника вуза, которые он<br />
способен продемонстрировать в профессиональной среде и через деятельность преподавателя. И деятельность преподавателя<br />
вполне может отражать качественное освоение образовательной программы. В образовательном процессе применяются различные<br />
методы в рамках субъект-субъектного взаимодействия, основные из которых рассмотрены нами в раннем исследовании [1, 204]. В<br />
данной статье мы остановимся на проблемно-ориентированном обучении, особенности организации которого изучены нами на<br />
примере Ольборгского университета (Э. Де Грааф, Дания) и Национального исследовательского Томского политехнического университета.<br />
1. Участники: преподаватель, студенты, тьютор, работодатель<br />
Проблемно - ориентированное обучение - это пример личностно - ориентированной образовательной среды, когда студент<br />
является частью команды по решению проблемы. Преподаватель либо студент формулирует проблему, которую необходимо<br />
решить, подготовленная группа распределяет роли внутри команды, и тьютор координирует деятельность группы. Преподаватель<br />
должен скорректировать свою деятельность таким образом, чтобы студенты самостоятельно пришли к решению, а тьютор - чтобы<br />
студенты как можно больше получили ответов от специалистов, к которым эта проблема имеет отношение. Идеальный вариант -<br />
когда тьютор является посредником между группой и работодателем. Возникающие практические вопросы можно сразу уточнить<br />
на производстве, провести эксперименты, не привлекая дополнительных финансовых ресурсов со стороны университета.<br />
Принципы организации команд. Для эффективной работы команды могут быть организованы как с привлечением психологов,<br />
так и специалистов. В команде обязательно должен быть лидер. В Ольборгском университете студенты 1 курса осваивают<br />
дисциплину “Сотрудничество, обучение и управление проектом’, с командами работают специально закрепленные преподаватели<br />
- фасилитаторы (facilitator), что, по нашему мнению, несомненно влияет на качество представляемых результатов. В Томском политехническом<br />
университете проблемно- ориентированное обучение организовано в виде решения кейсов в Институте инженерного<br />
предпринимательства и в рамках проектов студентов Элитного технического образования. В каждом случае студенты подготовлены<br />
к выполнению творческих заданий при внедрении системы тренингов личного роста, развития коммуникативных навыков, работы<br />
в команде, а также курсов по системному анализу. Дисциплина “Системный анализ” включает в себя разбор простых ситуаций, где<br />
нужно найти решение, а затем студенты переходят к более сложным и профессиональным задачам. Примером такого задания<br />
может быть следующее. Инженеру выдан кейс в виде разработки конструкции сохраняющего тепло шкафа для перевозки еды в<br />
самолете, потому что существующий очень громоздкий. Учитываются следующие параметры: длительность перевозки шкафа из<br />
здания аэропорта, материал, из которого изготовлен шкаф, колеса для передвижения по асфальту (блокирующие механизмы при<br />
наклоне самолета, автономность питания, форма шкафа и т.д. Параметры должны быть подобраны таким образом, чтобы все<br />
условия соблюдались при минимальном весе шкафа. Для решения данной задачи можно изучать систему логистики авиагрузов,<br />
36
время полетов, обеспеченность авиакомпании (меню, бутерброды, печенье или полноценные завтраки), стоимость завтрака и<br />
стоимость 1 кг в условиях авиаперевозки, изучение свойств продуктов, сохраняющих тепло или теряющих вкус и полезность при<br />
изменении температуры. Вопросы передвижения шкафа - тележки должны быть изучены с учетом комплекций стюардесс, обуви, в<br />
которой они ходят по салону. Шкаф не может быть снаружи горячим, потому что это противоречит нормам безопасности, которые<br />
провозглашают ведущие мировые компании. Принимая во внимание все аспекты, решение данной проблемы является комплексным<br />
проектов в различных областях - от химии, физики - до этики и экономики. Считаем очень важным в таком проекте побор междисциплинарной<br />
команды и распределение в ней ролей.<br />
Распределение ролей. Самостоятельное распределение ролей в группе может привести к тому, что студент, примеряя на себя<br />
роль, в которой ему комфортно, будет стараться выбрать ее в каждом проекте. Поэтому тьютор работает над тем, как создать<br />
условия для творческой атмосферы, в которой студент сам проявит лучшие качества, в том числе и профессиональные. Обязательным<br />
условием является включение в состав команды экспертов из числа самих же студентов. Очень ценным является опыт по анализу<br />
исходных данных проблемы, методов решения и полученного результата. А был ли выбранный способ решения задачи самым эффективным<br />
с точки зрения ресурсов, времени и т.д.<br />
Принципы организации проблемно- ориентированного обучения. Самым главным элементом в обучении являются вопросы. О<br />
чем проблема? Почему выбрана такая проблема? С чего нужно начать для решения проблемы? Какие методы для решения<br />
проблемы будем использовать? В какой области науки, техники, реальной жизни встречается данная проблема? Почему Вы<br />
выбрали именно этот метод работы? Вопросы ориентированы на организацию работы команды, на концентрацию внимания на<br />
острых моментах, на рефлексию, на осмысление полученных результатов. А что мы сделали не так, что проблема зашла в тупик?<br />
Интересно знать причины и последствия решений, которые студенты выбрали. На защите проектов по предложению решения<br />
может присутствовать работодатель, который даст оценку проекту, сможет внести предложения по изменению содержания обучения.<br />
2. Проблемно - ориентированное обучение - способ подготовки к научно-исследовательской деятельности.<br />
Формирование коллектива, в котором распределены основные роли, работа с большим объемом информации, возможность использования<br />
различных источников, в том числе Internet, мотивация к самостоятельной работе над проблемой, являются<br />
определяющими факторами для успешного начала исследовательской деятельности. Студенты сами определяют, каких знаний им<br />
не хватает, в каких областях им необходимо “дойти’’ до истины. Этапы организации проблемно- ориентированного обучения схожи<br />
с исследовательской деятельностью: выявление противоречия, анализ условия исходных данных, ограничивающих условий,<br />
направленных на выполнение результата (в том числе недостающей информации), составление плана решения задачи, формулировка<br />
гипотез, исследование и корректировка связей между полученными формулами, законами и т.д., проверка результатов. Поэтому<br />
можно считать, что проблемное обучение - это часть научно- исследовательской деятельности.<br />
3. Проблемно - ориентированное обучение - возможность самооценки.<br />
Метод рефлексии позволяет студенту оценить свои способности, свой вклад в проекте в процессе групповой работы. Самооценка<br />
повышает мотивацию к активному участию и принятию ответственности за принятое решение на себя. Самооценка может и рассматриваться<br />
в виде комплексной оценки всей деятельности группы не с точки зрения экспертов и преподавателей, а по мнению<br />
самой группы (каждого его участника). Здесь очень важно подготовить открытый диалог, и поддерживать студентов в независимости<br />
от результата решения проблемы.<br />
4. Вопросы, на которые необходимо ответить:<br />
- Тематика проектов. Представление и презентация проектов. Студент должен получить готовый продукт, чтобы оценить<br />
степень удовлетворения требований Заказчика, изучения соотношения предполагаемого решения и реального, и т.д. Будет ли<br />
публичная защита проектов противоречить требованиям работодателей, которые заинтересованы в решениях.<br />
- Оценка решения проблемной задачи (системный анализ, групповая работа). Командная работа подразумевает одинаковые<br />
оценки для всех участников.<br />
- Насколько самостоятелен может быть студент? В ходе решения задачи студент может прийти к неожиданным выводам, и этот<br />
опыт будет ценным. Его нужно только направлять.<br />
- Другой результат. Стереотип заключается в необходимости получить идентичный ответ в задаче. Как к этому относиться и что<br />
считать результатом решения? Как нужно перераспределять время, ставить другие цели и т.д.? Какие последствия ожидаются?<br />
- Как студент может попробовать себя в каждой роли участника группы? Зависит от масштабности проекта и распределения<br />
ролей в команде, крупная задача может быть разбита на подзадачи.<br />
- Свободное время (изменение подхода к организации учебного процесса). Проблемно- ориентированное обучение - это<br />
системный подход к организации учебного процесса в рамках всего вуза. Деятельность преподавателя должна быть пересмотрена с<br />
учетом междисциплинарности проектов. Проблемы с организацией рабочего пространства, графика работы студентов и<br />
преподавателей, решаются через временные графики выполнения проекта (поиск информации, консультации на предприятии,<br />
подготовка чертежей, работа в компьютерном классе, дискуссионная площадка для организации командной работы и т.д.).<br />
4. Проблемно - ориентированное обучение - вектор изменения миссии преподавателя.<br />
Самым главным вопросов является переосмысление деятельности преподавателя через призму организации личностно - ориентированной<br />
образовательной среды. [2,59] Следующие несколько аспектов могут помочь переориентировать преподавателя:<br />
Атмосфера обучения. Очень сложно преподавателю организовать работу, если студенты не готовы к творческой работе. Любой<br />
результат должен быть обсужден, и коллегиально принято решение о праве на его существование. Каждый студент должен быть<br />
вовлечен в исследование, уметь увидеть связи между явлениями, найденными различными участниками команды, определить свое<br />
место в этом исследовании.<br />
Проблему формулирует преподаватель. Умение поставить проблему и спроектировать предполагаемое решение, умение вести<br />
диалог со студентом – это компетенции, которыми преподаватель должен обладать.<br />
Проблему формулирует студент. Роль студента как самостоятельного организатора учебного процесса несомненно важна.<br />
Студент активно вовлечен в формирование своей образовательной траектории, учится предлагать нестандартные проблемы и их<br />
решения.<br />
Проверка теории на практике. Эксперименты. Теоретические выкладки, гипотезы необходимо проверять на практике.<br />
Изготовленный по эскизу и расчетам студентов шарикоподшипник вызывает положительные эмоции, дает ”толчок” к новым открытиям.<br />
Системное мышление. Данная компетенция считается слабым местом. Целостное восприятие систем: от технических,<br />
биологических, государственных до человека, это способность студентов видеть причинно - следственные связи событий, явлений,<br />
развитие творчества, абстрагируясь от шаблонов.<br />
Междисциплинарность. Только проблемно- ориентированное обучение может стереть грани между физикой и психологией,<br />
математикой и экономикой. Роль преподавателя заключается в том, чтобы увидеть логические связи с другими дисциплинами и<br />
37<br />
Pedagogical sciences<br />
Actual problems of modern pedagogics
Pedagogical sciences<br />
науками, помочь сориентироваться студенту.<br />
Таким образом, мы сделали вывод о том, что:<br />
1. Проблемно-ориентированное обучение должно быть организовано в малых группах с созданием комфортной<br />
творческой среды.<br />
2. Группы студентов, работающих над проектом, могут быть междисциплинарными. Основой для их формирования могут быть<br />
пожелания студентов, их компетенции, результаты психологического или профессионального тестирования.<br />
3. Образовательными инновациями являются переходы от преподавания к обучению и от содержания обучения к деятельности<br />
(study activities).<br />
4. Тематика проектов и заданий должна подбираться с учетом требований реальных Заказчиков. Решенные кейсы могут<br />
оформляться в виде портфолио студентов.<br />
5. Ресурсоэффективность данного метода обучения определяется участием Заказчика, мотивацией студента и профессионализмом<br />
преподавателей как одной команды.<br />
В заключение отметим, что проблемно-ориентированное обучение будет эффективным методом формирования уникальных<br />
компетенций выпускников образовательных программ только тогда, когда преподаватель даст студентам шанс быть самостоятельными<br />
с осознанием ответственности за принятое решение.<br />
Выражаю Благодарность моему научному руководителю, доктору педагогических наук, профессору Минину<br />
Михаилу Григорьевичу.<br />
Литература:<br />
1. K.V. Mertins. Higher liberal education prediction by way of educational technologies // European researcher. - 2012 - Т. 17, Вып. 2 -<br />
C. 204-2082.<br />
2. Качество – стратегия XXI века: материалы ХVI Международной научно-практической конференции. – Томск: Изд-во<br />
Томского политехнического университета, 2011. – 58-60 с.<br />
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ<br />
ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ»<br />
Морозова М.В., аспирант<br />
Российский университет дружбы народов, Россия<br />
Участник конференции<br />
В настоящее время стал актуален вопрос необходимости модернизации, формирования новой школы, соответствующей современному<br />
уровню научно-технического и социального развития, который требует от современного специалиста достаточно<br />
высокого уровня информационной культуры. Для решения этой проблемы разрабатывается электронный учебно-методический<br />
комплекс по дисциплине «Методы принятия управленческий решений», использование которого в обучении студентов направлено<br />
на повышение уровня информационной культуры.<br />
Ключевые слова: информационная культура личности, электронный учебно-методический комплекс, методы принятия управленческих<br />
решений, информатизация образовательных процессов.<br />
Nowadays we have need of modernization, formation of new school, which will be up to quality of current level of scientific, technological<br />
and social development, which requires rather high level of information culture from a modern specialist. The electronic educational and<br />
methodical complex for discipline "methods of management decision-making" is being developed for solving this problem, and the using it in<br />
educational activities is directed on increasing the level of information culture.<br />
Keywords: personal information culture, the electronic educational-methodical complex, methods of decision making, computerization of<br />
the educational process.<br />
Actual problems of modern pedagogics<br />
В XXI в. человечество столкнулось с ростом обмена знаниями, потребностью в реализации возможностей информационных и<br />
коммуникационных технологий для получения образования. Информационное общество в XXI в. заинтересовано в предоставлении<br />
выбора режимов учебной деятельности для обучающегося на основе междисциплинарного подхода.<br />
В концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 2008-2020 годы модернизация<br />
образования названа «необходимым условием формирования инновационной экономики» и «важнейшей предпосылкой динамичного<br />
экономического роста и социального развития общества, условием благополучия и безопасности страны». А также в ней<br />
сформулированы «стратегическая цель государственной политики в области образования – повышение доступности качественного<br />
образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики и современными требованиями общества» и<br />
приоритетные задачи такие как «расширение использования современных образовательных технологий, обеспечивающих<br />
расширение осваиваемых обучающимися компетентностей при сохранении сроков обучения», «расширение масштабов<br />
исследовательской и инновационной деятельности в вузах с развитием на их базе инновационной инфраструктуры» [1, с. 41-43].<br />
Изначально на образование была возложена важнейшая функция передачи информации от поколения к поколению, но на<br />
данном этапе развития общества встает вопрос не только передачи и усвоения большого объема информации, но и отыскания форм<br />
и способов быстрого получения необходимой для решения тех или иных вопросов информации. Это является частью информационной<br />
культуры личности. Определенный интерес представляют исследования, проводимые в течение ряда лет на факультете<br />
информационных технологий Кемеровского государственного университета культуры и искусств. В основу их исследований была<br />
положена следующая трактовка понятия «информационная культура личности».<br />
Информационная культура - одна из составляющих общей культуры человека; совокупность информационного мировоззрения<br />
и системы знаний и умений, обеспечивающих целенаправленную самостоятельную деятельность по оптимальному удовлетворению<br />
индивидуальных информационных потребностей с использованием как традиционных, так и информационно-коммуникационных<br />
технологий. Информационная культура является важнейшим фактором успешной профессиональной и непрофессиональной<br />
деятельности, а также социальной защищенности личности в информационном обществе.<br />
Для формирования информационной культуры личности в КемГУКИ был разработан учебный курс «Основы информационной<br />
культуры личности», создан комплекс учебных программ, рассчитанных на учащихся общеобразовательных учебных заведений,<br />
38
Pedagogical sciences<br />
учителей, студентов, аспирантов. В состав каждой программы были включены разделы: «Информационные ресурсы и информационная<br />
культура общества», «Основные типы информационно-поисковых задач и алгоритмы их решения», «Аналитико-синтетическая<br />
переработка источников информации», «Технологии подготовки и оформления результатов самостоятельной учебной или профессиональной<br />
деятельности потребителей информации». Но вопрос формирования информационной культуры в процессе обучения<br />
математики не затрагивался.<br />
Так как профессиональная деятельность выпускника по направлению «Государственное и муниципальное управление» связана<br />
с управлением, в частности, с вопросами принятия управленческих решений, когда в ограниченные сроки требуется: обработать<br />
большие объемы многоаспектной информации, поступающей из различных источников, разнородной по содержанию и по форме<br />
представления (текст, звук, графика и др.); провести многофакторный анализ всей оперативной информации, осуществить<br />
планирование действий и организовать их выполнение. Таким образом, информационные потребности руководителя можно без<br />
преувеличения назвать максимальными по сравнению с потребностями специалистов из других сфер деятельности. К тому же<br />
темпы усложнения информационных систем, необходимость использования средств ИКТ для оптимизации процесса принятия<br />
решения выдвигают повышенные требования к уровню владения ИКТ в своей профессиональной деятельности. Все это<br />
подразумевает высокий уровень информационной культуры, который в конечном итоге позволит выпускнику быстро адаптироваться<br />
к тем условиям, в которых ему придется начинать свою профессиональную деятельность.<br />
Стоит отметить, что повышение уровня информационной культуры происходит главным образом в процессе решения<br />
математических задач с использованием средств ИКТ на протяжении всего курса обучения. За счет этого у студента постепенно<br />
формируется способность применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности с видением<br />
их взаимосвязей и перспектив использования, адаптировать основные математические модели к конкретным задачам управления.<br />
Поскольку изучению дисциплины «Методы принятия управленческих решений» предшествует годовой курс высшей математики,<br />
то его направленность на данную дисциплину обеспечит повышение мотивации к овладению математикой как наукой, которая<br />
должна восприниматься студентом уже как средство профессионального совершенствования, что позволит привести в соответствие<br />
содержание математического образования целям обучения.<br />
Для решения всех этих задач с 2011 года кафедрой высшей математики факультета физико-математических и естественных<br />
наук РУДН разрабатывается электронный учебно-методический комплекс (ЭУМД) по дисциплине «Методы принятия управленческих<br />
решений». ЭУМК включает в себя комплекс разнообразных дидактических материалов и образовательных ресурсов (учебных,<br />
учебно-методических, вспомогательных информационно-справочных материалов, представленных в разных формах). Использование<br />
ЭУМК в учебном процессе является одним из основных средств повышения уровня информационной культуры студента.<br />
Все перечисленные меры в перспективе способствуют формированию положительной мотивации обучаемых, повышению<br />
качества обучения, развитию научного мировоззрения, расширению возможностей самостоятельной практико-ориентированной<br />
деятельности студента.<br />
Литература:<br />
1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации. Министерство экономического<br />
развития и торговли Российской Федерации. 2008. 165 с.<br />
(http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategicPlanning/concept/indexdocs)<br />
2. Розанова С.А. Математическая культура студентов технических университетов. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. 176 с.<br />
3. Гендина Н. И., Колкова Н. И., Стародубова Г. А., Уленко Ю. В. Формирование информационной культуры личности:<br />
Теоретическое обоснование и моделирование содержания учебной дисциплины. - М., Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества.<br />
2006. – 512 с.<br />
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ EURONEWS ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ<br />
Ольшванг О.Ю., канд. филол. наук, ст. преподаватель<br />
Уральская государственная медицинская академия, Россия<br />
Участник конференции<br />
В статье рассматриваются возможности использования портала Euronews на занятиях по иностранному языку со<br />
студентами языковых и неязыковых специальностей, способы работы с тем или иным материалом, а также роль аутентичных<br />
материалов в коммуникативно-ориентированном подходе.<br />
Ключевые слова: Euronews, аутентичные материалы, методика обучения переводу, коммуникативная компетенция<br />
This article is about opportunities of using Euronews at the lessons of foreign languages for students of linguistic and nonlinguistic<br />
faculties, methods of work with particular material and the role of authentic materials in the communicative-oriented approach.<br />
Keywords: Euronews, authentic materials, methods of teaching translation, communicative competence.<br />
В рамках коммуникативно-ориентированного подхода в преподавании иностранных языков особую роль играет<br />
использование аутентичных материалов, т.е. материалов, созданных для носителей языка носителями языка для<br />
неучебных целей. Такие материалы не только являются образцом современного иностранного языка, но и «создают<br />
иллюзию участия в повседневной жизни страны, что служит дополнительным стимулом для повышения мотивации<br />
учащихся» [1]. Особый интерес в связи с этим представляют аудиовизуальные материалы, в частности портал Euronews.<br />
Несомненное преимущество данного портала при использовании в образовательных целях состоит в том, что<br />
вещание ведется одновременно на 11 языках, таким образом, он может быть использован как преподавателями<br />
английского, так и французского, и немецкого языков. Материалы Euronews могут быть использованы как при<br />
обучении студентов неязыковых специальностей (в этом случае особый интерес будут представлять рубрики «Наука и<br />
технологии», «Бизнес» и др.), так и при обучении студентов-лингвистов, будущих переводчиков.<br />
При обучении иностранному языку для специальных целей (на неязыковых факультетах) можно использовать как<br />
аудиовизуальные, так и текстовые материалы Euronews. Продолжительность большинства видеосюжетов раздела<br />
«Наука и технологии» составляет 2-4 минуты, что является оптимальным для работы (при просмотре более длинных<br />
39<br />
Actual problems of modern pedagogics
Pedagogical sciences<br />
сюжетов студентам сложно сконцентрироваться на деталях, запомнить большой объем информации) [2]. Во многих<br />
видеосюжетах изображение информативно, что позволяет на начальном этапе работать с этим материалом без звука<br />
(студентам предлагается выдвинуть гипотезу о теме, содержании видеосюжета).<br />
При обучении переводу портал Euronews предоставляет возможность заниматься всеми видами перевода (письменно-письменный,<br />
письменно-устный, устно-устный, устно-письменный). При этом следует также отметить<br />
возможность работы с двухсторонним переводом (для этого можно использовать рубрику «Интервью», где представлены<br />
интервью с известными деятелями политики, культуры и других сфер жизни общества).<br />
Нередко у студентов возникают трудности при устном переводе видеосюжетов с иностранного языка на русский<br />
(особенно с этой проблемой преподаватель сталкивается на занятиях по практике перевода второго иностранного<br />
языка). В этом случае можно воспользоваться текстом видеосюжета. Работа с текстом предшествует презентации видеосюжета<br />
и его устному переводу: анализируются грамматические трудности, вводится новая лексика. На следующем<br />
этапе студентам предлагается последовательно перевести видеосюжет без опоры на текст.<br />
Материалы Euronews могут использоваться как в начале изучения темы (позволяет мотивировать студентов,<br />
привлечь их внимание к современному состоянию проблемы), так и для закрепления изученного материалы.<br />
Использование материалов портала Euronews позволяет существенно разнообразить занятия по иностранному языку,<br />
повысить мотивацию студентов, а также способствует формированию коммуникативной компетенции и познавательной<br />
активности студентов.<br />
Литература:<br />
1. Савинова Н.А., Михалева Л.В. Аутентичные материалы как составная часть формирования коммуникативной компетенции .<br />
- [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sun.tsu.ru/mminfo/000063105/294/image/294_116-119.pdf<br />
2. Ducroit J.-M., 2005, L’utilisation de la vidéo en classe de FLE. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.edufle.net/Lutilisation-de-la-video-en<br />
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОГО ЗДОРОВЬЯ<br />
И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ РЕШЕНИЯ<br />
Ратнер Ф.Л., д-р пед. наук, проф.<br />
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Россия<br />
Морозова Е.А., канд. мед. наук, доцент<br />
Казанская государственная медицинская академия, Россия<br />
Участники конференции<br />
Actual problems of modern pedagogics<br />
За последние годы процент детей, имеющих какие-либо проблемы со здоровьем, остается стабильно высоким. По данным Государственного<br />
комитета по статистике Республики Татарстан наибольшая доля детей (более 40%) с впервые выявленной<br />
инвалидностью отмечается в возрастной группе 0-4 года, большая доля их приходится на детей с социальными и психическими нарушениями<br />
развития. Только в Казани число детей с ограниченными возможностями составляет несколько тысяч человек, ежегодно<br />
более 7000 детей в возрасте до 3 лет, имеющих отклонения в двигательной, психической сферах и органов чувств, пополняют ряды<br />
инвалидов. Поэтому задачи предупреждения развития патологий, ранняя диагностика и своевременная коррекция, а также<br />
адаптация ребенка с ограниченными возможностями к окружающей среде требуют комплексного решения с учетом медицинских,<br />
психолого-педагогических и социальных аспектов и имеют важнейшее социальное значение. В рамках совместного договора о<br />
международном сотрудничестве, заключенного между Казанским государственным университетом, Казанской государственной<br />
медицинской академией и Мюнхенской международной академией реабилитации развития, уже в течение более чем десяти лет<br />
проводятся международные междисциплинарные учебные циклы -курсы по повышению квалификации врачей многих специальностей<br />
(например, детских неврологов, врачей - педиатров, психологов, воспитателей детских садов и учителей школ, логопедов,<br />
специалистов по лечебной педагогике и др., имеющие цель повышения качества жизни детей Татарстана, предупреждения<br />
развития инвалидности у детей с врожденными или приобретенными нарушениями, создания основ социализации ребенка и его<br />
полноценной интеграции в социум.<br />
Наряду с углубленным изучением медицинских разделов цикла слушатели получают знания по медико-психолого-педагогической<br />
абилитации детей с основами Монтессори-терапии. В русле гуманистической парадигмы в современной педагогической науки<br />
речь идет об уникальных возможностях данной педагогической системы как интегративной педагогики, когда возможно совместное<br />
обучение и воспитание детей разного возраста и разного уровня развития без нанесения ущерба психическому, интеллектуальному,<br />
физическому развитию каждого из детей. Принцип интеграции, заложенный в систему Монтессори-педагогики не только получил<br />
научное подтверждение, но и расширен и опробован в сфере интеграции детей с различными образовательными возможностями.<br />
Монтессори-педагогика как интерграционная педагогическая система позволяет создавать условия, необходимые для поддержки<br />
социального развития детей.<br />
Общность взгляде на необходимость ранней диагностики, ранней терапии и ранней коррекции нарушений детского развития<br />
позволяет нам успешно сотрудничать с Международной академией реабилитацией развития (г. Мюнхен, Германия), применяя на<br />
практике Концепцию социально-педиатрической и психолого-педагогической реабилитации развития, разработанную всемирно<br />
известным немецким профессором, почетным доктором многих университетов мира и медицинских академий Т. Хелльбрюгге.<br />
Преподаватели цикла с российской стороны получили возможность ознакомиться и убедиться в эффективности данной Концепции,<br />
изучить современные методы диагностики и коррекции различных отклонений в развитие ребенка, а также принимали участие в<br />
международных конференциях в Германии, Италии, Чехии, Польше, Украине, Белоруссии и др. странах.<br />
Проведенные нами в целях расширения научных контактах и обмена опыта совместные международные научно-практические<br />
семинары и конференции вызывали неизменно большой интерес у слушателей и участников, поскольку дали возможность<br />
познакомиться и применять хорошо зарекомендовавшие себя кинезиологическую диагностику В. Войты, основанную на реакциях<br />
положения тела, Бобат-терапию, мануальную терапию по Цукунфт-Хубер, орофациальную терапию по Кастилио-Моралис, миофасциальную<br />
терапию по Пфаффенрот, Монтессори-педагогику и др. методы исследования, диагностики и терапии.<br />
Особое значение имеет тот факт, что данная Концепция служит основой для соответствующей ранней терапии с помощью<br />
40
Pedagogical sciences<br />
родителей, так как именно родители играют главенствующую роль в понимании особенностей своих детей (чему мы учим их на<br />
наших консультациях и занятиях) для оказания им своевременной помощи. И именно отставания в социальном развитии<br />
обусловливают психологическое, педагогическое или психотерапевтическое вмешательство, прежде всего, в семье, а позднее в<br />
детском саду и школе. Здоровый ход социального развития (как ведущей задачи воспитания), имеющий решающее решение для<br />
полноценного становления личности, может быть достигнут лишь в условиях гетерогенных групп, напоминающих семейные<br />
отношения. Именно поэтому принципиальное звено концепции Т. Хелльбрюгге образует семейное воспитание. Т.Хелльбрюгге<br />
выступает с требованием предоставить ведущие педагогические позиции семье, родителям и матери. Он справедливо утверждает,<br />
что «нет лучшей основы для развития и воспитания ребенка, чем семья». Под здоровым климатом семьи понимается целый<br />
комплекс педагогических, психологических и физиологических условий для полноценного развития ребенка:<br />
- семья предполагает присутствие единственной постоянной материнской социально близкой персоны как необходимого<br />
условия (особенно в первые три годы жизни) для нормального развития ребенка;<br />
- семья предполагает наличие разнообразных интеракций между членами семьи разного возраста, что закладывает основу<br />
нормального социального и языкового развития и стимулирует процессы когнитивного развития.<br />
Мы полностью разделяем позицию Т. Хелльбрюгге о том, что только в раннем возрасте существует сензитивная способность к<br />
приспособлению, которая использует пластичность развивающегося организма ребенка, чтобы компенсировать или даже избежать<br />
нарушений. Концепция подразумевает также всеобъемлющую помощь всех специалистов различного профиля, которые объединяют<br />
свои усилия, составляя индивидуально для каждого ребенка программу, которая затем выполняется родителями дома.<br />
Мы работаем также в рамках международного Фонда «Солнечный свет», филиал которого существует у нас в Республике<br />
Татарстан и проводит работу по предотвращению инвалидизации детей.<br />
Международные междисциплинарные циклы -курсы заканчиваются выдачей сертификата международного образца.<br />
Проводимая нами в течение многих лет работа свидетельствует о том, что данная Концепция, адаптированная к нашим<br />
условиям, доказала свою эффективность на деле и способствует выполнению исходной задачи - через раннюю диагностику,<br />
раннюю терапию и раннюю социальную интеграцию уберечь как можно большее количество детей от пожизненной инвалидности.<br />
Литература:<br />
1. Монтессори в России. Новый взгляд: сб.мат. I Всеросс.конф. «Интеграция педагогики Монтессори с отечественным<br />
образовательным пространством ».- М., 2010.<br />
2. Ратнер Ф.Л., Юсупова А.Ю. Педагогика Марии Монтессори: история и современность. Идеи М.Монтессори в условиях интегрированного<br />
образования: учеб.пос.-Казань: Изд-во Казан.ун-та, 2011.-84с.<br />
3. Ратнер Ф.Л., Юсупова А.Ю. Т.Хелльбрюгге – ученый, врач, педагог и основы его интеграционной концепции.-Казань: Центр<br />
инновационных технологий, 2006.-44с.<br />
4. Ратнер Ф., Прусаков В., Зайкова Ф., Морозова Е, Уткузова М. Опыт применения мюнхенской программы реабилитации<br />
развития Т. Хелльбрюгге в детской клинической больнице № 8 / /Современные подходы к изучению, обучению и воспитанию детей<br />
с проблемами в развитии: Всеросс. науч.-практ. конф. Ч.1., Саранск: Изд-во Мордов. гос. пед. ин-та, 2004.- 248с.-С.210-212.<br />
5. Hellbrügge T., Döring G. Das Kind von Null bis Sechs: Ärztliche Ratschläge für Schwangerschaft und Geburt, über Pflege und<br />
Ernährung des Kindes sowie Hinweise zur Entwicklung bis zum Schulalter mit einer Übersicht der häufigsten Kinderkrankheiten. — 9. Aufl.<br />
— München, Landsberg am Lech: mvg-Verl., 1994. - S. 325.<br />
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ СТАТУС КОНЦЕПТА<br />
«ПРОДУКТИВНАЯ ИНОЯЗЫЧНАЯ ТЕКСТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» (ПРОДУКТИВНЫЙ ПОДХОД)<br />
Рубцова А.В., канд. пед. наук, доцент, докторант<br />
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Россия<br />
Участник конференции,<br />
Национального первенства по научной аналитике<br />
В статье определяется содержание понятия продуктивной иноязычной текстовой деятельности изучающего иностранный<br />
язык в ракурсе социально-философских аспектов теории текста и текстовой деятельности. Представленная в статье научнотеоретическая<br />
позиция является одним из основополагающих компонентов методологии продуктивного подхода в профессионально-ориентированном<br />
иноязычном образовании.<br />
Ключевые слова: текст, коммуникация, продуктивная иноязычная текстовая деятельность, продуктивный подход.<br />
Productive foreign languages textual activity conception is defined in the article. This issue is explored at the angle of the text and textual<br />
activity theory and its social and philosophical aspects. Conception under analysis is the principal component of the productive approach<br />
methodology in professional foreign languages education.<br />
Keywords: text, communication, productive foreign language textual activity, the productive approach.<br />
Разработка методологии продуктивного подхода в профессионально-ориентированном иноязычном образовании, в первую<br />
очередь, связана с выделением адекватного критерия определения уровня продуктивности коммуникативной деятельности<br />
обучающегося. Этот критерий соотносится нами с критерием развития продуктивной иноязычной образовательной деятельности,<br />
который проявляется не в «готовых знаниях», а в личностных новообразованиях изучающего иностранный язык, его речемыслительных<br />
способностях, выражаемых в конкретном «личностном текстовом продукте» (устный или письменный текст).<br />
Соответственно, следует более детально остановится на рассмотрении понятия «текст» как социокультурного феномена,<br />
который является одним из ключевых в гуманитарной культуре ХХ-ХIвв.<br />
Как известно, существуют различные научные подходы к трактовке и пониманию «текста» с точки зрения семиотики,<br />
структурной лингвистики, филологии, философии текста, культурологии, филологической и философской герменевтики. В<br />
Новейшее время на развитие теории текста существенное влияние оказали открытие исторического сознания (Гердер, Гаман) и<br />
трансцендентальный поворот И. Канта. Эти две позиции стали основными для теории текста в герменевтике Ф. Шлейермахера,<br />
ведущие положения которой были созвучны с концепцией Гумбольдта о том, что подразумеваемый смысл не имеет в тексте<br />
постоянного места.<br />
41<br />
Actual problems of modern pedagogics
Pedagogical sciences<br />
Actual problems of modern pedagogics<br />
Эта концепция «текста» и его понимания оставалась ведущей до середины ХХ в. и нашла отражение в работах В.<br />
Дильтея, Ф. де Соссюра, Г.-Г. Гадамера и Ж.П. Сартра. При этом важно отметить, что герменевтическое понимание<br />
текста всегда ориентировано, в первую очередь, на духовную (идейную) сторону текста, а говоря языком семиотики –<br />
– на уровень его сигнификатов.<br />
Исходя из феноменологической концепции Э. Гуссерля (согласно которой предмет, содержание и акт сознания входят в беспредпосылочное<br />
знание дорефлексивного cogito) структуры понимания допсихологизируются и анализируются в качестве<br />
онтологической фактичности человеческого существования (М. Хайдеггер), а письменный текст выступает уже в качестве герменевтического<br />
объекта. При этом опровержению подвергается тезис о единственном, подлинном значении текста, а также<br />
репродуктивно ориентированной методике его интерпретации. Отсюда, текст понимается как бесконечно полисемичное образование,<br />
область продуктивного прочтения, открытого для новых смыслов и, даже, порождающего их.<br />
Существенный вклад в развитие теории знаковых структур был внесен онтологической герменевтикой, которая понимала текст<br />
как имманентное явление, не подвластное историко-генетическому объяснению. Например, герменевтика сегодня старается не<br />
столько понять текст, сколько дать ему онтологическое толкование. Так, например, произносимое слово (имя) самым тесным<br />
образом связано, в первую очередь, с личностью, а уже зафиксированное, написанное слово отчуждено от нее.<br />
Согласно одному из подходов философской герменевтики, текст образует опосредование между имеющим временную форму<br />
пережитым и повествовательным актом, то есть являет собой расширение первичного единства актуального значения –– фразы или<br />
момента дискурса. Одновременно он включает в себя принцип трансфразной организации, используемый во всех формах повествовательного<br />
акта. При этом мир текста вступает в процесс коммуникации с реальностью, реальным миром, для того, чтобы<br />
«переделать» его, либо его подвергнуть отрицанию, либо утвердить.<br />
Определение «текста» как некоторой совокупности дискурсов находится в «ключе» современного метафизического подхода,<br />
согласно которому предполагается не скольжение смысла, а его проявление на уровне дискурса и текста, что, как раз и способствует<br />
проясненному пониманию и объяснению.<br />
Отметим, что в философской литературе проблема текста начала обсуждаться в ХХ в., что было детерминировано повышением<br />
интереса к изучению проблем языка, его роли в познании и формировании окружающей действительности, реальности. Так, в<br />
качестве предпосылок для разработки социально-философской теории текста, выступили исследования представителей аналитической<br />
философии –– Л. Витгенштейн, Д. Мур, Б. Рассел, которые развили теорию знаков и символов, осветив их роль в рациональном<br />
познании. Собственно текст рассматривался этими учеными как статичное явление, которое не обладает потенциалом для<br />
формирования нового смысла.<br />
Разработка теории текста в социально-философском аспекте велась и представителями русской религиозной мысли, отличительной<br />
чертой которой стало стремление к целостному и всестороннему видению и рассмотрению конкретного предмета (Н.А. Бердяев,<br />
Л.П. Карсавин, А.Ф. Лосев, В.С. Соловьев).<br />
Вследствие этого в понимании социальной философии «текст» есть конкретный объем дискретной информации, которая<br />
выражается при помощи искусственного или естественного языка. Выступая в качестве смыслового единства, предназначенного<br />
для решения коммуникативной задачи, поставленной определенными условиями социального бытия, текст приобретает функцию<br />
регулирования социальных отношений, организует коллективную деятельность человечества.<br />
Проблема текста являлась и продолжает являться одной из важнейших тем исследований и в области психологии (З. Фрейд, К.<br />
Юнг и др.). Многочисленные разработки оказывали и оказывают существенное влияние на понимание процессов создания и<br />
восприятия текста, объясняют причину различного влияния текста на конкретного представителя социокультурного пространства.<br />
«Текст» как философская категория есть сложное образование, находящееся на ином, нежели дискурс и собственно<br />
произведение, уровне. Согласно современному семиотическому пониманию, тексто-«ткань» культуры в целом, сплетена из<br />
разнообразных дискурсов (кодов). В свете культурологических, семиотических и информациологических оснований «текст»<br />
логично понимать как речевое, или знаковое, или информационно-семиотическое образование. При этом каждое художественное<br />
произведение есть текст, рассматриваемый в его социальных связях с окружающей исторической реальностью, историей его<br />
создания, автором, реципиентом и т. д.<br />
Как фундаментальное понятие современной лингвистики и семиотики текст обладает рядом функций: коммуникативной,<br />
смыслообразующей (он – генератор смыслов), восстановление памяти («свернутая мнемоническая программа»), творческой/инновативной/креативной,<br />
семиотической, информационной. Поэтому в современном семиотическом понимании текст, уходя от своего<br />
статичного, пассивного состояния как носителя определенного смысла, становится ярким, динамическим, внутренне противоречивым<br />
феноменом, одним из фундаментальных понятий современной семиотики. Отсюда ясно, что все, в том числе и реальность, есть<br />
Текст, Информация, существующая независимо от нас и созданная Высшим Разумом. Текст, согласно современным представлениям<br />
философского, культурологического, семиотического, информациологического и иных знаний, есть информационно-энергетическая<br />
субстанция, семиотически оформленная и облеченная в различные материальные формы, например, различные произведения художественной<br />
культуры, в том числе искусства.<br />
Философское осмысление понятия «текст» имеет ряд альтернатив. Например, связь языка и текста с человеческой<br />
реальностью рассматривается экзистенциализмом, рациональные моменты –– аналитической философией, поле языка<br />
как основание культуры –– герменевтикой.<br />
В современной семиологии текст, как мы считаем, справедливо признается своеобразной семантической системой,<br />
которая должна вносить в мир осмысленность, а не какой-то конкретный смысл, значение. Здесь происходит в<br />
определенной степени разделение понятий «текст» и «произведение», когда первый термин не ограничивается<br />
рамками второго. Благодаря пространственной многолинейности текста возникает множественность смыслов. Текст<br />
есть ткань, сеть культуры, в качестве узелков которой выступают дискурсы. Текст, существующий между текстами,<br />
сквозь произведения, являет собой «интертекст».<br />
«Текст» сегодня трактуется и как деятельность, мотивированное (интонированное) бытие, вмещаемое слово, явление культуры,<br />
когда и сама культура может представляться текстом. В виде текста может выступать и собственно личность, поскольку ее действия<br />
и поведения также текстуальны. Так, в структурно-семиотической парадигме все –– социум, история, человек, природа, бытие ––<br />
являет собой тексты. При этом для того, чтобы понять какое-либо явление, необходимо выявить его скрытый схематизм, представить<br />
как текст. И наоборот, чтобы создать нечто, необходимо предложить схему, которая описывается в непротиворечивом тексте.<br />
Текст можно считать метафорой социального пространства, или социосферы, которое организовано также по<br />
языковому принципу, а собственно текст, как весь мир, принимает активнейшее участие в этом процессе и процессе<br />
трансформации этого пространства. В онтологическом понимании текст есть со-бытие или событийный континуум<br />
культуры.<br />
Согласно сложившимся в последние десятилетия постулатам информациологии, мы живем, прежде всего, в мире<br />
информации, в инфосфере, облекающей и пронизывающей все и вся. Информация может выступать в различных<br />
42
видах и формах, т. е. быть зафиксированной и незафиксированной на каком-либо носителе, каким-либо способом, материалом<br />
и инструментом. Естественно, что не вся информация может и должна быть зафиксирована –– это касается<br />
только достойной, важной информации, или сообщения, или знания. Одновременно с фиксацией информация<br />
приобретает социокультурную значимость и превращается в собственно текст, текст произведения.<br />
Только в семантическом поле языка/языков осуществляется накопление, формирование информации, или сообщения<br />
в текст, а позже, посредством методов различных наук, дешифровка или собственно раскодирование представленной<br />
информации, находящейся, или отраженной в глубинных структурах культуры и человеческого сознания.<br />
Наиболее полное рассмотрение структуры текста как целостной системы позволяет нам, в свою очередь,<br />
осуществить структурно-функциональный анализ текста. Исходя из основных функций текста (коммуникативная,<br />
смыслообразующая, творческая, или инновативная/креативная, семиотическая, информационная) можно определить<br />
их влияние и на представления о структуре текста.<br />
При коммуникативной функции текст гомоструктурен и гомогенен; при смыслообразующей –– гетерогенен и гетероструктурен<br />
(текст есть одновременная манифестация нескольких языков, когда в качестве механизмов смыслообразования<br />
выступают сложные диалогические и игровые отношения между различными подструктурами текста). Творческая,<br />
или инновативная/креативная, а также семиотическая и информационная функции текста напрямую связаны с<br />
проблемами памяти художественной культуры. Здесь тексты представляют собой свернутые мнемонические программы,<br />
по которым можно реконструировать культурные пласты. При этом тексты превращаются в своего рода символы<br />
культуры. Здесь уже конкретный символ, хранящий память, информацию функционирует как текст, перемещающийся<br />
в хронологическом пространстве культуры и всякий раз коррелирующий с ее синхронными срезами (Ю.М. Лотман).<br />
Инновативный процесс создания художественного произведения являет собой новый этап в усложнении структуры текста.<br />
Вступая в сложные отношения с социокультурным контекстом, реципиентами, семиотически неоднородный и полислойный текст<br />
уже не есть просто элементарное сообщение, направленное от автора к реципиенту. Он приобретает память и аккумулирует в себе<br />
информацию. Эта стадия структурного усложнения текста характеризует его как интеллектуальное устройство, передающее<br />
содержащуюся в нем информацию, трансформирует сообщения и создает новые.<br />
Все это усложняет и социально-коммуникативную функцию текста, которая включает в себя пять процессов: 1) «общение<br />
между адресантом и адресатом» –– функция сообщения от носителя информации к аудитории; 2) «общение между аудиторией и<br />
культурной традицией» –– функция коллективной культурной памяти; 3) «общение читателя с самим собою», когда посредством<br />
текста произведения как медиатора происходит актуализация конкретных сторон личности адресата; 4) «общение читателя с<br />
текстом» –– «беседа с книгой» выступает для потребителя информации одним из важнейших и существеннейших актов<br />
интеллектуального взаимодействия; 5) «общение между текстом и культурным контекстом», когда текст уже полноправный<br />
участник, субъект-источник или получатель информации [1, с.88].<br />
Заметим, сторонники структурализма справедливо утверждают, что любой продукт, или текст произведения<br />
культуры, опосредован разумом. В структурализме одним из общих теоретико-методологических положений является<br />
представление о культуре как некоторой совокупности знаковых систем, важнейшей из которых является язык как<br />
формообразующий принцип. Здесь же рассматриваются культурные тексты и культурное творчество, культурная<br />
инноватика как символотворчество. Отсюда ясна ориентация этого направления на семиотику, изучающую внутреннее<br />
строение знака и механизмы означения в противоположность англо-саксонской семиологии, которая исследует только<br />
проблемы референции и классификации знаков.<br />
Специфика структурализма состоит в том, чтобы, стремясь сознательно манипулировать знаками, образами,<br />
символами, словами, выделить неосознаваемые глубинные структуры, скрытые механизмы знаковых систем.<br />
Не меньший интерес представляет собой концепция структурной антропологии К. Леви-Строса, где текст есть не<br />
cтолько фиксированные в письменной форме понятные конструкции, сколько способ, каким явления действительности<br />
даны человеку, включая чувственный уровень восприятия. Отвергая какой-либо философский дуализм, философ<br />
говорит о закодированности в виде бинарных оппозиций (текстуальности) как самых «непосредственных» ощущений,<br />
так и ментально обработанной информации [2]. Исходя из этого, можно утверждать, что текст существует в виде<br />
некой задачи как искомая совокупность культурных кодов, согласно которым происходит организация знакового многообразия<br />
культуры.<br />
В целом, текст представляет собой своеобразный носитель социально-значимой информации. В качестве источника<br />
последней могут выступать различного рода сигналы, объекты окружающей действительности, реальности, имеющие<br />
знаковый/семиотический характер и участвующие в процессе социокультурной динамики, а также разные сообщения<br />
из внешней среды, воспринимаемые в виде определенного кода. Таким образом оказывается, что текст везде, и весь<br />
опыт человечества и цивилизаций зафиксирован различными культурными кодами и топосами.<br />
Основываясь на вышеизложенном, содержание понятия «продуктивная иноязычная текстовая деятельность» мы<br />
рассматриваем через призму концепта «культуротекст», который в целом определяется как основной элемент<br />
существующей коммуникативной системы, функционирующей в социокультурном пространстве. «Текст» мы понимаем<br />
как единицу знакового общения, которая является сложной, организованной содержательно-смысловой целостностью<br />
и может быть определена как система коммуникативно-познавательных элементов, функционально-объединённых в<br />
единую замкнутую содержательно-смысловую структуру. При этом текстовая деятельность определяется как самостоятельный<br />
вид деятельности с внутренними мотивами и целями коммуникативно-познавательного, эмоционального<br />
и ценностного свойства с завершённой психологической структурой. Ведь общение текстами – это не просто обмен<br />
речью, но также и обмен коммуникативными намерениями, ценностными позициями и смысловыми установками.<br />
Таким образом, понимание текста как единицы знакового общения позволило обозначить социально-философский статус<br />
продуктивной иноязычной текстовой деятельности как процесса порождения и интерпретации иноязычных текстов, образованных<br />
в ходе созидания личностных иноязычных речевых продуктов, который включает в себя обмен коммуникативными интенциями,<br />
знаниями, представлениями, мыслями, идеями, образами, впечатлениями, ценностями, идеалами и т.д. и способствует реализации<br />
личностного потенциала индивида в условиях профессионально-ориентированного иноязычного образования.<br />
Литература:<br />
1. Лотман Ю.М. История и типология русской культуры: Семиотика и типология культуры. Текст как семиотическая проблема.<br />
Семиотика бытового поведения. История литературы и культуры / Ю.М. Лотман. – СПб.: Искусство-СПБ, 2002. – с. 82.<br />
2. Леви-Строс К. Структурная антропология. – М.: Прогресс, 1984.- 460с.<br />
3. А.В. Рубцова К вопросу о «продуктивной текстовой деятельности» на иностранном языке в свете продуктивного подхода //<br />
Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. – 2012- № 1. - С. 56-64.<br />
43<br />
Pedagogical sciences<br />
Actual problems of modern pedagogics
Pedagogical sciences<br />
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ<br />
С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ<br />
Сигал Н.Г., соискатель<br />
Казанский (Приволжский) Федеральный университет, Россия<br />
Участник конференции<br />
Данная статья посвящена теоретическим аспектам инклюзивного образования детей с особыми образовательными<br />
потребностями. В статье дается определение инклюзивного образования, рассматриваются цели и задачи, а также проводится<br />
краткий экскурс в историю возникновения идей инклюзивного образования и анализируется зарубежный опыт и перспективы<br />
развития инклюзивного образования в России.<br />
This article is devoted to the theoretical aspects of inclusive education children with special education needs. It provides a definition and<br />
purpose of inclusive education, a short overview of this educational method development. Also the author analysis the important tasks of<br />
inclusive education in Russia and abroad.<br />
Actual problems of modern pedagogics<br />
Термины “инклюзия”, “инклюзивное образование” вошли в мировую педагогическую науку и практику сравнительно недавно.<br />
Проблемы, связанные с инклюзивным образованием детей с особыми образовательными потребностями, в последние десятилетия<br />
активно обсуждают не только ведущие ученые, педагоги, психологи, представители медицины, но и родители детей с ограниченными<br />
возможностями здоровья, которые стремятся обучать и воспитывать своих детей в общеобразовательных учреждениях с целью<br />
обеспечить им возможность стать полноценными и полноправными членами общества.<br />
Правовой основой инклюзивного образования являются следующие законодательные акты:<br />
• Всеобщая декларация прав человека, принятая в 1948 году Организацией Объединенных Наций, призванная обеспечить<br />
возможность получения каждым ребенком образования;<br />
• Конвенция Организации Объединенных Наций о правах ребенка (1989г.), поставившая запрет дискриминации детей и провозгласившая<br />
право доступа детей с инвалидностью к услугам в области образования;<br />
• Джонтьенская декларация (1990г.), стратегической целью которой была определена как обеспечение доступности<br />
образования для всех;<br />
• Саламанская декларация (1994г.) провозгласила принцип инклюзивного образования;<br />
• Конвенция Организации Объединенных Наций о правах инвалидов (2005г.), закрепила права инвалидов и<br />
включила проблемы инвалидности в общие вопросы развития.<br />
Следует отметить, что в ранних инициативах, направленных на образование для всех, удовлетворение специальных<br />
потребностей рассматривалось в целом как символичный принцип. И только со временем, в последующих за принятиемДжомтьенской<br />
декларации инициативах, концепция инклюзивного образования была признана мировым<br />
сообществом, а инклюзивный подход становится основополагающим принципом обеспечения образования для всех.<br />
Инклюзия как одна из последних стратегий специального образования означает полное вовлечение ребенка с<br />
особыми образовательными потребностями в жизнь школы, что предполагает изменение организации пространства<br />
класса, учебного процесса с целью полного вовлечения необычного ребенка в жизнь класса. В идеале инклюзивный<br />
класс должен объединять несколько групп детей с особыми образовательными потребностями, чтобы дети имели возможность<br />
общаться друг с другом [2].<br />
Инклюзивное обучение предполагает создание условий, направленных на обеспечение успешной социализации детей с<br />
особыми потребностями здоровья в современном мире. Однако, проблема создания условий для детей с особыми образовательными<br />
потребностями в общеобразовательных учреждениях часто приводит к тому, что термин “инклюзия” отождествляется с понятием<br />
“интеграция”, что в целом приводит к неэффективности внедрения инклюзивного образования в практику массовых школ.<br />
Так, в 1962 году в США M.C. Reynolds публикует программу специального образования для детей с ограниченными<br />
возможностями здоровья в общем образовательном потоке, в основу которой положен принцип: “специфики не более,<br />
чем необходимо”. Модель «Каскад», предложенная в 1970 году американцем E.N. Deno, представляет собой поддерживающих<br />
социально-педагогических мер, направленных на предоставлении минимальной возможности детям с<br />
ограниченными возможностями здоровья выходить из общей группы учащихся [6]. С 1975 годаСШАпринятиемзакона<br />
94-142 “The Education for all Handicapped Children Act”. Однако, введение интеграционных образовательных инноваций<br />
в практику массовой школы США обусловило возникновение целого ряда проблем, связанных, в первую очередь, с<br />
неготовностью преподавателей общеобразовательных школ обеспечить необходимые адекватные условия как для образования<br />
детей с особыми потребностями, так и их общения со сверстниками. По результатам исследований,<br />
проведенных в то время, учителя не были готовы к новому виду профессиональной деятельности и к новой<br />
ответственности, возложенной на них. Существенной трудностью было то, что процесс интеграции, направленный на<br />
создание специальных условий для детей с особыми образовательными потребностями, проходилв рамках сложившейся<br />
системы образования и учебно-воспитательного процесса. Подобные попытки решения вопроса интеграции детей с<br />
особыми образовательными потребностями в массовые школы путем их простого перевода из специальных школ в<br />
целом оказались неэффективными и в ряде европейских стран во второй половине XX века.<br />
Всемирная конференция по образованию лиц с особыми потребностями, прошедшая в 1994 году в Испании (г.Саламанка)<br />
стала ярким событием для мирового педагогического сообщества. В педагогику был введен термин<br />
“инклюзия” и провозглашен принцип инклюзивного образования. Саламанская декларация о принципах, политике и<br />
практической деятельности в сфере образования лиц с особыми потребностями является одним из основополагающих<br />
международных документов. Ценность данного документа заключается в том, что в нем содержатся принципы<br />
предложения и продвижения законодательных инициатив в сфере инклюзивного образования:<br />
• каждый ребенок имеет основное право на образование и должен иметь возможность получать и поддерживать<br />
приемлемый уровень знаний;<br />
• каждый ребенок имеет уникальные особенности, интересы, способности и учебные потребности;<br />
• необходимо разрабатывать системы образования и выполнять образовательные программы так, чтобы принимать<br />
во внимание широкое разнообразие этих особенностей и потребностей;<br />
• лица, имеющие особые потребности в области образования, должны иметь доступ к обучению в обычных<br />
школах;<br />
• обычные школы должны создать им условия на основе педагогических методов, ориентированных, прежде всего,<br />
44
на детей с целью удовлетворения этих потребностей;<br />
• обычные школы с такой инклюзивной ориентацией являются наиболее эффективным средством борьбы с дискриминационными<br />
воззрениями, создания благоприятной атмосферы в общинах, построения инклюзивного общества<br />
и обеспечения образования для всех; более того, они обеспечивают реальное образование для большинства детей и<br />
повышают эффективность и, в конечном счете, рентабельность системы образования [5].<br />
Дакарская рамочная концепция действий (DakarFrameworkforAction) и последующие за ней цели развития<br />
тысячелетия в образовании (MillenniumDevelopmentGoalsonEducation) предлагают наиболее полный и современный<br />
подход, призванный обеспечить образование для всех к 2015 году. Фундаментальными основами концепции<br />
инклюзивного образования является признание исключительной ценности и уникальности каждой личности, независимо<br />
от ее физического состояния, и направленность на создание специальных условий для детей с особыми образовательными<br />
потребности, обеспечивающих их успешную социализацию.Мысль, сформулированная на заре просвещения в 1690<br />
году английским философом Джоном Локком о том, что в условиях развивающегося государства девять из десяти<br />
человек обязаны своей подготовленностью к жизни в обществе обучению и воспитанию, является актуальной и для<br />
современной системы образования [1]. Данная мысль послужила предпосылкой для разработки последующих педагогических<br />
исследований в области массового образования: И.Гербардта, А.Дистерверга, Д.Дьюи, Г.Кершенштейнера,<br />
Я.Коменского, В.Лая, И.Песталоцци, Ж.Руссо, К.Ушинского и др. Периоды детства и юности представляют собой<br />
время интенсивного усвоения базовых ценностных ориентаций, социальных норм и отношений, мотивации социального<br />
поведения, на основе которых формируются социально значимые качества личности. Однако, у детей с ограниченными<br />
возможностями здоровья существуют большие проблемы общения не только со сверстниками, но и со взрослыми<br />
людьми, не похожими на них, что является одним из серьезных барьеров для их полноценной интеграции в<br />
общество.Следовательно, решение проблемы создания комфортных условий для успешной социализации детей с<br />
особыми образовательными потребностямипредполагает интеграцию инклюзивного образования путемреструктуризации<br />
общеобразовательных школ в соответствии с потребностями учеников, предусматривающую научное и методическое<br />
подкрепление, соответствующее кадровое, техническое и информационное обеспечение учебно-воспитательного<br />
процесса, направленных на прогнозирование, корректирование и снятие определенных барьеров.<br />
В процессе планирования инклюзивного образования необходимо не только определить его общую концепцию, но<br />
также составить соответствующий конкретный план действий, а именно:<br />
- инклюзивное образование должно быть подкреплено системой ценностей, убеждений, принципов и индикаторов успеха. Эта<br />
система должна формироваться, развиваться и усовершенствоваться в процессе реализации инклюзивного образования. Однако,<br />
при наличии у людей, участвующих в процессе инклюзивного образования, абсолютно разные ценности или система ценностей<br />
четко не определена, не осознана, то вся система инклюзивного образования может разрушиться.<br />
- инклюзивное образование не является разовым проектом. Необходимо учитывать тот факт, что в процессе инклюзивного<br />
образования следует учитывать специфику той культурной среды, в которой реализуется данный процесс,<br />
передовой опыт других стран, ведущих работу в данном направлении, не допуская простого калькирования путей и<br />
способов решений поставленных задач без учета региональных ресурсов и имеющегося собственного опыта.Данную<br />
точку зрения разделяет директор Института коррекционной педагогики Российской академии образования Н.Н.<br />
Малофеев. По его мнению, инклюзивное образование следует рассматривать как процесс совместного воспитания и<br />
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и нормально развивающихся сверстников. В ходе такого образования<br />
дети с ограниченными возможностями здоровья смогут достигать наиболее полного прогресса в социальном<br />
развитии. [3]. Однако, несмотря на некоторый благоприятный фон для зарождения интеграционных процессов в<br />
зарубежном образовании, в России становление инклюзивного образования происходит в условиях,принципиально<br />
отличающихся отзападноевропейских.Это не только особые экономические, социокультурные условия, это существующий<br />
отечественный опыт внедрения комплексных программ ранней коррекции нарушенных функций, позволяющей<br />
вывести ребенка с проблемами на такой уровень психофизического развития, который дает ему возможность<br />
максимально рано влиться в общеобразовательную среду [4]. Данные научные изыскания не имеют западных аналогов,<br />
что является, несомненно, ценным.<br />
− успех и эффективность процесса инклюзивного образования всецело зависит от его динамичности и гибкости:<br />
необходим постоянный мониторинг с привлечением всех участников к критическому анализу и оценке действий, а также<br />
способность своевременно реагировать на постоянные изменения, даже те, которые невозможно спрогнозировать.<br />
Данные компоненты являются взаимосвязанными и взаимообусловленными, комплексный учет их в процессе планирования<br />
призван способствовать адаптации и развитию инклюзивного образования в местной культурной среде и<br />
существующих условиях [7].<br />
Итак, инклюзивное образование -это гибкая и многофункциональная система, направленная на детей и признающая<br />
уникальность и ценность каждого индивидуума с различными образовательными потребностями. Инклюзивное<br />
образование – это особая философия, результат развития идей гуманизма. Инклюзивное образование призванно<br />
обеспечить не только возможность успешной социализации детей оособымиобразовательными потребностями как<br />
полноценных членов общества, но и воспитать толерантное отношение социума к лицам с ограниченными возможностями<br />
здоровья, обеспечить их гармоничное взаимодействие и заботу друг о друге, как членов общества.<br />
Литература:<br />
1. Башарин В.Ф. Образование на пороге XXI века //Профессиональное образование, 1’2000 – Казань: ИСПО РАО.<br />
- 2000. – С.20-28<br />
2. БелкинЛ. Статья // NewYorkTimes. 2004.12.09.<br />
3. Малофеев Н.Н. Инклюзивное образование в контексте современной социальной политики/Н.Н. Малофеев//Воспитание и<br />
обучение детей с нарушениями развития. – 2010. - №1. – С. 3-10<br />
4. Малофеев Н.Н., Шматко Н.Д.Отечественные модели интегрированного обучения детей с отклонениями в развитии и<br />
опасность механического переноса западных моделей интеграци //Актуальные проблемы интегрированного обучения //Материалы<br />
Международной научно-практической конференции по проблемам интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями<br />
здоровья (с особыми образовательными потребностями). – М.: Права человека. - 2001.<br />
5. Саламанская декларация и рамки действий по образованию лиц с особыми потребностями//Всемирная конференция по<br />
образованию лиц с особыми потребностями: доступ и качество. – Саламанка, Испания, 7-10 июня 1994 г.<br />
6. DenoE.N. SpezialEducationasDevelopmentalCapital //ExceptionalChildren, 1970, № 37, 229-237<br />
7. Sue Stubbs Inclusive Education Where There are few resources.-М., 2002.<br />
45<br />
Pedagogical sciences<br />
Actual problems of modern pedagogics
Pedagogical sciences<br />
СОЗДАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА – ДВИЖУЩАЯ СИЛА РАЗВИТИЯ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТА<br />
Фоминых В.Н., преподаватель<br />
Смирнова Т.П., преподаватель<br />
Гонтова Н.Г., преподаватель<br />
Байкальский базовый медицинский колледж Министерства здравоохранения Республики Бурятия, Россия<br />
Участники конференции,<br />
Национального первенства по научной аналитике<br />
Коллектив — основное средство воспитания студентов. Именно в коллективе реализуются планы работы<br />
куратора, проходит жизнь и деятельность студентов, проявляются и развиваются качества личности. Поэтому<br />
формирование и развитие коллектива, его управление и самоуправление становятся в центре воспитательной<br />
работы в группе. Коллектив формируется в совместной деятельности студентов группы. Участвуя в самоуправлении,<br />
студенты самостоятельно решают задачи своего коллектива, организуют и активизируют деятельность,<br />
направленную на решение коллективных задач, формируют межличностные отношения, общественное мнение,<br />
определяют права и обязанности внутри коллектива, осуществляют контроль и оценку деятельности и поведения<br />
своих товарищей.<br />
Ключевые слова: коллектив, самоуправление, студент, активность, куратор, воспитание.<br />
Actual problems of modern pedagogics<br />
Модернизация среднего профессионального образования в стране требует повысить эффективность и качество<br />
воспитательной работы в средних профессиональных учебных заведениях, развивать самостоятельную управленческую<br />
деятельность студентов под педагогическим руководством. В связи с этим значительно возрастает роль кураторов<br />
групп.<br />
Главные задачи куратора: организовать воспитательную работу в группе на основе самоуправления в коллективе,<br />
развивать социальную активность студентов, ответственность, вырабатывать у студентов умения анализировать<br />
ситуации в коллективе, ставить задачи коллективной деятельности, планировать работу коллектива, осуществлять<br />
контроль и оценку ее результатов, формировать здоровые межличностные отношения, нравственный и психологический<br />
климат коллектива.<br />
Программа развития воспитания в системе среднего профессионального образования, выделяет воспитание как<br />
важнейшую стратегическую задачу и определяет роль среднего образовательного учреждения как центрального звена<br />
этой системы, фундаментальной социокультурной базы воспитания и развития студентов.<br />
В числе первоочередных задач выдвигается формирование воспитательной системы, которая включала бы в себя<br />
целостный учебно-воспитательный процесс, интегрирующий воспитание и обучение.<br />
Воспитательная система учебного заведения, включающая в себя учебный процесс, внеучебную жизнь студентов,<br />
их деятельность и общение за пределами образовательного учреждения, призвана обеспечить возможно более полное<br />
и всестороннее развитие личности студента, формирование его самостоятельности и гражданского становление.<br />
Воспитание, будучи тесно связанным с обучением, имеет свои особенности. Понятие «воспитание» охватывает<br />
весь процесс подготовки студентов к жизни, включая образование и обучение.<br />
Обучение и воспитание органически взаимосвязаны. Одно является базой для другого. Как сказал Гораций, если<br />
сосуд недостаточно чист, скиснет все, что бы ты в него ни налил. Лучшим преподавателем является лучший воспитатель.<br />
Обучение и воспитание определяются в педагогике как закономерные, необходимые для общественной жизни<br />
явления. Они существуют не благодаря желаниям отдельных людей, а потому, что необходимы для общества, ибо без<br />
обучения и воспитания общество развиваться не может.<br />
Развитие существующей системы учебно-воспитательного процесса как совокупного целого состоит в том, чтобы<br />
подчинить общим целям все элементы этого процесса или создать недостающие.<br />
С первых дней знакомства с группой проводим работу по созданию студенческого коллектива. Коллектив —<br />
основное средство воспитания студентов. Именно в коллективе реализуются планы работы куратора, проходит жизнь<br />
и деятельность студентов, проявляются и развиваются качества личности. Поэтому формирование и развитие<br />
коллектива, его управление и самоуправление ставятся в центре воспитательной работы в группе. Коллектив<br />
формируется в совместной деятельности студентов группы. На основе этой деятельности складываются нравственные<br />
отношения: сотрудничество, взаимопомощь, требовательность, доброжелательность, принципиальность, искренность,<br />
ответственность и дисциплина.<br />
Учение о коллективе, актуальное и для современного воспитания, поскольку студент получает образование в<br />
коллективе, отражает утвердившееся в педагогике положение о развитии личности не только в процессе воспитания,<br />
но и во взаимоотношениях с окружающей средой. Активность студента в коллективе становится движущей силой его<br />
развития. В процессе коллективной деятельности у студента возникают соответствующие эмоции, переживания,<br />
чувства, настроения. Благодаря этому создается ситуация, в которой общение становится источником непосредственного<br />
социально-психологического взаимодействия, ибо его механизм — это внушение, подражание, влияние, идущее от<br />
личности к личности.<br />
Воспитание коллектива невозможно без сотрудничества его членов, развития мотивов и характера сотрудничества.<br />
Одним из условий сотрудничества является общественный характер совместной деятельности, общая заинтересованность<br />
в результатах для всех студентов.<br />
Жизнедеятельность коллектива зависит от организации, управления им, распределения обязанностей среди<br />
студентов, организации контроля за их выполнением, стимулирования инициативы студентов, создания условий для<br />
удовлетворения их интересов.<br />
Контролируем, чтобы выборные органы коллектива работали постоянно, активно и уверенно, ибо нерегулярность<br />
их работы, пассивность создает у студентов ощущение неуверенности, беспомощности или даже отрицательного<br />
отношения к отдельным членам актива. Актив в своей работе должен опираться на членов коллектива, связанных<br />
общей деятельностью и находящихся в постоянном общении между собой, т. е. на первичный коллектив.<br />
Сплочению первичного коллектива способствует постоянное активное участие его студентов в делах основного<br />
коллектива. Благодаря активному участию повышается ответственность студентов за доверенное им дело, за свое<br />
46
поведение, а также создаются условия для установления связей с другими студентами.<br />
В своей работе выделяем четыре стадии развития коллектива:<br />
Первая стадия характеризуется выполнением студентами обоснованных требований куратора в той мере, в какой<br />
это удовлетворяет их интерес к основному виду деятельности коллектива. При этом студенты руководствуются<br />
личными побуждениями, а требования куратора выполняют в той мере, в какой это не противоречит их интересам.<br />
Задача куратора на этой стадии - увлечь студентов коллективными делами, преодолевая индивидуалистические<br />
мотивы их деятельности. С этой целью используем индивидуальные и групповые беседы о ближайших задачах<br />
коллектива, распределяем обязанности и роли так, чтобы все студенты охотно их выполняли. По мере возможности<br />
стремимся к тому, чтобы студенты анализировали и объективно оценивали выполненную работу с точки зрения<br />
интересов группы, коллектива.<br />
Вторая стадия характеризуется тем, что члены актива поддерживают требования куратора и сами предъявляют их<br />
к однокурсникам, становясь надежными помощниками. Большое значение приобретает учет индивидуальных<br />
способностей и склонностей студентов к различной работе. Основной состав как актива, так и его помощников<br />
меняется, пополняется за счет новых студентов. К выполнению временных поручений привлекаем всех студентов.<br />
Воспитание актива требует не только включения его членов в организаторскую деятельность, но и специальной<br />
работы с ними, способствующей выявлению склонностей студентов, воспитанию необходимых качеств, создающих<br />
благоприятные условия для обучения выполнению общественных обязанностей. В процессе выполнения отдельных<br />
заданий в группе проводятся соревнования между тремя подгруппами. При подведении итогов отмечаем лучших бригадиров,<br />
отличников учебы.<br />
Таким образом воспитывается общественная активность, инициатива, формируется общественное мнение.<br />
Третья стадия характеризуется накоплением разнообразного опыта общественной деятельности и положительного<br />
нравственного поведения, одним из показателей которого являются требования друг к другу. На этой стадии развития<br />
коллектива перед куратором встает задача способствовать дальнейшему накоплению опыта нравственного поведения<br />
в коллективной деятельности. Для решения этой задачи используются все виды коллективной деятельности, в<br />
процессе которой создается опыт коллективных отношений. Одновременно проводятся беседы, диспуты, лекции, информации.<br />
Все это способствует формированию коллективистских мотивов деятельности. Чтобы требования студентов<br />
друг к другу были справедливы, следует формировать здоровое общественное мнение. Для этого знакомим студентов<br />
с различными представлениями, взглядами на отдельные вопросы, которые влияют на составление общественного<br />
мнения. При проведении индивидуальной воспитательной работы со студентами, стремясь сформировать у них<br />
понятия, отвечающие общественным интересам. Организуем обсуждения вопросов жизни и деятельности коллектива.<br />
Четвертая стадия характеризуется предъявлением членами коллектива высоких требований к себе на фоне<br />
требований всего коллектива. На этой стадии перед куратором стоит задача приучения студентов к самовоспитанию.<br />
Студенты сами определяют требования к своей работе и поведению. Постепенно нормы поведения студента и<br />
ответственное отношение к своим обязанностям в коллективе станут потребностью и процесс воспитания перерастет<br />
в процесс самовоспитания.<br />
Стремимся к тому, чтобы на всех стадиях развития коллектива возникали и крепли традиции. Они помогают вырабатывать<br />
общие нормы поведения коллектива. Большие традиции предполагают проведение ярких массовых<br />
мероприятий, подготовка и проведение которых воспитывает чувство чести коллектива, веру в его силы, гордость его<br />
успехами. Соблюдая малые, будничные, повседневные, но не менее важные с воспитательной точки зрения традиции,<br />
студенты воспитывают в себе устойчивые привычки и нормы поведения, для реализации которых не требуется<br />
особых усилий и напряжения.<br />
Традиции в сочетании с системой самоуправления создают такой стиль жизни коллектива, в котором нет места<br />
беспорядку, анархии, бессистемности.<br />
Для формирования в коллективе здорового нравственно-психологического климата крайне важно сделать студентов<br />
хозяевами группы и организовать в ней самоуправление.<br />
Участвуя в самоуправлении, студенты самостоятельно решают задачи своего коллектива, организуют и активизируют<br />
деятельность, направленную на решение коллективных задач, формируют межличностные отношения, общественное<br />
мнение, определяют права и обязанности внутри коллектива, осуществляют контроль и оценку деятельности и<br />
поведения своих товарищей. То есть студенты управляют своим коллективом и вместе с тем нормируют свою<br />
деятельность, свое поведение, взаимоотношения, а значит, сами себя воспитывают. Следовательно, самоуправление<br />
студенческого коллектива является коллективным самовоспитанием. Участвуя в самоуправлении, студенты учатся демократии,<br />
проходят нравственное, гражданское воспитание и самовоспитание. Из этого следует, что студенческое самоуправление<br />
несет в себе огромный воспитательный потенциал.<br />
В процессе своей деятельности тесно сотрудничаем с преподавателями: совместно разрабатываются общие педагогических<br />
требований и подходов к студентам в учебно-воспитательном процессе на основе целей учебного<br />
заведения; привлекаем преподавателей к работе с родителями; включаем обучающихся в систему внеаудиторной<br />
работы по предметам: разнообразные предметные кружки, выпуск санитарных бюллетеней, совместная организация<br />
и участие в предметных неделях, тематических вечерах и других мероприятиях.<br />
Совместно с педагогом-психологом изучаем индивидуальность студентов, процесс их адаптации и интегра¬ции в<br />
микро- и макросоциуме. При поддержке педагога-психолога анализируем развитие коллектива группы, определяем<br />
познавательные, творческие способности и возможности воспитанников, помогая студенту определиться в выборе<br />
будущей профессии; координируем выбор форм и методов организации индивидуальной и групповой учебной и внеаудиторной<br />
деятельности.<br />
Сотрудничая с библиотекарем, расширяем круг чтения студентов, что способствует формированию у них культуры<br />
чтения, отношения к нравственным идеалам, этическим нормам поведения, осознания собственной индивидуальности<br />
через освоение классической и современной литературы.<br />
Одним из важнейших социальных институтов воспитания является семья, поэтому работу с родителями направляем<br />
на сотрудничество с семьей в интересах студента, формирование общих подходов к воспитанию, совместное изучение<br />
личности, его психофизиологических особенностей, выработку близких по сути требований, организацию помощи в<br />
обучении, физическом и духовном развитии обучающегося. Взаимоотношения куратора группы с родителями должны<br />
строится на использовании знаний родителей о своем ребенке и единых требований и подходов к воспитанию.<br />
Привлекаем родителей к участию в воспитательном процессе в учебном заведении, что способствует созданию<br />
благоприятного климата в семье, психологического комфорта в стенах учебного заведения и за его пределами. Коор-<br />
47<br />
Pedagogical sciences<br />
Actual problems of modern pedagogics
Pedagogical sciences<br />
динируем усилия по образованию и самообразованию студента, изучая информацию о наклонностях воспитанников,<br />
материально-бытовые условия, психологическом климате в семье, требования родителей к обучению и воспитанию в<br />
учебном заведении и дома, их видение перспектив развития студента.<br />
Организуем работу по повышению педагогической и психологической культуры родителей через, совместную деятельность.<br />
Литература:<br />
1. Ангеловский К. Учителя и инновации: Книга для учителя: Пер. с македон. - М., 2006.<br />
2. Внутришкольное управление: Вопросы теории и практики/Под ред.Т.И.Шамовой.-М., 2005.<br />
3. Журавлев В. И. Взаимосвязь педагогической науки и практики. - М., 2004.<br />
4. Карташов П. И. Внедрение рекомендаций педагогической науки в практику: Организационно-управленческий<br />
аспект. - М., 2007.<br />
5. Сластенин В. А., Подымова Л. С. Педагогика: Инновационная деятельность.-М., 2001.<br />
6. Управление современной школой: Пособие для директора школы / Под ред. М. М. Поташника. - М., 2003.<br />
7. Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; Под ред. В.А.<br />
Сластенина. - М.: Издательский центр "Академия", 2006. - 576 с.<br />
8. Юсуфбекова Н.Р. Общие основы педагогических инноваций: Опыт разработки теории инновационного процесса<br />
в образовании. - М., 2005.<br />
УДК 37.014.5<br />
NEOLIBERAL TENDENCIES IN MODERN EDUCATION<br />
Aizikova L.V., postgraduate student<br />
V.O. Sukhomlinskiy Mykolaiv National University, Ukraine<br />
Conference participant,<br />
National championship in scientific analytics,<br />
Open European and Asian research analytics championship<br />
The article deals with neoliberalism as the ideology of the modern education reforms. The movement to privatization of education is<br />
considered central in the context of neoliberal reforming strategy. Globalizational influence causes the situation when international<br />
organizations govern national education policy more than states. Contradiction between education policy and education theory is established<br />
as one of the most important challenges causing insufficient effectiveness of neoliberal reforms.<br />
Keywords: neoliberalism, privatization of education, education reforms, public good, private good.<br />
Actual problems of modern pedagogics<br />
The end of 20 th – the beginning of 21 st centuries is a period of considerable education reforms caused by the processes of globalization in<br />
the world. The complicated and many-dimensional influence of these processes on education is complemented by such an important factor as<br />
development of knowledge economy that turns education into a productive sector of economics and makes completely new requirements to<br />
knowledge management in the system of education. Neoliberalism has become the ideology of the modern education reforms. It has become<br />
the basis for forming global political and educational consensus.<br />
Thus the aim of the article is to reveal the modern social, economic and political trends affecting the views of education<br />
in today’s globalized world.<br />
We understand neoliberalism as a complex of education and political principles followed by the ruling parties in most<br />
countries of the world.<br />
The analysis of the researches on the subject reveals main points of neoliberal education and political consensus:<br />
• Economical determinism is a dominant criterion for defining purpose priorities of reforms and ways for their efficiency assessment.<br />
Primary attention is given to the reforming of those aspects of education system that have the greatest impact on the development of human<br />
capital and national economic growth.<br />
• Sphere of education is no more a state monopoly; processes of educational services privatization have become liven up.<br />
• Main principles of education policy management are the principles of social choice theory. They are:<br />
1) logic of choice of education is determined by methodological individualism when education is treated as a private good<br />
rather than public good;<br />
2) a person is regarded as “homo economicus” i.e. independent, rational, autonomous, narrowly self-interested individual who equates<br />
education to any other market commodity;<br />
3) sphere of education is analogous with market where all the actors are involved into profitable exchange.<br />
• Administrative mechanisms of regulation in education are replaced by market mechanisms.<br />
• Development of state and private sector partnership in education is encouraged.<br />
Market-oriented reforms are the attempt of reconstruction of education system aimed at its privatization. Ukrainian educators consider the<br />
term ‘privatization of education’ as central in the context of neoliberal reforming strategy. It is used to identify a wide range of reform<br />
programs and even wider variety of means of carrying them out [1, c.309]. According to foreign researches in the most general sense it means<br />
the devolution of ownership of educational institutions, provision of services and responsibility for their results from state authorities to private<br />
institutions [4, c. 19].<br />
Characteristic of education and political dimension of market-oriented reforms includes the analysis of such an aspect of modern<br />
discussions as interpretation of education as a public or private good.<br />
Modern understanding of the concept of a public good originates from its interpretation by English philosopher John Locke. He stated that<br />
when a human enters the society he rejects certain freedoms for the sake of gaining more important rights guaranteed by society to its<br />
members. Society united by the idea of common good guarantees rights that did not exist in fore-society communities. According to this<br />
understanding of a public good education means not only private goods such as higher incomes, social status, better understanding of own<br />
needs and possibilities etc. but also public benefits such as consolidation citizens into a single whole by compulsory teaching a common<br />
language, norms of public behaviour, means of settling conflicts, skills of participating in economic and political life of society and state.<br />
48
Guided by these considerations H. Levin comes to the conclusion that creation of public school aimed at the development of public good more<br />
than private because school focuses on molding behaviour values and norms that are goods for whole society [6, c. 30].<br />
In the discussions on market-orientated reforms there is another understanding of public good. In the context of economic theory it means<br />
absence of competition in consuming a good, its general accessibility that does not causes its decrease; situation when consuming a good<br />
becomes an exceptional right of one person or limited group of people is impossible [2, c. 56]. A private good in this context is interpreted as<br />
a good that gives exceptionally individual benefits; it is limited and when it is being consumed by one person it cannot be consumed by anyone<br />
else [5, c. 293].<br />
Taking into consideration different approaches to the interpretation of a public and private good we can combine the viewpoints of<br />
supporters of market-oriented reforms into three groups:<br />
1) education is both a public good and a private good. Its impact into society good is totally distinct from all other spheres of material and<br />
spiritual production because it serves as the most important society institution that unites country population into nation. Being generally<br />
accessible education provides the realization of the idea of social equality and justice, formation of values for the next generations of citizens<br />
which is the guarantee for the development of democratic society. State’s interference in education of citizens is necessary however it must be<br />
limited and concern financing, setting of standards and results assessment. But state must not administrate educational process, limit citizens’<br />
choice of educational institution as these matters are private affairs of citizens;<br />
2) education is not a public good in the full meaning of this notion i.e. accessible to everyone to the full extent. It is an intermediate<br />
type of a good that depends both on state as far as it is provided on the basis of state legislation and on talents and<br />
activeness of a pupil and his family. Profits from education are gained more by individuals than by state. Thus education can<br />
be interpreted as a private good provided by state;<br />
3) contribution of education into a public good is not inherently different from that of other services and products therefore financing and<br />
organizing of education should be performed according to general rules determined by market economy principles. State education system is<br />
harmful for democratic state.<br />
The first of above-mentioned approaches has several variations but it is generally typical both for moderate liberals and for conservatives<br />
who are the main adherents of market-oriented reforms. Thus this viewpoint is dominant among the ruling circles of conservatively and<br />
liberally oriented political parties and also among some representatives of academic community (M.Barber, P.Hill, D.Hirsch, H. Levin). This<br />
approach is characterized by active proving of compatibility and inter-completing of public and personal interests in the process of<br />
development of new alternative forms of education management – merging of state and private forms of property.<br />
The representatives of this approach prove that caring for their children’s interest (looking-for best educational institutions) parents do not<br />
betray public interests and do not damage a public good, on the contrary they contribute to its development as far as better education of every<br />
certain pupil/student means better education of society in general, besides educational institutions both get stimulus for better comprehending<br />
and improving their work and get more attention from governing institutions. As a result everyone has profited but with the assumption the<br />
system is able for self-perfection.<br />
The representatives of the second variant of understanding of correlation between a public and private good in modern education believe<br />
that private interests in education are dominant. Key position in this argumentation is occupied by the problem of social externalities of<br />
education. Among the spheres where these results are especially apparent neoliberal educational economists denominate formation of civil<br />
society, decrease in the crime rate, birth and child-rearing control, national economic progress. The principled stand is the following: social<br />
externalities of education are significant and state interference into education is justified but only to the minimum extend and this minimum<br />
for the developed countries is already achieved. Thus further expansion of state in education is inexpedient. As a proof this group of researches<br />
advances an argument that there are no valid evidences of direct dependence of economic growth and educational level of population.<br />
The third point of view on the essence of education in the context of ‘public good vs. private good’ contradistinction is typical for the<br />
radical wing representatives of market reforms in education (A.Coulson, D.Dewey, D.Freidman, J.Tooley). Its adherents affirm that public<br />
funds should not be channeled to education as it causes underfunding of other spheres of society. Radical neoliberals are more concerned by<br />
the problems of denying families their natural right for independent choice of education for their children, compulsory character of education,<br />
its politicization and bureaucratization. To my thinking the obvious shortcomings of this standpoint are its pronounced populism, direct<br />
analogy between education and production spheres, denying internal laws of education development.<br />
With different extent of radicalism each of the three above-given viewpoints supports market-oriented reforms of<br />
education on the ground that education can be considered as a public good only partly. Thus they stand for inexpediency of<br />
maintenance of state status quo in education.<br />
Ukrainian researcher A.Sbruyeva offers a multilevel system of measurement of results of neoliberal reforms (individual level,<br />
organizational level, and social level). Social level of assessment of reforms is of special interest for our investigation. It includes two main<br />
aspects – securing of social justice in education and social unity in society.<br />
As for securing of social justice in education, it can be measured both by accessibility of resources (financial, material, intellectual,<br />
informational and technological etc) for providing education needs of all categories of pupils/students and by achievement of results<br />
(competences) necessary for successful life activity.<br />
Among the proofs witnessing about increase of injustice in providing education resources for all social categories of citizens one can<br />
adduce the following. Families with high level of incomes get extra-benefits in choice of education (additionally to their primary privileges)<br />
because of state subsidies for private education. In actual fact voucher programs for private education do not improve matters for poorest<br />
category because if such programs do not fully cover expenses for pupil’s study it hits where it hurts poorer families but not richer ones. As a<br />
rule the most educated and best informed families take part in subsidy programs thus such families (the richest among poor) get benefits of<br />
education choice enlargement.<br />
The most obvious general conclusion based on these considerations is the following: even under the condition of stubborn aiming of<br />
education choice programs at securing of social justice richer people get more benefits of them.<br />
Possibilities of securing of social justice by achieved results depend on ways of grouping pupils/students during their studies. If they are<br />
grouped by levels of capabilities (this way of grouping has become prevalent in the context of education choice programs) it causes higher<br />
dissociation of pupils/students according to their social and race background. As far as different education tracks give education of different<br />
quality, deprived and national minorities are in losing position because they are not well prepared for entering the system of education and as<br />
a result find themselves at tracks of low-quality education.<br />
There are evidences of rise of social and race inequality in getting high-quality education in every country where market-oriented<br />
neoliberal reforms have been carried out. Besides general tendencies there are some specific ones. For example, in England and Wales<br />
increase of homogenization of social structure of educational institution in the context of education choice programs is connected with parents’<br />
tendency to choose schools where most children are from families with similar social status, financial and ethnic background.<br />
Considering the problem of social justice in the context of development of education choice programs it should be stressed that support<br />
of those socially deprived can be determined legislatively by the very design of programs. Education choice can serve those who really need<br />
49<br />
Pedagogical sciences<br />
Actual problems of modern pedagogics
Pedagogical sciences<br />
it. It is possible under the condition authorities and society evince political will for it.<br />
As for securing of social unity in society, education as a public good must contribute to development of social unity in process of<br />
providing future citizens with common study experience.<br />
As a result of market-oriented neoliberal reforms possibilities for achieving common social experience by representatives of different<br />
social, race, ethnic groups exhibit a tendency to reduction since decrease of quantity of pupils/students in state education system due to<br />
increase of their quantity in private sector, social and ethnic segregation in the frames of education choice programs rises.<br />
As a whole the influence of market-oriented neoliberal reforms on securing of social justice is assessed very differently because different<br />
opinions as a rule have different ideological background. Experts consider polarization of society as a real risk rather than inevitable<br />
consequence of education choice. It is impossible to avoid this risk by market methods; political regulation of the process is needed. Thus<br />
strategical prospect of neoliberals to minimize in the process of market reforms influence of political factors on development of education and<br />
replace them with market mechanisms is hard to reconcile with the ideas of securing of social justice in education and social unity in society.<br />
Forming of the global political and education consensus is the consequence of implantation of neoliberal ideas of the Washington<br />
consensus and inclusion of education into the demesne of international financial, economical and political organizations that covenanted the<br />
consensus (OECD, EU, International Monetary Fund, World Bank). Globalizational influence causes the situation when international<br />
organizations govern education policy more than states. The mechanisms of impact on national education policies have both economical<br />
character (giving financial, material, technical, information and communication support for development of education) and political character<br />
(making demands for neoliberal ideological orientation as conditions for giving economic support).<br />
Political education community and scientific education community of developed countries agree in the opinion on insufficient<br />
effectiveness of most reforms in education. One of the most important contradictions having caused this insufficient effectiveness is the<br />
contradiction between education policy and education theory. As the research has revealed, the reasons for it are the following features of<br />
neoliberal education policy: giving preference to economic mechanisms for carrying out reforms in education instead of pedagogic<br />
mechanisms, neglecting of their intrinsic properties; insufficient accounting of inner motivation of educators, regarding them as “homo<br />
economicus” (as persons inclined to minimizing of working efforts and maximizing a private good).<br />
References:<br />
1. Сбруєва А.А. Тенденції реформування середньої освіти розвинених англомовних країн в контексті глобалізації (90-ті рр. ХХ<br />
– початок ХХІ ст.): Монографія. – Суми: ВАТ “Сумська обласна друкарня”. Видавництво «Козацький вал», 2004. – 500 с.<br />
2. Стиглиц Дж. Экономика государственного сектора, пер. с англ. Е. Э. Куманиной, Москва: Изд-во МГУ: ИНФРА-<br />
М., 2007. – 720 с.<br />
3. Barber M. The Next Stage for Large Scale Reform in England: From Good to Great. Papers of the Technology trust College Trust’s<br />
second on-line Conference “Vision 2020”, October-December 2002. Available at: http://www.tctrust.org.uk<br />
4. Belfield C.R., Levin H. М. Education privatization: causes, consequences and planning implications, Paris:<br />
UNESCO/IIER, 2002. – 79p.<br />
5. Hill P.T. What is public about public education? A primer on America’s school. Ed. by T.Moe, Hoover Institution, 2001. – Р. 285-316.<br />
6. Levin H. M. Educating for a Commonwealth // Educational Researcher. – August-September 2001. – Vol. 30, No. 6. – Р. 30-33.<br />
7. Tooley J. Is Private Education Good for the Poor?, Working paper, University of Newcastle Upon Tyne, UK, 2005. Available at:<br />
http://thefilter.blogs.com/thefilter/files/tooley.pdf.<br />
ФОРМИРОВАНИЕ КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ –<br />
БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ<br />
Голобородько А.П., канд. пед. наук, доцент<br />
Сумский национальный аграрный университет, Украина<br />
Участник конференции<br />
Actual problems of modern pedagogics<br />
Данная статья посвящена проблеме формирования конфликтологической компетентности студентов высших учебных<br />
заведений – будущих менеджеров. Автором проведено специальное исследование, включающее констатирующий и формирующий<br />
эксперимент, с целью создания эффективной концепции формирования конфликтологических знаний, умений и навыков у молодых<br />
людей, позволяющих им оптимизировать собственный стиль жизни и профессионально подготовиться к будущей трудовой деятельности.<br />
Ключевые слова: конфликтологическая компетентность, коммуникации, тренинг, кейс-стади.<br />
The article is devoted to the question of shaping of the conflictological competence of higher educational institutions students – future<br />
managers. The author has conducted a special research, which includes the ascertaining and forming experiment, the purpose of which is to<br />
create the effective concept of forming the conflictological knowledge, skills and abilities of young people, that allow them to optimize their<br />
own way of life and to get professionally prepared for future labor activity.<br />
Keywords: conflictological competence, communications, training, case study.<br />
Реалии современного мирового сообщества являются таковыми, что наличие конфликтов в социальной среде, равно как и<br />
наличие внутриличностных конфликтов в рамках существования отдельно взятой личности, являются понятием безусловно<br />
объективным, закономерным и проявляющимся в обострении коммуникативных противоречий, нарушении гармонии личностного<br />
самовосприятия и качества жизни людей с точки зрения их удовлетворения своим положением в обществе, личными достижениями,<br />
спецификой отношений с окружающими людьми.<br />
Особо остро проблема необходимости предупреждения возникновения предконфликтных и конфликтных ситуаций, грамотного<br />
решения возникающих социальных конфликтов, регулирование их динамики, нахождения возможностей перевода деструктивных<br />
конфликтов в конструктивные, эффективные стоит перед молодыми людьми, получающими высшее образование и планирующими<br />
в дальнейшем работать в сфере менеджмента, управления персоналом. Конфликтологическая компетентность выпускников<br />
факультетов менеджмента является необходимой и важнейшей составляющей их профессионализма и готовности к будущей<br />
трудовой деятельности.<br />
Специфика работы менеджера является таковой, что общение с людьми занимает от 80% до 96% его рабочего времени. От того,<br />
50
Pedagogical sciences<br />
насколько эффективно будет проходить коммуникативное взаимодействие с окружающими, какими будут его результаты не только<br />
в плане решения актуальных производственныхпроблем, принятия оптимальных управленческих решений, но и в аспектах<br />
сохранения позитивного социально-психологического климата в коллективе, налаживания конструктивных путей взаимодействия<br />
с партнёрами по бизнесу, что является фундаментом развития деловых контактов и продуктивного сотрудничества в будущем,<br />
зависит результативность работы самого менеджера и его команды, возможности прогресса предприятия на пути осуществления<br />
стратегии производства.<br />
Проводимые нами наблюдения за поведениемстудентов - будущих менеджеров в их обычной повседневной жизни (как учебной<br />
деятельности, так и в быту, общении со сверстниками, педагогами, сотрудниками высших учебных заведений), свидетельствуют о<br />
том, что подавляющее большинство молодых людей является недостаточно подготовленными к решению неизбежно возникающих<br />
перед ними сложных в конфликтологическом плане ситуаций межличностного общения.<br />
В ходе проведенного констатирующего эксперимента, включающего опрос, анкетирование, беседы, диспуты, выяснилось, что<br />
конфликты в социальной среде являются тем фактором, который отвлекает студентов от целенаправленной учебной деятельности,<br />
вызывает чувство разочарования и неудовлетворённости реальной жизнью, неуверенности в своих силах и возможности достижения<br />
успехов в будущем. Внутриличностные конфликты, неизбежно возникающие на этом фоне у большинства студентов, являются дополнительным<br />
источником повышенной тревожности и понижения работоспособности студентов во время учебной деятельности,<br />
снижения уровня заинтересованности в учёбе, эффективности приобретения ими знаний, качества формирования у них умений и<br />
навыков.<br />
Нашей задачей было оказание помощи студентам в овладении основами конфликтологической компетентности как необходимом<br />
условии оптимизации их жизни на данном этапе, а также как определяющем факторе их профессионального формирования,<br />
будущей успешной трудовой деятельности в конкурентной среде.<br />
Наиболее результативными стали групповые, тренинговые формы занятий со студентами, позволившие им приобретать<br />
навыки эффективного общения, решения конфликтных ситуаций в условиях непосредственного тесного взаимодействия в группах.<br />
Применение таких форм проведения обучения конструктивному с точки зрения предупреждения и разрешения конфликтов<br />
стилю поведения, как кейс-стади (case-study), когда в качестве кейсов (case) предлагались для разрешения ситуации, максимально<br />
близкие к реальным условиям жизни студентов, их будущей профессиональной деятельности,позволило максимально приблизить<br />
процесс формирование конфликтологической компетентности студентов к требованиям их будущей производственной деятельности<br />
в качестве менеджеров.<br />
По результатам проведенной работы нами был подготовлен практикум, включающий разработку занятий и отдельные<br />
упражнения по формированию конфликтологических знаний, умений и навыков будущих менеджеров, куда вошли наиболее<br />
эффективные из опробованных нами видов учебно-воспитательных мероприятий.<br />
Как показали данные проведенного исследования, уровень сформированности конфликтологических знаний, умений и навыков<br />
у студентов экспериментальных групп после прохождения ими цикла специальных практических занятий повысился по сравнению<br />
с контрольной группой, что отразилось на качестве обучения в целом и улучшении состоянии душевного комфорта молодых людей.<br />
В наших ближайших планах находится разработка новой концепции формирования конфликтологической компетентности студенческой<br />
молодёжи с целью повышения уровня личного осознания ответственности не только за свою судьбу, но и за судьбы<br />
других людей, государства в целом на основе развития современного демократического мышления.<br />
Литература:<br />
1. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. - М.:Дело, 1995. – 704с.<br />
2. Глухое В.В. Менеджмент: Учеб. для вузов. — СПб.: Питер, 2007.— 608 с.<br />
3. Мальцева А. Вы или Вас. Стратегии с которыми побеждают. — К.: Максимум, 2005. — 346 с.<br />
4. Менеджмент: практические ситуации, деловые игры, упражнения / Под общ. ред. О. А. Страховой. — СПб.:<br />
Питер, 2000.— 144 с.<br />
5. Борисова Е.П. Управление персоналом для современных руководителей. — СПб.: Питер, 2003.<br />
УДК 37.01<br />
СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ В ШВЕЦИИ СРЕДНЕГО И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ<br />
Намакштанская И.Е., канд. филол. н., проф.<br />
Донбасская национальная академия строительства архитектуры, Украина<br />
Романова Е.В., канд. с.-х. наук, доцент<br />
Российский университет дружбы народов, Россия<br />
Новикова Ю.Н., канд. филол. наук, доцент<br />
Донбасская национальная академия строительства архитектуры, Украина<br />
Атанова Г. Ю., студент<br />
Донецкий национальный университет, Украина<br />
Участник конференции,<br />
Национального первенства по научной аналитике,<br />
Открытого Европейско-Азиатского первенства по научной аналитике<br />
Статья посвящена описанию истории развития современного состояния школьного и вузовского образования в Швеции.<br />
Особое внимание авторы акцентируют на эволюционном развитии научных идей в Швеции, а также на особенностях школьной<br />
педагогики и системе требований к организации и осуществлению учебного процесса в шведских вузах, определяя их место в<br />
современных процессах глобализации межкультурного пространства и гуманизации образования.<br />
Ключевые слова: Швеция, школа, гимназия, валдорфская школа, интеграция, гуманизация образования, наука, педагогика,<br />
межкультурная коммуникация.<br />
This article is devoted to describing of history of development of modern science condition and school and university education in<br />
Switzerland. Special attention authors concentrate on evolutionary development of scientific ideas in Switzerland, also on particular qualities<br />
51<br />
Actual problems of modern pedagogics
Pedagogical sciences<br />
of school science and system of requirements to the organization and actualization of educational process in Switzerland universities,<br />
determining their place in modern process of globalization in intercultural space and humanization of education.<br />
Keywords: Switzerland, school, gymnasium, valdorf school, integration, humanization of education, science, pedagogics, intercultural<br />
communication.<br />
Actual problems of modern pedagogics<br />
В «Концепции гуманитарного развития Украины на период до 2020 года» приоритетным направлением национального<br />
культурного развития определена интеграция страны в мировое пространство, в связи с чем сегодня большое внимание<br />
уделяется активизации сотрудничества в гуманитарной сфере со странами мира, разработке и реализации отдельных<br />
программ, предусматривающих создание «общего украинско-европейского пространства науки, образования и культуры, гомогенизацию<br />
социальных стандартов» [1, с. 22]. Причем интеграция, как отмечается в «Белой книге по межкультурному<br />
диалогу», «понимается как двусторонний процесс и как способность людей жить рядом, уважая достоинства каждого,<br />
принципы общественного блага, плюрализм и разнообразие, на основах солидарности и отказа от насилия, а также их<br />
способность принимать участие в социальной, культурной, экономической и политической жизни» [2, с. 9]. Особое место в<br />
этом процессе, на наш взгляд, занимает взаимоознакомление с культурными реалиями носителей разных национальных<br />
языков, что, в свою очередь, будет способствовать их взаимопониманию и взаимообогащению в процессе межкультурного<br />
диалога. Изучая же опыт и достижения одного народа, можно, «не изобретая велосипед», перенести его лучшие достижения<br />
на культурную, социальную, экологическую, образовательную и т.д. сферы развития других народов. Для примера обратимся<br />
к рассмотрению научного и образовательного потенциала Швеции.<br />
Швеция сегодня – страна высоких технологий, которая на достаточно высоком уровне обеспечила своим гражданам<br />
социально, политически, культурно и экологически комфортную жизнь. Поэтому есть смысл пристальнее присмотреться<br />
к тем правилам, по которым живут, учатся и работают шведы.<br />
Сегодня на науку и образование в Швеции выделяется из национального бюджета 4% (второй показатель после<br />
Израиля). Львиную долю вкладывают компании, которые заинтересованы в новых оригинальных и экономически<br />
выгодных разработках.<br />
Швеция – мировой лидер в области информационных и компьютерных технологий. Она входит в группу ведущих<br />
стран мира по количеству разработанных и внедрённых в производство роботов. Всемирноизвестная компания<br />
Eriksson производит системы телекоммуникаций, системы электронных телефонных станций и подстанций AXE, а<br />
также мобильные телефоны.<br />
А теперь обратимся, как говорится, к самым корням подготовки специалистов – от школьного обучения → к<br />
вузовскому образованию и далее к личности профессионалов высокого класса.<br />
Школа<br />
Образование в Швеции никогда не было привилегией богатых прослоек населения. Культуру и грамотность несли<br />
в общество шведские пасторы. Уже с 1723 г. родители были обязаны в домашних условиях научить своих детей<br />
чтению, а с 1842 г. провозглашается обязательное школьное обучение. Тогда Европа называла Швецию "страной образованных<br />
голодранцев" [3, с. 152].<br />
Сегодня страна имеет государственные и частные школы и гимназии, а в обществе господствует атмосфера общей<br />
образованности населения. Шведская государственная школа работает по двум этапам.<br />
Первый этап (степень) – муниципальная девятилетняя школа, где дети начинают учиться с 6-7 лет. У учеников<br />
прежде всего воспитывают критическое мышление, чувство равноправия и партнерства. Оценки не выставляют,<br />
чтобы никого из учеников не унижать, уроки могут посещать родители. Учебники, тетради и другие школьные принадлежности<br />
для каждого ученика предоставляются бесплатно. Не оплачивают родители и школьные обеды, ежедневное<br />
меню которых в начале каждой недели печатают все муниципальные газеты. Все муниципалитеты имеют специальные<br />
учреждения типа школ продленного дня, где воспитатели помогают школьникам, родители которых заняты на работе,<br />
с пользой для своего развития провести вторую половину дня: посмотреть любимые фильмы, почитать, поиграть, перекусить<br />
и погулять на свежем воздухе. Плата за такую помощь родителям достаточно низка и зависит от их платёжеспособности.<br />
С 7 кл. начинается знакомство учеников с разными специальностями – они проходят недельную<br />
практику на тех предприятиях, которые избирают самостоятельно в соответствии со своими интересами.<br />
Среди приватных можно назвать американские, французские и валдорфские платные школы. Последние расположены в<br />
природных зонах за чертой города и работают по проекту австрийского философа и педагога Рудольфа Штайнера (1861-<br />
1925). Обучение в них осуществляется в течение двенадцати лет, причем дети учатся в них исключительно с первого до двенадцатого<br />
класса. «Валдорфская педагогика – это педагогика духовного развития ребенка, его творческого потенциала, спиритуалистическая<br />
педагогика. В её основе лежат разработанные Р. Штайнером антропософские идеи, которые объединяют<br />
религиозно-философское восприятие с оккультно-мистическими взглядами, достижениями природоведения, эстетикой И.<br />
Гете и Ф. Шиллера» [4, с. 73]. Интересно отметить, что процесс духовного развития личности здесь связывается с<br />
физиологическим развитием организма ребёнка. У учеников интенсивно развиваются мышление, сила воли, способности к<br />
открытиям и трудовой деятельности, а также художественно-эстетическое восприятие мира. Оценки не выставляются,<br />
кроме итоговых в 8-м и 12-м классах. Менторство педагога отменено полностью, т. к. отношения между учащимися и<br />
учителями строятся на взаимоуважении и взаимном доверии. Стоит отметить и то, что на территориях школ природный<br />
ландшафт сохраняется настолько, что не допускаются никакие «достижения индустриализации и технического прогресса» –<br />
нет ни электропроводок, ни кабелей, ни телевизионных тарелок (антенн) и т. д. Все здания школы по строительным<br />
материалам, окраске и конструкциям естественно «вписаны» в природу.<br />
Шведская государственная школа унаследовала многие положения и принципы педагогики Рудольфа Штайнера,<br />
среди которых, прежде всего, следует отметить высокоуважительное и бережное отношение учителей к личности<br />
ученика и воспитание его в сфере гуманистических основ образовательного процесса. Ведь «гуманизацию, то есть<br />
«очеловечивание» образования в наиболее общем плане можно охарактеризовать как построение отношений участников<br />
образовательного процесса на основе изменения стиля педагогического общения – от авторитарного до демократического,<br />
преодоление жесткого манипулирования сознанием воспитанников, практически индокринации учащихся и студентов<br />
– навязывания им стереотипов мышления, догм, не подлежащих критике» [4, с. 156]. Гуманизация направлена прежде<br />
всего на те положения педагогики, в которых заложены принципы уважения к личности воспитанника, формирования<br />
у него самостоятельности, на установление между педагогом и учащимся доверительных отношений. Эти идеи<br />
заложены и в учебной литературе – достаточно вспомнить в этом плане хотя бы полюбившуюся детворе всего мира<br />
книгу Сельмы Лагерлёф «Удивительное путешествие Нильса Хольгерссона с дикими гусями по Швеции», которая<br />
фактически представляет собой шведский учебник географии.<br />
52
В 8-9 кл. оценки выставляют, но не ниже тройки. Двоек нет совсем. Компьютеры особенно активно используются<br />
в старших классах – при изучении черчения, математики, физики, химии и информатики.<br />
Следующий этап (степень) обучения в Швеции – гимназии. Они есть в большинстве муниципалитетов. Все<br />
программы – 3-летние и вмещают разные курсы: по шведскому или английскому языкам, по математике, природоведению,<br />
обществоведению, религиеведению, искусству и физкультуре. Из 17 программ, которые предлагаются для изучения,<br />
15 ориентированы на получение разных профессий и только две – на продолжение обучения в вузе.<br />
Средний балл, полученный за знания в гимназии, – пропуск или преграда для продолжения учебы в высшем<br />
учебном заведении. С тройками и четверками поступить в вузы обычно не удается (вступительных экзаменов нет).<br />
Однако балл можно повысить, если пройдешь дополнительное обучение на курсах (для тех, кому за 20 лет).<br />
Существуют еще народные школы, где, кроме обязательных дисциплин, предлагают курсы по интересам – от<br />
музыки и искусства до экологии и религии. Успешно сдав экзамены по специальным тестам, куда входят задания по<br />
шведскому и английскому языкам, математике, логике и чтению, можно надеяться на продолжение учебы в институте.<br />
К этой услуге прибегают приблизительно 35% шведов.<br />
В целом обычно третья часть учащихся продолжает свое обучение в вузах.<br />
Высшее учебное заведение<br />
Обучение в вузах бесплатное и продолжается 4 года, а качество знаний студентов измеряется поинтами (баллами).<br />
После 2-х лет, сдав экзамен, студент завершает первый этап обучения. А после 3-х лет можно сдавать кандидатский<br />
экзамен на бакалавра по избранному направлению. По истечении 4-х лет обучения, если оно было успешным, можно<br />
получить почетное звание магистра.<br />
Шведский академический год разделен на два семестра: осенний и весенний, первый длится с конца августа до<br />
середины января, а второй – с середины января до начала июня. Завершение курсов подтверждает система зачетов,<br />
где один зачет соответствует одной неделе занятий. Один год академических занятий (40 недель) – это 40 зачетов<br />
(поинтов, баллов).<br />
В процессе овладения студентами разными специальностями в шведском вузе большое внимание уделяется их самостоятельной<br />
работе и исследовательской деятельности. Обучение пытаются максимально приблизить к реальной жизни, и самостоятельная<br />
работа студента – не менее важна, чем посещение лекций и активная работа на практических занятиях.<br />
В вузе, как и в школе, большое внимание уделяется партнерским отношениям «студент – преподаватель»,<br />
поскольку студент – это будущий высококвалифицированный специалист, для подготовки которого государство<br />
нанимает на службу педагогов.<br />
Проверку педагогических качеств преподавателей осуществляют как руководители вузов, представители АН<br />
Швеции, так и сами студенты, которые в конце каждого полугодия через анкеты оценивают работу каждого<br />
преподавателя, его компетентность, педагогическое мастерство, умение поддерживать паритетные отношения с<br />
обучаемыми. Кроме того, студенты высказывают своё мнение относительно усовершенствования содержания каждой<br />
учебной дисциплины. Поскольку большинство студентов совмещают работу и учебу, в вузе создаются параллельные<br />
группы и каждый из обучающихся имеет право выбирать удобную ему по времени учебную группу, а также переходить<br />
из одной группы в другую, если работа преподавателя его не удовлетворяет – «нет прогресса в накоплении знаний»,<br />
«неэффективны методы преподавания», «нетолерантны формы общения со студентом» и т. д. Однако и к работе<br />
студентов предъявляются жесткие требования, например, при непосещении по любым причинам 4-х занятий студент<br />
не имеет права приходить на зачет или экзамен, а должен повторить изучение дисциплины; зачеты и экзамены<br />
принимает преподаватель при обязательном присутствии представителя администрации учебного заведения.<br />
Следует обратить внимание в шведской системе и на то, что студенты активно участвуют в разработке разного<br />
рода проектов, финансируемых компаниями и государством. Все вузы работают только с самыми современными<br />
приборами, в том числе и с компьютерной техникой. Большую популярность приобрело сегодня дистанционное<br />
обучение, когда студенты (как и ученики в школах) общаются с преподавателями через Internet. Поскольку научно-исследовательских<br />
институтов в стране немного, то учебные заведения имеют достаточно много заказов на исследовательскую<br />
деятельность.<br />
В Швеции созданы технопарки, которые финансово укрепили союз науки, бизнеса и производства. Кроме того, существует<br />
большое количество государственных и частных стипендиальных фондов, направленных на углубленное<br />
изучение студентами, в том числе и за границей, каких-либо научных проблем. На наш взгляд, здесь эффективно срабатывают<br />
заложенные и сформированные еще в школе основы творческих задатков молодого человека, ведь как<br />
отмечает украинский ученый Н. Богданова, «люди, способные к творчеству, легко адаптируются в любой социальной<br />
среде, жизненной и профессиональной ситуациях. Способности и возможности к адаптации присутствуют в них<br />
самих, в их умении абстрагироваться от второстепенных моментов, выделять основное и существенное, видеть<br />
интересное и перспективное, искать и находить возможные варианты разрешения проблем, сосредотачиваться на их<br />
реализации» [5, с. 53].<br />
Для получения научного образования надо сдать кандидатский экзамен и успешно проучиться в аспирантуре в<br />
течение 4-х лет, написав и защитив после окончания аспирантуры диссертацию. Аспирантская стипендия достаточно<br />
весома, чтобы аспирант мог заниматься наукой, не отвлекаясь на подработки.<br />
Таким образом, вписываясь сегодня в Болонскую систему обучения молодёжи, создавая для интенсификации<br />
научных исследований технопарки при вузах по опыту Швеции, США, России и других европейских стран, нам<br />
необходимо, не потеряв лучших достижений украинской педагогики, перенять всё лучшее, созданное мировой образовательной<br />
системой, поскольку, как сказал Премьер-министр Украины Н. Азаров, «если мы хотим подняться на качественно<br />
высший уровень, нам необходимо в абсолютно всех сферах нашей жизни поднять планку подготовки специалистов»<br />
[6].<br />
Литература:<br />
1. Концепція гуманітарного розвитку України на період до 2010 року / Проект. – Київ, 2011.<br />
2. Біла книга з міжкультурного діалогу «Жити разом у рівності і гідності». – Київ: «Оранта», 2010. – 44 с.<br />
3. Иванов К., Смирнов А. Всё, что вы хотели знать о Швеции. – Стокгольм: Шведский институт, 2005. – 291 с.<br />
4. Енциклопедія освіти / Акад. пед. Наук України; головний редактор В.Г. Кремень. – К.: Орінком Інтер, 2008. – 1040 с.<br />
5. Богданова Н. Проблема формування творчої особистості ЇЇ Українська мова й література в сучасній школі. –<br />
2012. – №1. – С. 53-57.<br />
6. Україні потрібна IT-академія // Урядовий кур’єр. – 2012. – № 3. – С. 2.<br />
53<br />
Pedagogical sciences<br />
Actual problems of modern pedagogics
Pedagogical sciences<br />
СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ В ПЕДАГОГИКЕ РАННЕГО ДЕТСТВА<br />
Науменко Т.И., канд. пед. наук, ст. науч. сотр.<br />
Международный научно-образовательный центр информационных технологий и систем НАН Украины, Украина<br />
Участник конференции,<br />
Национального первенства по научной аналитике,<br />
Открытого Европейско-Азиатского первенства по научной аналитике<br />
В статье рассматривается авторская попытка построения образовательных моделей воспитания детей от<br />
рождения до трех лет жизни, анализируются особенности развития детей раннего возраста, взаимовлияние условий<br />
их гармоничного развития.<br />
Ключевые слова: дети раннего возраста, образовательные модели, условия развития ребенка, положительное<br />
эмоциональное окружение.<br />
In the article the declared models of education of children from birth to three years lives that is offered by an author. The analysis of<br />
features is done in development for the children of early age, condition of their harmonious development.<br />
Keywords: children of early age, educational models, terms of development of child, positive emotional surroundings.<br />
Actual problems of modern pedagogics<br />
В психолого-педагогической науке имеются различные пути построения теоретического знания (например, индукция, дедукция,<br />
моделирование). Остановимся на методе моделирования, который базируется на системном анализе изучаемого явления. На<br />
первом этапе обычно выделяют структурные компоненты моделируемого явления, на втором – особенности взаимосвязей и функционирование<br />
выявленной структуры, осуществляются параметризация, классификация и другие процедуры. Третий этап –<br />
разработка прогноза развития функционирующей структуры. В логике исследования порядок чередования этапов может нарушаться<br />
в зависимости от состояния изучения явлений. Моделирование предполагает учет многомерности, многоуровневости и<br />
многоаспектности психических явлений [4]. Возьмем это за основу.<br />
Учитывая всю сложность создания образовательных моделей педагогики раннего детства, мы выделим доминанту в содержании<br />
образования, отталкиваясь от основной цели в создании определенного образовательного пространства. При этом мы учитываем и<br />
взаимосвязь “информация – сознание”. Известно [5], что отбор информации, ассоциирование информации и накопление ее<br />
составляют в совокупности сознание. Сознание является аккумулятором, где сосредоточивается информация, которая может влиять<br />
на выбор адекватного поведения. Под информацией мы понимаем сведения об окружающем мире, которые ребенок получает в<br />
результате взаимодействия с ним [3; 150]. Также в понятие “информация” мы вкладываем различные ее виды: знания о предметах;<br />
ознакомление со знаковыми системами; эмоциональный, коммуникативный, нравственный опыт человека.<br />
Создание определенной образовательной модели предполагает знание возможностей и особенностей того возрастного периода,<br />
о котором идет речь. Мнение ученых относительно раннего возраста едино. На протяжении первых трех лет жизни с ребенком<br />
происходят значительные качественные изменения, которые превращают его из безпомощного существа в активного деятеля в<br />
ближайшем окружении. Достижения развития настолько впечатляют, что дают повод ряду ученых рассматривать их как решающие<br />
в индивидуальном становлении личности. Действительно, они являются внутренней основой, тем стержнем, который определяет<br />
дальнейшее психическое развитие ребенка. В этом возрасте как бы запускается механизм развития.<br />
Уже новорожденный ребенок реагирует на внешние воздействия с помощью безусловных рефлексов. Вскоре появляются и<br />
условнорефлекторные положительные эмоции, которые становятся способом контакта с окружающими близкими людьми (например,<br />
“комплекс оживления”). А на третьей недели жизни появляется элементарная познавательная активность [1], направленная прежде<br />
всего на человека. Первое радостное возбуждение – это реакция на лицо и голос близкого взрослого. Очевидно, что эти социальные<br />
реакции свидетельствуют об их генетическом характере. В течении всего первого года взрослый становится для ребенка центральной<br />
фигурой любой ситуации, переживаемой младенцем. Возрастает потребность ребенка в контактах со взрослыми. И это выражается<br />
в специфической активности младенца, которая проявляется ради самого контакта, а не для достижения какой-либо другой цели.<br />
Выяснено [1; 63], что между седьмым и двенадцатым месяцами жизни жесты младенца в 4 раза больше адресованы людям, чем до<br />
6 месяцев и на 1/3 чаще, чем на втором году жизни. На положительном эмоциональном фоне общения возможно развитие<br />
познавательной активности ребенка. Более того, есть исследования (М.И.Лисина, М.Ю.Костяковская, Дж. Боулби и др.), свидетельствующие<br />
о том, что недостаток общения детей раннего возраста приводит к резкому отставанию их в физическом и психическом<br />
развитии даже при условии достаточного медицинского наблюдения и хорошего питания.<br />
Следует заметить, что уже в конце первого года жизни выявляются индивидуальные особенности в эмоциональной сфере<br />
малышей, обусловленные особенностями их жизни. И какой будет основной эмоциональный фон, зависит от пройденного этапа<br />
развития.<br />
Итак, в периоде от рождения до года можно выделить основные условия развития: обеспечение положительной эмоциональной<br />
атмосферы и достаточное конструктивное общение с ребенком.<br />
На втором году жизни ребенка привлекает предметный мир. Овладев при помощи взрослого основными способами действий<br />
с предметами, а главное – ходьбой, малыш начинает самостоятельно познавать мир. Но и тут необходима помощь взрослого, так как<br />
в центре внимания ребенка – способы действий с предметами, которые применяют люди. Интересно, что ребенок осваивает не<br />
только те действия, которыми его обучали, но и те, которые он просто наблюдал. Поэтому и помощь может быть в виде<br />
ненавязчивого примера. Ходьба дает возможность ребенку не только осваивать пространство, но манипулировать с предметами:<br />
приближаться к ним или отдаляться, осматривать их в разных ракурсах, подлазить (или залазить) под них, обходить с разных<br />
сторон. Важно, что, действуя с предметами, малыш начинает делать первые обобщения, перенос действий, выделять качества<br />
предметов (цвет, размер, форма), замечать пространственные перспективы. Очевидно, что теперь, на втором году жизни, психическое<br />
развитие ребенка зависит от того, как реализуются его возможности и потребности в предметной деятельности, которая является<br />
ведущей в этом возрасте. И именно на этой основе начинает развиваться активная речь. До двух лет ребенок понимает все слова, относящиеся<br />
к его близкому окружению, благодаря тому, что взрослые постоянно их произносят. Освоение речи – качественно новый<br />
период в познавательной деятельности ребенка, который он проходит вместе со взрослым.<br />
Развитие речи – основная линия психического развития ребенка третьего года жизни.<br />
Этапы развития речи детей раннего возраста хорошо изучены. Хотелось бы обобщить: ребенок на конец третьего года жизни<br />
практически овладевает основными синтаксическими конструкциями, граматическими формами, системой звуков родного языка<br />
(хотя и не все может выговаривать). Речь для него – средство общения и познания, способ выражения эмоций и регулирования<br />
собственных действий. Интересно, что речь ребенка базируется не столько на грамматике, сколько на смысле, который отражает<br />
набор основных понятий о мире, приобретенный ребенком [7; 425]. Изучено и доказано, что недостатки в речевом развитии<br />
54
отрицательно влияют на общее психическое развитие ребенка, на его поведение и характер. Особенное влияние развитие речи<br />
оказывает на умственное развитие ребенка. При помощи символов язык и мышление ребенка переплетаются столь прочно, что их<br />
почти невозможно разделить. С этого момента его знания об окружающем мире меняют свою основу: вместо сенсорного и<br />
моторного опыта они отныне базируются на операциях с символами. С этой поры ребенку уже нет необходимости обучаться только<br />
на действительном опыте – обучение может проходить и с помощью языка. Но в то же время прежние механизмы сенсо-моторного<br />
познания продолжают играть решающую роль в организации детского опыта,а действие еще долгое время остается центральной<br />
частью его понятийной структуры.<br />
Итак, мы выделили основные этапы развития детей раннего возраста, особенности их развития, основные доминанты в<br />
содержании образования. Основываясь на этом, построим различные модели образовательного пространства, учитывая цели воспитания.<br />
Модель, которую можно назвать “Самостоятельное развитие”. Предполагает в основном физический уход за ребенком<br />
(особенно на первом году жизни). Взрослые, которые следуют этой модели образования, считают, что дитя слишком маленькое,<br />
чтобы его поддавать целенаправленному воспитательному воздействию. Поэтому общение сводится к пеленанию, кормлению,<br />
прогулкам и т. д. Цель воспитания – физическое здоровье ребенка. Эмоциональное общение и развитие познавательной деятельности<br />
в этом случае минимально. В результате ребенок вынужден развиваться самостоятельно, без психологической помощи близких<br />
взрослых. Основываясь на предыдущих фактах, считаем этот подход преступным по отношению к ребенку.<br />
Модель “Форсированное умственное воспитание”. Прямая противоположность предыдущей модели. Тут цель воспитания –<br />
создание условий для раннего интеллектуального развития, воспитание вундеркинда. Приверженцы этой образовательной модели<br />
нанимают учителей иностранного языка почти с самого рождения ребенка, водят его на развивающие занятия с года, помогают<br />
осваивать компьютер с двух лет. Интеллектуальное развитие ставится во главу угла. Иногда оно осуществляется параллельно с<br />
развитием талантов (музыкального, художественного, поэтического и др.). Идея та же – форсирование развития ребенка без учета<br />
его возможностей и способностей. Взрослые иногда забывают о других сферах личности (эмоциональное, душевное, духовное<br />
развитие). И мало учитывают личностные особенности развития ребенка. Результатом чаще всего бывает ранняя усталость (“эмоциональное<br />
выгорание”) ребенка, различные комплексы (если не может оправдать ожиданий родителей), протест в подростковом<br />
возрасте [6,8]. Наблюдается и обратный результат: чрезмерная нагрузка расшатывает психику, что ведет к замедлению умственного<br />
развития [11; 392].<br />
Какой же выход? Один из выходов – использование модели “Эмоциональное воспитание”, которая наиболее соответствует<br />
возрастным возможностям детей до трех лет.<br />
В частности, японский педагог и психолог Масару Ибука писал в своей книге “После трех уже поздно” о том, что ключ к<br />
развитию умственных способностей ребенка – это личный опыт познания в первые три года жизни, т.е. в период интенсивного<br />
развития мозговых клеток, когда возникает 70 – 80 % всех соединений. Невмешательство взрослого в процесс раннего развития,<br />
пуск его “на самотек”, а затем давление на ребенка в более позднем периоде – скорый путь погубить заложенные в нем таланты и<br />
породить энергию сопротивления. Социально-психологическую атмосферу в японских детских садах можно охарактеризовать как<br />
созидательную и радостную. В ней нет места скуке, подавленности, депрессии или агрессии. В качестве основных целей<br />
воспитания в японском детском саду выделяют:<br />
• формирование навыков самостоятельной деятельности;<br />
• формирование группового сознания;<br />
• научение социальной ответственности.<br />
Остановка на японской педагогике и психологии дает нам возможность увидеть “эмоциональную образовательную модель”.<br />
Эта модель доказывает, что лишение ребенка “эмоционального детства” и превращение его в раннего “всезнайку” не всегда делает<br />
детей счастливыми, умными, успешными во взрослой жизни. Ведь японцы, как известно, одна из самых интеллектуальных наций<br />
в мире. И они именно через развитие эмоций и социальных чувств в детстве выходят к креативным вершинам в зрелом возрасте.<br />
Необходимо помнить, что дети раннего возраста могут переживать и негативные эмоции, такие как страх, обидчивость, застенчивость,<br />
агрессивность, зависть, ревность и т. д. Эти эмоции являются реакцией на неблагополучную атмосферу вокруг ребенка.<br />
Важным в этой модели представляется нам и рассмотрение факторов, влияющих на формирование привязанности в диаде<br />
“мать – дитя”. Способность к формированию привязанности у ребенка во многом обусловлена условиями жизни и зависит от чувствительности<br />
окружающих взрослых к потребностям ребенка и от социальных установок родителей.<br />
Детско-материнская привязанность возникает еще внутриутробно, на основе пренатального опыта. Важную роль в формировании<br />
материнских чувств у беременных женщин играют телесные и эмоциональные ощущения, возникающие в процессе вынашивания<br />
будущего ребенка. Эти ощущения принято называть телесно-эмоциональным комплексом. Последний представляет собой комплекс<br />
переживаний, связанных с эмоционально-положительной оценкой телесной измененности беременной женщины. В сознании<br />
будущей матери намечается телесно-чувственная граница между своим телом и плодом, способствующая возникновению образа<br />
ребенка. При вынашивании нежелательной беременности образ младенца, как правило, не интегрируется и психологически<br />
отторгается. Ребенок, в свою очередь, уже в пренатальном периоде способен воспринимать изменения эмоционального состояния<br />
матери и реагировать на него изменением ритма движений, сердцебиений и др.<br />
На формирование детско-материнской привязанности влияют отношения между супругами. Родители, которые несчастливы в<br />
браке к моменту рождения ребенка, как правило, малочувствительны к его потребностям, имеют неверное представление о роли<br />
взрослых в воспитании детей, не способны устанавливать со своими детьми тесные эмоциональные отношения. Эти родители<br />
гораздо чаще, чем те, кто счастлив в браке, считают, что их дети обладают “трудным характером”.<br />
В нормальном эмоциональном окружении ребенок чаще всего бывает жизнерадостен и дружелюбен. По наблюдениям<br />
психологов, ребенок уже на втором году умеет сопереживать радость (сопереживание горю возникает позже). Эмоциональное<br />
развитие и воспитание в недалеком прошлом было одним из важных аспектов изучения педагогической и психологической науки.<br />
Вспомним теорию “завтрашней радости” А.С.Макаренко, педагогические системы В.А.Сухомлинского и Ш.А.Амонашвили. Психологический<br />
круг радости, в котором обязательно должен находиться ребенок раннего возраста для своего полноценного развития,<br />
обеспечивает многоплановость образовательного воздействия. Современные нейрофизиологи пришли к выводу, что радостных<br />
позитивных ощущений должно быть в три раза больше, чем отрицательных. Иначе организм переживает жизнь как катастрофу и<br />
все равно ищет источники радости (например, у детей: тяга к сладкому, онанизм, взрослых: пьянство, наркомания и др.).<br />
Создание круга радости, воспитание души, поиск заложенного в ребенке Творцом реализуется в модели “Духовно-душевное<br />
воспитание”. На наш взгляд, эта модель наиболее гармонична и целостна. Она включает в себя обязательное эмоциональное и<br />
нравственное воспитание, развитие талантов, формирование тех базисных основ личности, которые помогут развить душу.<br />
Согласно этой модели, становление ребенка начинается с момента зачатия [2]. Внутриутробное становление – это прежде всего запечатление<br />
душевных сил матери. Ребенок внутренним, духовным зрением “запоминает'' состояние души мамы, ее реакции на<br />
окружающее – и это впоследствии становится его эмоциональной реакцией на жизненные ситуации.<br />
55<br />
Pedagogical sciences<br />
Actual problems of modern pedagogics
Pedagogical sciences<br />
Согласно предложенной нами модели «духовно-душевное воспитание» человек рождается с определенным талантом, которым<br />
наградил его Господь. Талант как Божий дар, надо развивать и приумножать (вспомним притчу о талантах). Роль взрослого –<br />
определить, каким талантом одарен ребенок и создать условия для его развития [9]. Под основным условием понимается создание<br />
атмосферы любви, тепла, взаимопонимания, взаимовыручки и трудолюбия. Воспитание имеет двоякую задачу: прививать добро и<br />
искоренять зло. Чем младше ребенок, тем больше путь воспитания проходит через эмоции, чем старше – через рассудок.<br />
Нравственные основы личности закладываются именно в раннем возрасте. “Вооружись оружием, имя которому – любовь”<br />
(святитель Николай Сербский). Наградой будет позитивная Личность с креативным мышлением и конструктивным подходом в<br />
решении жизненных ситуаций, Личность, которая идет путями Истины.<br />
Особое значение при выборе этой образовательной модели уделяется воспитанию душевных качеств личности. Как говорил<br />
апостол Павел: “Вначале душевное. Потом – духовное”. Воспитывая в ребенке добродетели, мы закладываем в нем духовную<br />
основу [10]. Среди тех добродетелей, которые следует воспитывать с раннего детства, основными есть: трудолюбие, сорадование и<br />
сострадание к ближним, сопереживание чужой беде, совестливость, правдивость, ответственность за свои поступки и слова.<br />
Если эти качества станут для наших детей ценностым ориентиром в дальнейшей жизни, тогда изменится и смысл жизни и сама<br />
жизнь общества.<br />
Литература:<br />
1. Вікова психологія // за ред. дійсного члена АПН УРСР Г.С.Костюка. – К.: Рад.школа, 1976.<br />
2. Гармаев Анатолий, священник. Этапы нравственного развития ребенка. – Мн.: Лучи Софии, 2005.<br />
3. Гончаренко Семен. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997.<br />
4. Забродин Ю.М., Потемкина О.Ф., Рубахин В.Ф. Слойно-ступенчатая модель переработки информации человеком //<br />
Когнитивная психология. Материалы финско-советского симпозиума. – М.: Наука, 1986.<br />
5. Клаус. Г. Кибернетика и общество. – М.: Прогресс, 1967.<br />
6. Куртышева М.А. Как сохранить психологическое здоровье детей. – СПб.: Питер, 2005.<br />
7. Линдсей П., Норман Д. Переработка информации у человека / Под ред. А.Р.Лурия. – М.: Мир, 1974.<br />
8. Микиртумов Б.Е., Кощавцев А.Г., Гречаный С.В. Клиническая психиатрия раннего детского возраста. – СПб: Питер, 2001.<br />
9. О таланте и смысле жизни. – М.: Даниловский благовестник, 2009.<br />
10. Ткачев Андрей, протоиерей. Дохристианское воспитание. – К.: Из-во Свято-Троицкого Ионинского монастыря, 2008.<br />
11. Шишова Т.Л. Чтобы ребенок не был трудным. – Клин: Христианская жизнь, 2007.<br />
UDC 378.147:802.0<br />
DEFINITION AND ESSENCE OF THE CONSTRUCTIVIST APPROACH TO TEACHING FOREIGN LANGUAGES<br />
FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION<br />
Tarnopolsky O.B., Dr. of Pedagogy, Prof.<br />
Dnepropetrovsk Alfred Nobel University, Ukraine<br />
Conference participant,<br />
National championship in scientific analytics,<br />
Open European and Asian research analytics championship<br />
The paper discusses the constructivist approach to teaching/learning foreign languages (in particular, English) for<br />
professional communication – especially at tertiary schools. The origin and the essential features of the constructivist<br />
approach to teaching/learning foreign languages are analyzed and the definition of the approach for teaching ESP (English<br />
for Specific Purposes) at tertiary schools is formulated.<br />
Keywords: constructivist approach to teaching/learning foreign languages, blended learning, experiential learning,<br />
interactive learning, content-based instruction.<br />
Actual problems of modern pedagogics<br />
The literature on the topic of constructivist teaching/learning of foreign languages for professional communication (in particular, at<br />
tertiary schools) is quite limited, if existing at all. However, constructivism is probably one of the most efficient approaches to such teaching<br />
– for instance, to teaching English for Specific Purposes (ESP), especially when it concerns teaching ESP to tertiary school students. It is so<br />
because under the conditions of constructivist teaching/learning the process of acquiring a foreign language for professional communication<br />
becomes quite similar to the process of learning majoring disciplines, thus turning it into an organic constituent of professional training.<br />
Unlike the literature on constructivist language teaching/learning, the literature on the constructivist approach in general is quite<br />
voluminous, and the origin of the approach is far from being recent. In fact, four names can be cited as the creators of the approach: Jean<br />
Piaget, who is its founder, Lev Vygotskii, Jerome Bruner, and John Dewey.<br />
The theory of child development by Jean Piaget [10] is based on the assumption that through processes of accommodation and<br />
assimilation children construct new knowledge from their experience mostly acquired when playing. Every separate piece of new experience<br />
is incorporated into the existing framework which is in constant process of construction and reconstruction in accordance with the experience<br />
being gained.<br />
Following the same line of thinking, Lev Vygotskii [12] defined successful human learning and development as the outcome of a social<br />
process of constructing knowledge and skills from experiential activities. A child cannot do such activities totally independently but they<br />
become accessible when done more or less autonomously in collaboration with an adult who provides general guidance and prompts (the zone<br />
of proximal development – c.f. also [13, p. 40]).<br />
Finally Jerome Bruner [2] proposed three modes of representation in human learning and development: enactive representation (actionbased),<br />
iconic representation (image-based), and symbolic representation (language-based). According to Bruner, even for adult learners it is<br />
best, when faced with new material, to proceed from enactive to iconic to symbolic representation. That again means the domination of<br />
practical experience through which knowledge and skills are constructed and which lies at the foundation of all human developmental and<br />
cognitive processes.<br />
Thus, it may be said that, according to the constructivist theory, humans gain their knowledge and skills from an interaction between their<br />
56
experiences (mostly social, i.e., generated in contacts and collaboration with other people) and their ideas. The ideas themselves are generated<br />
from experience (first of all, social experience) and are used to create frames into which new pieces of experience are introduced, generating<br />
new ideas that, in their turn, often modify or even totally change the existing frames, and so ad infinitum. Therefore, the basis of constructivist<br />
learning theory is the belief that human learning occurs only through experience – mostly practical experience. It is following this assumption<br />
that John Dewey [3] developed the first pedagogical constructivist approach to teaching and learning that he called learning by doing. It is<br />
based on learning not through theory but through the experience of real-life or modeled practical activities in the course of which knowledge<br />
is used as the means or tools for those activities. As a result of using knowledge in practical activities, it is not simply learned but internalized,<br />
or appropriated, by learners, i.e., acquired much better and more efficiently (and with less efforts) than in the traditional learning process.<br />
Actually, it is learning by doing, or learning through practical experience (experiential learning – c.f. [8]) developed by Dewey that underlies<br />
all kinds of constructivist learning, including the type of learning a foreign language for professional communication discussed in this paper.<br />
In fact, all approaches to teaching/learning based on constructivism, even the most recent ones, such as constructionism developed by<br />
Papert and Harel [9], derive from the set of ideas discussed above, primarily from the ideas of Jean Piaget and John Dewey.<br />
In general, according to everything said above, the constructivist approach to teaching/learning any subject (including foreign languages<br />
and ESP among them) may be defined as the approach providing students with opportunities of constructing their own knowledge and skills<br />
through practical experience in real-life or modeled activities. In this case, students acquire their knowledge and skills as a by-product of their<br />
real-life or modeled activities, thus internalizing (appropriating) the knowledge and skills and not just learning them. Such an approach is<br />
also sometimes called social constructivist approach in psychological literature [13].<br />
The definition of constructivist foreign language teaching/learning has to be just one particular case of the general definition above, i.e.,<br />
be within the boundaries of that definition. However, in the case discussed in this paper the constructivist approach developed by us for<br />
teaching ESP to Ukrainian tertiary school students was not only constructivist but a constructivist blended ESP teaching/learning. That is why<br />
before proceeding to formulating the definition being sought, the definition of blended learning should be given.<br />
According to Encyclopedia of Educational Technology [4], the concept of blended learning grew out of the practical experience in e-<br />
learning. The experience demonstrated that only some but not all instruction is appropriate for online delivery. There are many contexts in<br />
which learning occurs best if the combination of traditional classroom and web-based training is provided. That is exactly what blended<br />
learning does, combining “… e-learning with a variety of other delivery methods for a superior learning experience” [5, p.1].<br />
How exactly learning time is shared between classroom training and online training in blended learning situations (what the optimal blend<br />
is) is an open question and it may have an infinite variety of answers depending on what is being learned, for what purposes, by what category<br />
of students, under what circumstances, in what conditions, etc. But in all cases, blended learning has the advantage of being much more<br />
flexible than traditional learning. The flexibility is due to the fact that in blended learning a substantial part of instruction is delivered through<br />
online resources saving classroom time and intensifying learning because learners can acquire more knowledge faster and easier than they<br />
would have done in traditional learning situations. That is the key to improving training, especially practical training. As Gray [5, p.1] points<br />
out, “With blended learning, the tried-and-true traditional learning methods are combined with new technology to create a synergistic,<br />
dynamic learning structure that can propel learning to new heights”.<br />
Thus, blended learning can be defined as a synergic learning structure, dynamically and organically combining into an indivisible unity<br />
traditional classroom learning with online learning for creating a more flexible learning environment with the purpose of intensifying and<br />
facilitating the practical training process.<br />
Blended learning is primarily designed for practical training which, by the way, makes it so popular in different kinds of corporate training<br />
programs and in teaching Business English for practical use [5; 11]. But ESP teaching at tertiary schools is also based on practical training<br />
programs that develop students’ practical target language professional communication skills. If such training programs are designed following<br />
the constructivist approach as it is defined above, it will mean that students will acquire the target language and communication skills in it<br />
mostly through real-life or modeled professional activities and professional communication in that language. In such a situation, it is quite<br />
rational to combine the constructivist approach with blended learning because it is only the online resources which blended learning activates<br />
in the learning process that may provide sufficient authentic materials for modeling professional activities and professional target language<br />
communication in the classroom. This is the principal reason for developing the advocated constructivist blended learning approach to ESP<br />
teaching/learning at tertiary schools.<br />
Having determined that and on the basis of the two definitions (of the constructivist approach in general and of blended learning) given<br />
above, the definition of the constructivist blended learning approach to ESP teaching/learning at tertiary schools may be formulated.<br />
It should again be emphasized that the definition being sought must, on the one hand, be within the scope of the given definitions of the<br />
constructivist approach and blended learning. But, on the other hand, such a definition is supposed to clearly reflect the specificity of ESP<br />
teaching/learning at tertiary schools. Both these requirements are met by the following definition:<br />
The constructivist blended learning approach to ESP teaching/learning at tertiary schools gives students opportunities of constructing<br />
themselves their own knowledge and communication skills in English through experiential and interactive learning activities modeling the extra-linguistic<br />
professional reality for functioning in which the target language is being learned. Knowledge and skills constructing is done in<br />
such a way that from the very beginning those skills and knowledge serve professional communication in English and improve and expand the<br />
information basis of that communication. Besides, successful knowledge and skills constructing is achieved owing to students’ regular Internet<br />
research on professional sites in English when that research becomes an organic and unalienable part of the learning process no less<br />
important than more traditional in-class and out-of-class activities (blended learning).<br />
The definition above emphasizes the four basic features of the constructivist blended learning approach to ESP teaching/learning at<br />
tertiary schools developed by us:<br />
1. The experiential nature of ESP learning activities [6; 7] which, by modeling extra-linguistic professional reality, ensure that students<br />
experience their personal functioning in that modeled reality using the target language for such functioning (profession-oriented communication<br />
in the target language). Thereby, professional communication skills are subconsciously constructed by students in the process of quasiprofessional<br />
experience and communication. This subconscious construction intensifies and facilitates acquisition thanks to the fact of its<br />
being subconscious and, therefore, practically effortless.<br />
2. The interactive nature of experiential learning activities that students mostly do in active creative interaction not only with each other<br />
and the teacher but also with the real-life (professional) environment/real-life (professional) sources of information (found on the Internet).<br />
3. From the very beginning, constructing target language communication skills is inextricably connected with the students’ future<br />
profession, i.e., with their tertiary school majors. It is achieved through integrating the learning content in the ESP course with the content of<br />
students’ majoring disciplines which provides for improving and expanding the informational basis of professional communication in the<br />
target language. In this way the language instruction turns into content-based one [1].<br />
4. Integrating the learning content in an ESP course with the content of students’ majoring disciplines and, thereby, integrating the process<br />
of studying ESP with the process of studying majoring disciplines is achieved to a great extent thanks to students’ regular Internet research on<br />
professional sites in English. Such in- and out-of-class research becomes an integral and inalienable part of the process of learning (blended<br />
57<br />
Pedagogical sciences<br />
Actual problems of modern pedagogics
Pedagogical sciences<br />
learning in language teaching – c.f. [11]). It combines traditional classroom and online teaching/learning techniques into one single synergic<br />
structure that makes the teaching/learning (and acquisition) process more flexible and less effort-demanding for students. That allows for<br />
intensifying this process.<br />
The four basic features indicated above determine the practical implementation of the constructivist approach to ESP teaching/learning at<br />
tertiary schools. First, they presuppose designing the teaching/learning process mostly on experiential and interactive learning activities, such<br />
as: role playing professional situations in the target language; simulating professional activities in the target language; project work (when<br />
students do profession-oriented learning projects using the target language for doing such projects); brainstorming. case studies, and<br />
discussions on professional issues in the target language; students’ presentations on some professional issues delivered in the target language;<br />
students’ search for professional extra-linguistic information through target language sources (Internet, audio, audio-visual, and printed ones),<br />
that search being undertaken for finding some particular information required for doing profession-oriented learning assignments. Second,<br />
they presuppose specific selection of learning contents based on the requirements of professional content to be acquired through the media of<br />
the target language and not on the requirements of the system of that language. Finally, they turn students’ Internet research on professional<br />
target language websites into a mandatory and regular learners’ activity done both in and out of class.<br />
The above listed requirements to practical implementation of the constructivist approach in the process of ESP teaching to students of<br />
tertiary schools are the practical conclusions from the analysis of the approach conducted in this paper.<br />
References:<br />
1. Brinton, D.M., Snow, M.A., & Wesche, M.B. (1989). Content-Based Second Language Instruction. New York:<br />
Newbury House Publishers.<br />
2. Bruner, J.S. (1966). Toward a Theory of Instruction. Cambridge, MA: Harvard University Press.<br />
3. Dewey, J. (1938). Experience and Education. New York: Collier.<br />
4. Encyclopedia of Educational Technology (undated). Blended Learning: Choosing the Right Blend. Encyclopedia General Editor, Bob<br />
Hoffman. A publication of San Diego State University, Department of Educational Technology, http://coe.sdsu.edu/eet/articles/blendlearning/index.htm.<br />
Accessed April 2005.<br />
5. Gray, C. (2006). Blended Learning: Why Everything Old Is New Again—But Better. Accessed July 2006 at<br />
http://www.learningcircuits.org/2006/March/gray.htm.<br />
6. Freeman, D.E., & Freeman, Y.S. (1994). Between Worlds. Access to Second Language Acquisition. Portsmouth, NH: Heinemann.<br />
7. Jerald, M., & Clark, R.C. (1994). Experiential Language Teaching Techniques. Out-of-Class Language Acquisition and Cultural<br />
Awareness Activities. Resource Handbook Number 3. Second revised edition. Bratleboro, Vermont: Prolingua Associates.<br />
8. Kolb, D. (1984). Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.<br />
9. Papert, S., & Harel, I. (Eds). (1991) Constructionism: Research Reports and Essays 1985-1990 by the Epistemology and Learning<br />
Research Group, the Media Lab, Massachusetts Institute of Technology, Ablex Pub. Corp., Norwood, NJ.<br />
10. Piaget, J. (1950). The Psychology of Intelligence. New York: Routledge.<br />
11. Sharma, P., & Barrett, B. (2007). Blended Learning. Using Technology in and beyond the Language Classroom. Oxford: Macmillan.<br />
12. Vygotskii, L.S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Mental Processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.<br />
13. Williams, M., & Burden, R.L. (2007). Psychology for Language Teachers: A Social Constructivist Approach. Cambridge: Cambridge<br />
University Press.<br />
НЕМЕЦКАЯ МОДЕЛЬ ГУМАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ<br />
Шаяхимова Р.К., аспирант<br />
Кокшетауский Государственный Университет им. Ш. Уалиханова, Казахстан<br />
Участник конференции<br />
Национального первенства по научной аналитике<br />
Открытого Европейско-Азиатского первенства по научной аналитике<br />
The article is devoted to the idea of humanization of pedagogical education in modern Germany. The article distinctly reveals the<br />
developed and established conception of professional-pedagogical training of teachers, which is oriented at the idea of humanistic pedagogy<br />
and psychology.<br />
Innovational processes in education<br />
В основе гуманистической системы педагогического образования лежат следующие идеи: личностный подход к образованию<br />
(«признание личности развивающегося человека высшей социальной ценностью); уважение уникальности и своеобразия каждого<br />
ребенка, подростка, молодого человека, признание их социальных прав и свобод; ориентация на личность-результат и показатель<br />
эффективности воспитания; опора в воспитании на со-вокупность знаний о человеке, на естественный процесс саморазвития формирующейся<br />
личности, на знание закономерностей этого процесса») [1].<br />
Немецкая философия XIX в. в лице И Канта, В Гербарта, А Дистерверга выдвинула и обосновала идею гуманистического<br />
образования личности и ее самосознания, предложила пути реформирования системы и школьного, и университетского образования<br />
[2]. Ситуацию, сложившуюся в сфере образования и подготовки учителей, можно обозначить как ориентированную на идеалы гуманистической<br />
педагогики и психологии. В этом отношении состояние немецкой школы отражает ведущие тенденции развития<br />
мирового педагогического процесса. В настоящее время гуманистическая ориентация оказывает огромное влияние на развитие образования,<br />
особенно в сфере подготовки учительских кадров, выдвигая новый идеальный образ учителя. Ее сторонники считают,<br />
что школа должна давать не только знания, формировать умения и навыки, но, прежде всего, обеспечить самоопределение и самореализацию<br />
личности, готовить детей к жизни в эпоху быстрых социокультурных перемен, в условиях динамичного информационного<br />
общества. Это порождает необходимость в самоидентификации и самоактуализации для каждого человека, в способности человека<br />
сохранять личностный стержень, дабы не утратить свое «Я», не превратиться в прагматика-конформиста. Представители<br />
гуманистической педагогики полагают, что одного интеллекта недостаточно для того, чтобы решать мно-гочисленные проблемы,<br />
стоящие перед любым государством, обществом, цивилизацией. Необходим человек, способный не только мыслить, но и<br />
чувствовать, переживать, действовать, обладающий развитой интеллектуальной, эмоциональной, волевой сферами [3].<br />
58
Адольф Дистервег в свое время воспринял гуманизм Лессинга, Гердера, Шиллера, Гете. Корни его мировоззрения - в<br />
просветительной и гуманистической литературе XVIII в. Он защищал идею общечеловеческого воспитания [4, 747].<br />
Человек как самоцель развития, как критерий оценки социокультурного процесса представляет собой гуманистический идеал<br />
происходящих в стране преобразований. Поступательное движение к этому идеалу связано с гуманизацией жизни общества, в<br />
центре планов и забот которого должен стоять человек с его нуждами, интересами, потребностями. Поэтому гуманизация<br />
образования рассматривается как важнейший социально-педагогический принцип, отражающий современные общественные<br />
тенденции в функционировании системы образования.<br />
Гуманизация - ключевой элемент педагогического мышления, утверждающего полисубъектную сущность образовательного<br />
процесса. Основным смыслом образования при таком подходе становится развитие личности, что означает изменение задач,<br />
стоящих перед педагогом. Гуманизация требует изменения отношений в системе «учитель - ученик» - установления связей<br />
сотрудничества [5].<br />
Гуманизация образования предполагает единство общекультурного, социально -нравственного и профессионального развития<br />
личности. Данный социально-педагогический принцип требует пересмотра целей, содержания и технологии образования в целом'.<br />
В основе гуманистически ориентированного образования лежат особого типа отношения сотворчества, сотрудничества,<br />
уважения, искренности, подлинности. В решении этих задач образования на первый план выдвигается подготовка учителя,<br />
способного реализовывать в своей профессиональной деятельности основополагающие принципы гуманистической педагогики.<br />
Опыт Германии в организации высшего педагогического образования показывает, что из всех стран Западной<br />
Европы именно здесь гуманистическая педагогика получили свое наибольшее распространение. Это можно объяснить<br />
рядом причин, среди которых и мощный пласт культурно-педагогических традиций, и стремление преодолеть<br />
последствия господствовавщей фашистской идеологии, и реакция на потребности постиндустриального общественного<br />
сознания, и высокий потенциал экономического и образовательного развития общества и европейских стран в целом,<br />
среди которых Германии принадлежит одно из первых мест.<br />
Система высшего педагогического образования в Германии во все возрастающей степени испытывает влияние<br />
гуманистической педагогики. Во-первых, это целая сеть семинаров, учебных центров и курсов, готовящих учителей.<br />
Примером тому могут быть семинары Вальдорфской школы, имеющие широкое распространение в землях Германии. Вовторых,<br />
это изменение учебных планов и программ высших педагогических учебных заведений в сторону увеличения разнообразных<br />
практико-ориентированных форм и методов обучения студентов, углубленное ознакомление с психологией<br />
личности, педагогической психологией. В-третьих, это изменение соотношения фундаментального и специального образования<br />
в университетах Германии, когда время профессиональной специализации должно наступать только после занимающего<br />
более трех лет периода освоения учащимися основ и навыков фундаментальных наук. В-четвертых, определенные изменения<br />
претерпевает политика и философия образования в Германии. Неотложное и необходимое в наше время изменение<br />
политической парадигмы влечет за собой и изменение парадигмы образования, что связано со сменой антропоцентрической<br />
точки зрения на биоцентрическую во всех областях функционирования общества.<br />
Таким образом, изучение и развитие наук о природе человеческих отношений, этике поведения, языке общения<br />
сделают личность более чувствительным к проблемам его будущей профессиональной деятельности. Одним из<br />
центральных пунктов любой педа-гогической концепции является проблема учителя. Ситуацию, сложившуюся в<br />
сфере образования и подготовки учителя в Германии, можно обозначить как ориентированную на идеалы гуманистической<br />
педагогики и психологии. В этом плане состояние немецкой школы отражает ве¬дущие тенденции развития мирового<br />
педагогического процесса [6].<br />
В педагогической печати Германии «Die deutsche Schule», «Westermanns Pädagogische Beitrage», «Bildung und Erziehung»,<br />
«Zeitschrift für Psychologie», « Zeitschrift für Pädagogik» ведутся широкие дискуссии о новом профессиональном облике учителя.<br />
В семидесятые годы, в связи с повышением теоретического содержания, в двухфазовой модели системы практический<br />
подготовки учителя, которая сложилась в первой половине XIX века, цели первой фазы стали сводиться преимущественно к<br />
решению задач собственно теоретической подготовки, а вся тяжесть практического обучения переносилась на вторую фазу. В<br />
результате разрыв между двумя фазами и их целевым назначением углубился, хотя ни один из элементов системы не выпал.<br />
Каждый элемент этой системы существует в том же виде и сейчас, но они находятся в постоянной динамике.<br />
Важным сдвигом в организации педагогического образования явилось объединение педвузов с университетами.<br />
Так, на западе страны в качестве самостоятельных учреждений педвузы сохранились лишь в трех землях, примером<br />
тому может быть Высшая педагогическая школа в Киле (земля Шлезвиг-Гольштейн). Университеты превратились в<br />
ведущее звено подготовки педагогических кадров. Это позволено приблизить стиль в специальной вузовской<br />
подготовки учителей массовой школы к характеру подготовки кандидатов на должность учителя гимназии. Вся<br />
система педагогического в университетах нацелена прежде всего на скорейшее приобщение выпускников к практической<br />
деятельности. Такой подход характерен для многих развитых в экономическом отношении стран.<br />
Гуманистическая теория в Германии получило исключительно широкое распространение, оказывая заметное влияние на<br />
характер целей, содержание, формы и методы профессиональной подготовки. Особое значение приобретают три педагогических<br />
течения. Одно из них с ее непримиримой критикой традиционных методов к воспитания получило название «антипедагогической».<br />
В ее основе лежат идеи «антиавторитарного» воспитания выдающегося немецкого педагога Ф. Шлейермахера, разработанные в<br />
первой трети XIX столетия. Второе течение базируется на личностно-центрированной концепции американского психолога, долгое<br />
время преподававшего в ФРГ, Карла Роджерса. Немецкие педагоги, опирающиеся на личностно-центрированную концепцию К.<br />
Родждерса, рассматривают вопросы подготовки «гуманистического учителя» как сложный противоречивый процесс самореализации,<br />
глубокого самопознания и раскрытия его подлинного «Я».<br />
Третье течение в рамках гуманистического направления связано с именем Рудольфа Штейнера, который создал антропофилософии,<br />
и на ее основе разработал оригинальную педагогику вальдорфской школы. Представители педагогики вальдорфской школы ставят<br />
в центр педагогического процесса ребенка, избегая авторитарного вмешательства в его хрупкий внутренний мир в процессе<br />
развертывания его потенций.<br />
Именно то, что представители всех трех течений в качестве педагогического идеала выдвигают идею самореализации человека<br />
как высшей ценности, ставят в центр педагогического процесса самого ребенка, уделяя особое внимание его саморазвитию,<br />
является основой гуманистической педагогики. Представители гуманистической концепции подготовки учителя убеждены, что для<br />
того, чтобы быть успешными в педагогической деятельности, подлинные учителя должны обладать не только знанием предмета, но<br />
и самым точным пониманием людей, их психики и поведения. Учитель, верящий в способности своих учеников, приступает к<br />
решению педагогических задач с уверенностью в успехе своем и своих учеников. Таким образом, в современной Германии<br />
отчетливо проявляется вы¬работанная и устоявшаяся уже концепция профессионально-педагогической подготовки учителя,<br />
которая все в большей степени ориентирована на идеи гуманистической педагогики и психологии.<br />
59<br />
Pedagogical sciences<br />
Innovational processes in education
Pedagogical sciences<br />
Литература:<br />
1. Успанов К.С. Теория и практика формирования профессионально значимых качеств у будущих учителей. - Алматы: Гылым,<br />
1998. - 228 с.<br />
2. Соколова Л. Б. Совместное обсуждение образования философами и педагогами — состоялось! Хроника научной жизни, httr://<br />
www. Credo.osu.ru.htm 1999.<br />
3. Рябов Л.П. Анализ позитивных изменений и иновационнных процессов в системах высшего профессионального образования<br />
развитых стран: США, Японии, Германии, Франции, Великобритании. —М., 2001.<br />
4. Педагогическая энциклопедия. Гл. ред. - А.И. Каиров и Ф.Н. Петров. - М: «Советская энциклопедия» 1964. -С. 747.<br />
5. Хмель Н.Д. Теоретические основы профессиональной подготовки учителя. -Алмагы: Гылым,, 19У8. - 320 с.<br />
6. Проблемы зарубежной высшей школы: Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования /<br />
НИИВО; Вып. 1-7. - М., 2002.<br />
FORMATION OF MODERN HIGHER EDUCATION SYSTEM OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN<br />
ON THE BASIS OF COMPETENCE-BASED APPROACH<br />
Shornikova O., senior lecturer<br />
Kokshetau State University named after Sh.Ualikhanov, Kazakhstan<br />
Conference participant,<br />
National championship in scientific analytics,<br />
Open European and Asian research analytics championship<br />
In the given article is considered the issues of modern condition and development of education in the Republic of Kazakhstan. It was held<br />
the great preparing work about entering to the Bologna process by all the organizations of higher education.<br />
High schools have to form the whole system of universal knowledge, habits and skills, also self-activities and personal responsibilities<br />
of students that is key competencies, determining modern quality of education. To carry out all these tasks are<br />
intended not only model structural, institutional, organizational-economic changes, but at first to make a new content of<br />
education. To make it in accordance with requirements of time and with the task of developing the country. That is why today<br />
in realization of competence approach needs the support on international experience, by the necessary adaptation to<br />
traditions and demands of Kazakhstan.<br />
Competence approach orients on such systems of providing with quality of preparing specialists of higher education, which can be<br />
answered to the modern world labour market.<br />
Keywords: the Bologna Process, competence, competence approach, higher education system.<br />
Innovational processes in education<br />
1. Introduction<br />
March 11, 2010 the Committee of Ministers of Education of the Bologna Process (46 countries) decided on Kazakhstan's joining the<br />
Bologna process.<br />
The aim of Kazakhstan's participation in the Bologna process - expanding access to European education, further enhancing its quality, as<br />
well as increasing the mobility of students and faculty through the adoption of comparable levels of higher education, the use of a credit<br />
system, the issue of graduates of universities of Kazakhstan European Diploma Supplement.<br />
Kazakhstan is the first country in Central Asia, a full member of the European educational space. It is certainly important in the<br />
international positioning of the national higher education.<br />
At present, Kazakhstan is becoming the new educational system oriented to entry into the world educational space. This process is<br />
accompanied by significant changes in educational theory and practice of the educational process. There is a change of educational paradigm<br />
assumed different approaches, a right, other relationships, other behavior, other pedagogical mentality.<br />
The Message of the President of the Republic of Kazakhstan N.A. Nazarbayev "Building the Future Together" education and training in<br />
the XXI century identified as the main priorities of state policy, which says in particular "Qualitative education should be the basis for<br />
industrialization and innovative development of Kazakhstan."<br />
Worldwide a new stage in the development of higher education is associated with the increasing role of university education. Today,<br />
universities have perceived not only as centers for training, but also as centers of innovational ideas that can carry out a scientific discovery<br />
moving the development of economic, social and policy in general. The head of state on this issue states: "We are obliged to provide a new<br />
level of development of university education and science. Today, based on the new "Nazarbayev University" forms an innovative model<br />
institution of higher education, oriented toward the market demands. It is intended to become a model for all high schools in Kazakhstan"<br />
(Nazarbayev, 2011).<br />
The State Programme of Education Development for 2011-2020 in the Republic of Kazakhstan determined a new goal of education -<br />
orientation on achieving concrete results, that the basis of education must be practically oriented training, bringing together most educational<br />
institutions with potential employers, combining educational and professional standards that regulated the training requirements demanded in<br />
the labor market of competent personnel. This interpretation of the aims of education, stimulated the key concepts in psychology and<br />
pedagogy as "competence," "competency," "competence approach", etc.<br />
2. Methodology<br />
Higher education plays an important role in professional training of competent and competitive specialists for all branches of the national<br />
economy in the integration of science and industry.<br />
At present it is possible to state with confidence that Kazakhstan has entered a period of successful experience in implementing the<br />
Bologna process and its adaptation to modern realities.<br />
It was done the following:<br />
1. worked out a system of events on realization of principles of the Bologna process in Kazakhstan<br />
2. developing a program of academic mobility of students and teachers<br />
3. introduced a credit technology of training,<br />
4. described Kazakhstan model of credit transfer system for ESTC,<br />
5. worked out a mechanism of formation of modular educational programs on the basis of competence-based approach taking into<br />
60
account the ECTS, describe their structure, it is given Methodical recommendations on construction of the module, worked out a scheme for<br />
the formation of competence modules.<br />
From September 1, 2011 Kazakhstan's higher education institutions have begun to create modular education programs and implement<br />
them in the learning process.<br />
Of course, all this will result in a change in teaching methods, procedures and assessment criteria, and generally change the entire<br />
paradigm of higher education.<br />
Activity on working out of educational programs due to the need to upgrade existing educational programs to bring them into conformity<br />
with the requirements of market economy and the labor market, the formation of European Higher Education Area. Bringing educational<br />
programs Kazakhstani universities in accordance with the educational programs of the European institutions is an effective tool for updating<br />
of existing training programs and obtains their international accreditation. Development of educational programs in accordance with the<br />
Dublin descriptors is of great importance for use in the organization of double diploma education, getting joint degrees, and for the<br />
modernization of Kazakhstan's higher education system as a whole, because they reflect all the necessary parameters of obtaining of qualifications.<br />
First of all, are interested in developing educational programs to the Dublin descriptors for the implementation of the Kazakhstan high<br />
schools.<br />
Higher school institutions of the Republic of Kazakhstan are training specialists with higher education in accordance with:<br />
- the state educational standards in the field of higher education, developed on the basis of this standard;<br />
- classifier of professions of higher and postgraduate education of the Republic of Kazakhstan;<br />
- working curriculum, academic calendar;<br />
- individual training plans of students;<br />
- training programs on disciplines.<br />
Educational programs are developed specialties of higher education institution itself, in accordance with the Dublin descriptors agreed by<br />
the European Qualifications Framework.<br />
Dublin Descriptors representing descriptions the level and volume of knowledge, skills and competencies acquired by students on<br />
completion of the educational program at each level (stage) of higher and postgraduate education based on learning outcomes formed by<br />
competencies, as well as total number of credit (credit) units ECTS.<br />
Structure of formation is formed of various types of educational activities determining content of education, and reflects their relationship<br />
and accounting.<br />
The educational program includes bachelor:<br />
- Theoretical training, which includes the study of cycles of general, basic and majors;<br />
- Additional types of training - different types of professional practices, physical education, military training, etc.;<br />
- Interim and final certification.<br />
Herewith bachelor educational programs are projected on the basis of a modular system of study subjects.<br />
General competence of higher education is formed on the basis of requirements to general education, social and ethical competencies,<br />
economic, organizational and managerial competencies, special competencies.<br />
Requirement for general education:<br />
- to have a basic knowledge in natural sciences (social, humanitarian, economic) disciplines that contribute to the formation of a highly<br />
educated person with broad outlook and culture of thinking;<br />
- to have the skills handling of modern technology, be able to use information technology in the field of professional activity;<br />
- to be able to acquire new knowledge to their daily professional activities and continuing education in magistracy.<br />
Requirements to social and ethical competencies:<br />
- to know the social and ethical values, based on public opinion, traditions, customs, social norms and focus on them in their professional<br />
activities;<br />
- to observe the standards of business ethics, have ethical and legal standards behavior<br />
- to know the traditions and culture of peoples of Kazakhstan;<br />
- to be tolerant to the traditions and culture of other nations;<br />
- to know the basics of the legal system and legislation of Kazakhstan;<br />
- to know the trends of social development;<br />
- to be able to adequately orient themselves in various social situations;<br />
- to be able to work in a team correctly defend their point of view, to offer new solutions;<br />
- to be able to find compromises, to relate their opinion with the opinion of the community;<br />
- to seek professional and personal growth.<br />
Requirements to economic, organizational and managerial competencies:<br />
- to have the basics of economic knowledge, a scientific understanding of management, marketing, finance, etc.;<br />
- to know and understand the goals and methods of state regulation of economy, the role of the public sector in the economy.<br />
Availability requirements change social, economic, professional roles, geographic and social mobility in terms of increasing the<br />
dynamism of change and uncertainty:<br />
- to be able to navigate in today's information flows and adapt to rapidly changing phenomena and processes in the global economy;<br />
- to be flexible and mobile in different conditions and situations related to professional activities;<br />
- to be able to economic decision-making and institutional arrangements in the face of uncertainty and risk.<br />
Special competencies are developed for each specialty, higher education subject to the requirements of employers and social demands of<br />
society.<br />
Stating the five proposed classifications of key competencies, we concluded that the most successful is the classification proposed by the<br />
State standard for education. In it, in accordance with a specified purpose, expected outcomes of education are defined in the following key<br />
competencies:<br />
1) value-oriented competence - the ability of students to perceive the surrounding world, the ability to find its role in the creative life of the<br />
community based on the highest ethical values, citizenship and patriotism. This competence provides the ability to make decisions in various<br />
situations. The most important thing - to be a patriot of his homeland of Kazakhstan, to show civil activity, to understand the political system,<br />
to be able to assess the ongoing social events.<br />
2) Cultural studies Competence - possession of knowledge and experience on the achievements of human culture and national<br />
characteristics, enables it to ethno-cultural events and traditions in society, cultural foundations of personal and family and social life.<br />
Understand the role of science in human and social development. Possession of effective ways to organize cultural and leisure activities that<br />
will appreciate and understand the culture of its people and cultural diversity of the world, be committed to spiritual harmony and tolerance.<br />
61<br />
Pedagogical sciences<br />
Innovational processes in education
Pedagogical sciences<br />
3) Training and cognitive competence - complex competence, providing their own training process and cognitive research students.<br />
Ability effectively to plan, organize their educational activities, own ways of analysis and reflection of their activities for the development of<br />
knowledge based on the requirements of the relevant functional literacy, which will allow to understand the scientific worldview, have the<br />
skills of search and research activities.<br />
4) Communicative competence - provides knowledge of the native and other languages, ensuring ownership of means of interaction and<br />
communication with people in different social groups, the performance of different social roles in society, the ability to use a variety of<br />
communication facilities, to deal with specific life situations, communication skills in the Kazakh language as a state language and of<br />
interethnic communication, in foreign languages.<br />
5) The information technology competence involves the ability to navigate, to search for and analyze, make a selection, convert, store,<br />
interpret and implement the transfer of information and knowledge with real technical facilities and information technology.<br />
6) Social and labor competence means possession of knowledge and experience of active civil society activities in the field of social,<br />
family, employment, economic and political relations. The ability to analyze specific social and social situation, make decisions and act in<br />
accordance with personal and social benefits in various situations.<br />
7) The competence of personal self-development - master the methods in their own interests and capabilities, providing physical, spiritual<br />
and intellectual self-development, emotional self-regulation and self-support. The formation of psychological literacy, domestic environmental<br />
culture of their own health care and possession of the basics of life safety, the ability to match its capabilities with a real prospect and the<br />
organization of activities with dignity, to be responsible for their actions and their lives.<br />
3. Conclusion<br />
Thus, competence approach in education is an attempt to make in accordance with, on the other hand, necessity of individuals to integrate<br />
itself in activities of society on the other, necessity of society to use the potential on each individuals for providing itself with economic ,<br />
cultural and political self-development.<br />
References:<br />
1. Nazarbayev, N. (2011) Address of the President of the Republic of Kazakhstan, January 28, 2011.<br />
http://www.akorda.kz/en/speeches/addresses_of_the_president_of_kazakhstan/r<br />
КОМПЕТЕНЦИИ КАК ЭЛЕМЕНТ МОДЕРНИЗАЦИИ КУРРИКУЛУМА<br />
ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА<br />
Морарь М.М., канд. пед. наук, доцент, докторант<br />
Государственный Университет «Алеку Руссо» Бэлць, Молдова<br />
Участник конференции,<br />
Национального первенства по научной аналитике,<br />
Открытого Европейско-Азиатского первенства по научной аналитике<br />
В статье раскрывается концепция музыкальных компетенций в контексте школьного куррикулума по музыкальному воспитанию<br />
в Республике Молдова. Для обоснования процесса формирования музыкальных компетенций, рассматриваются основные<br />
характеристики, области проявления и критерии их развития.<br />
Ключевые слова: школьные компетенции, музыкальные компетенции, эстетическая компетенция, куррикулум по музыкальному<br />
воспитанию, музыкальное воспитание.<br />
The article describes the concept of musical competences in the context of the Musical Education Curriculum of the Republic of Moldova.<br />
In order to start the formation process of the musical competences, they take into consideration the main characteristic features, the areas of<br />
manifestation and criteria of their development.<br />
Keywords: school competences, musical competences, aesthetic competence, Musical Education Curriculum, musical education.<br />
Innovational processes in education<br />
Перемены и тенденции в области куррикулярного развития, рассмотренные на международном уровне, послужили моделью<br />
осмысления образовательной реформы и постоянной модернизации школьного куррикулума в Республике Молдова. Модернизация<br />
стандартов и образовательного куррикулума по всем предметам представляет собой важнейший аспект реформирования, целью<br />
которого является обеспечение качества обучения. Тенденции обновления образовательной политики в Молдове можно сформулировать<br />
следующим образом:<br />
- перестановка акцента с исходного преподаваемого материала на результаты, полученные при усвоении учебного материала и<br />
в ходе общего процесса образования, т. е.<br />
на компетенции;<br />
- перестановка акцента со школьных дисциплин, рассматриваемых через призму академической науки, к школьным дисциплинам,<br />
приведенным в соответствие с социальными и индивидуальными потребностями учащихся;<br />
- отказ от совокупности академических правил, предписаний, акцент на расширение функционально-практической стороны<br />
деятельности и необходимость использования личного опыта учеников;<br />
- снижение уровня «энциклопедизма», активизация развития навыков эмоционального, интеллектуального труда, а также<br />
развитие основных личностных способностей [6].<br />
Таким образом, реформа, осуществленная путем разработки, внедрения и модернизации школьного куррикулума, рационализировала<br />
образовательный процесс путем интеллектуального и аффективного (эмоционального) формирования каждого учащегося при<br />
выявлении и освоении его индивидуального потенциала. Педагогический опыт показал, что ориентация воспитательного процесса<br />
на целеполагания привела к чрезмерному фокусированию на когнитивных видах деятельности, что в результате приводило к<br />
ограниченности дидактических действий [5]. В этом контексте актуально замечание румынского педагога Георге Вэйдяну: «Никто<br />
сегодня не считает удовлетворительным решение обновлять программы сокращением или добавлением тем, необходимо найти<br />
научные ценности, которые бы способствовали формированию восприимчивого, гибкого и творческого мышления» [4, с.11]. Это<br />
суждение достаточно точно характеризует современное состояние педагогической практики, пришедшей к необходимости<br />
формирования школьных компетенций.<br />
Авторы модернизированного куррикулума по музыкальному воспитанию сохранили ценности музыкального воспитания,<br />
62
Pedagogical sciences<br />
накопленные и изложенные в течение последних 30 лет в теории и практики музыкального образования в Республике Молдова.<br />
Элементы модернизации куррикулума были соотнесены к цели музыкального образования в общеобразовательных учреждениях –<br />
формирование музыкальной культуры учащихся, как части единой духовной культуры. Место музыкального воспитания среди<br />
других школьных дисциплин определяется следующими основными положениями: музыка сама по себе представляет ценность;<br />
она значима вне зависимости от того, нравится она нам или нет; музыка – это искусство, властно прокладывающее путь к сердцу и<br />
уму человека, вольно или невольно воздействуя на его подсознание; музыка многофункциональна, она имеет множество аспектов:<br />
познавательный, воспитательный, интеллектуальный, рациональный, волевой, чувственный, эстетический, философский, духовный,<br />
этико-моральный и др. Совокупность этих аспектов должна найти отражение в воспитательном и учебном процессе. Развлекательность<br />
– лишь одна из сторон присутствия музыки в нашей жизни. Для того, чтобы музыка стала средством духовного возвышения,<br />
необходимо соблюдение определенных принципов восприятия: слушания-поиска, слушания-исследования, слушания-знания [1]. В<br />
качестве четырех основных форм ознакомления с музыкой были разработаны стандарты компетенций по предмету «Музыкальное<br />
воспитание». Эти компетенции распределены по четырем областям [2]:<br />
Слушание-восприятие музыки как художественного отображения жизни (образов природы, истории человеческого общества,<br />
человеческих чувств и переживаний, национальной/мировой культуры);<br />
Вокально-хоровое исполнение песен, романсов, баллад, песен-романсов, арий, доступных фрагментов из крупных вокальнохоровых<br />
и вокально-симфонических произведений (кантат, ораторий, опер и др.);<br />
Творчество в рамках различных форм ознакомления с музыкой (музыкально-ритмические движения, импровизация, музыкальные<br />
игры, творческие задания и др.);<br />
Анализ-характеристика музыки на основе критериев определения ее художественной ценности (постижение музыки через<br />
объяснение, размышление, оценивание с помощью новых знаний, на основе личного опыта эмоционального сопереживания).<br />
Исходя из этого, по степени усвоения музыкального искусства может быть определен уровень музыкальной культуры человека.<br />
Согласно концепции музыкальной культуры [1], музыкальный опыт и музыкальные компетенции являются определяющими<br />
компонентами формирования черт личности, которые обеспечивают развитие полноценной личности посредством музыкального<br />
воспитания. Назовем эти черты и элементы, из которых складывается музыкальная восприимчивость учащихся:<br />
- восприятие музыки: слушание / слышание, духовное переживание.<br />
- музыкальное чувство: музыкальный вкус, эмоциональная реакция на музыку, выражение эмоций посредством музыки и др.<br />
- музыкальное мышление: свободные музыкальные ассоциации, анализ музыки.<br />
- мотивация: потребности, намерения, интересы.<br />
- отношения: музыкальное сознание, понятия / убеждения, суждения, оценки, значения, поведение и др.<br />
Главной компетенцией, характерной для предметов художественного воспитания, является эстетическая компетенция, понимаемая<br />
как совокупность приобретенных навыков в области отношений, поведения, эмоциональных проявлений, поступков, – то, что<br />
определяет способность человека воспринимать и оценивать, переживать и любить прекрасное в соответствии с особенностями<br />
духовной жизни и культуры своего времени. Гармоничное сочетание разнообразных форм и методов музыкального воспитания,<br />
подкрепленное использованием аудиовизуальных средств, способствует упрочению музыкальных знаний, умений и отношений,<br />
которые, в свою очередь, формируют музыкальные компетенции [2].<br />
Определение понятия «школьная компетенция», даёт возможность выявить её характеристики и определить технологию ее<br />
формирования. Школьная компетенция представляет собой интегрируемый ансамбль внутренних ресурсов (конструкт), приобретенных<br />
учащимися в учебном или любом другом познавательном процессе, применяемых при разрешении определенных значимых<br />
ситуаций, моделируемых педагогическими методами [3]. Это определение можно представить схематически, следующим образом:<br />
Рис. 1. Составные элементы школьной компетенции<br />
Менее формально, можно определить компетенцию как способность решать проблемы повседневной жизни, используя<br />
полученные знания, сформированные умения, навыки и ценностные отношения. Каждый структурный компонент школьной<br />
компетенции обладает определенной функцией в общей структуре компетенции. Школьная компетенция начинается с совокупности<br />
ресурсов. Учащийся должен знать и уметь сочетать различные ресурсы, чтобы проявить определенные компетенции. Таким<br />
образом, компетенция не сводится к сумме каких-либо видов деятельности, представленных в определенном порядке. Любой<br />
человек может самостоятельно формировать свои компетенции, исходя из определенной совокупности ресурсов. Компетенцию<br />
можно определить посредством пяти основных характеристик:<br />
• Мобилизация комплекса ресурсов. Компетенция требует мобилизации целого ряда ресурсов: музыкальные способности и<br />
навыки, музыкальные знания и знания о музыке, слушательский опыт, эмоциональное сопереживание и др. Этой характеристики<br />
недостаточно для того, чтобы понять разницу между способностью и компетенцией.<br />
• Законченный характер. Мобилизация комплекса ресурсов не происходит в случайном порядке: ученик должен использовать<br />
ресурсы сознательно, а они, в свою очередь, приобретают «функциональность», применимость на практике в различных видах музыкальной<br />
деятельности: слушание музыки, исполнение музыки, размышления о музыке, музыкальное творчество и др.<br />
Фундаментальные знания преобразуются в функциональные.<br />
63<br />
Innovational processes in education
Pedagogical sciences<br />
• Взаимосвязь с комплексом ситуаций. Мобилизация ресурсов возможна только в рамках комплекса реальных ситуаций –<br />
музыкальных видах деятельности, в контексте решения конкретных проблем.<br />
• Дисциплинарный характер. Компетенция определяется группой ситуаций, соответствующих областям/видам деятельности,<br />
свойственным музыкальному воспитанию.<br />
• Оцениваемость. Компетенция – оцениваемая величина, поскольку может быть измерена посредством определения качества<br />
выполнения заданий и качества результата [2].<br />
Музыкальная компетенция представляет собой интегрированную совокупность знаний, практических навыков и отношений,<br />
выработанных в процессе обучения и мобилизуемых в определенных ситуациях, учитывающих возраст и интеллектуальный<br />
уровень учащегося, направленных на решение конкретных жизненных проблем исходя из системы ценностных ориентиров,<br />
сложившейся в национальной и мировой музыкальной культуре [3]. Критериями развитой компетенции являются: готовность<br />
заниматься музыкой (интерес, желание, мотивация); музыкальная активность (труд, обязательность, ответственность, результат,<br />
продукт); знание музыки и знания о музыке. Музыкальные компетенции могут быть сформированы только на основе<br />
предрасположенности (врожденной) и особой восприимчивости – так называемой музыкальности, представляющей собой комплекс<br />
качеств и способностей, необходимых для достижения результатов в данной области. Структурируются музыкальные компетенции<br />
по основным областям музыкального воспитания, отраженным в Образовательных стандартах: слушание/восприятие музыки;<br />
вокальное/хоровое/инструментальное исполнение музыки; элементарное музыкальное творчество в синтезе с другими видами<br />
искусств; анализ-характеристика музыки. Таким образом, для организации<br />
Формирование музыкальной компетенции представляет собой длительный процесс, который можно условно разделить на<br />
четко выраженные этапы: приобретение базовых музыкальных знаний и элементарных навыков в области слушания, исполнения,<br />
творчества и размышления о музыке (знаю); преобразование базовых музыкальных знаний в функциональные знания, эволюция<br />
эмоциональных переживаний от музыкального акта к закреплению в виде мотиваций, интереса, музыкальных убеждений и<br />
эстетического вкуса (могу делать); интериоризация знаний и переживаний, освоение музыкальных произведений и формирование<br />
ценностных отношений (могу быть); экстериоризация приобретенных в области музыкального искусства навыков эмоционального,<br />
мыслительного, поведенческого порядка (могу стать).<br />
Специфика предмета «Музыкальное воспитание» предполагает приобщение к музыкальному искусству через различные<br />
формы музыкальной деятельности (слушание, исполнение, творчество, размышление). Этапы формирования школьной компетенции<br />
взаимообусловлены и представляют собой непрерывный процесс постоянного повышения уровня музыкальных достижений<br />
ученика. Таким образом, компетенция предполагает стратегию действий учеников во всем многообразии музыкального акта, обусловленного<br />
повседневной жизнью. В проектировании воспитательного содержания, направленного на формирование компетенций,<br />
следует учитывать специфику художественного познания, место и роль музыкального воспитания в общем образовании, соблюдение<br />
системы принципов, характерных для музыкально-художественного воспитания, поэтапный характер формирования компетенций,<br />
возраст и психофизиологические возможности учащихся.<br />
Литература:<br />
1. Gagim I. Ştiinţa şi Arta educaţiei muzicale.– Chişinău: Editura ARC, 1996.<br />
2. Morari M. Educaţie muzicală: Ghid de implementare a curriculumului modernizat pentru învăţământul primar/gimnazial. Institutul de<br />
Ştiinţe ale Educaţiei. - Chişinău: Lyceum, 2011.<br />
3. Morari M. Stîngă A. Educaţia muzicală. Curriculum modernizat pentru învăţămîntul gimnazial (clasele a V-a - a VIII-a). - Chişinău:<br />
Lyceum, 2010.<br />
4. Văideanu G. Educaţia la frontiera dintre milenii. - Bucureşti: Editura Politică, 1988.<br />
5. Ботгрос И.В., Французан Л.Г., Боканча В.Н. Куррикулярная реформа в Республике Молдова: приоритеты, достижения и<br />
перспективы: [Электронный ресурс]. – Режим доступа:<br />
<br />
6. Гуцу В., Гораш-Постика В. Куррикулярная реформа в Республике Молдова: [Электронный ресурс]. – Режим доступа:<br />
<br />
УДК377:378<br />
К ВОПРОСУ О МЕЖДУНАРОДНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ<br />
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ<br />
Innovational processes in education<br />
Цквитария Т.А., канд. пед. наук<br />
Ростовский государственный медицинский университет, Россия<br />
Участник конференции<br />
Национального первенства по научной аналитике<br />
В статье рассматриваются основные этапы создания единого европейского пространства в области образования и профессионального<br />
обучения, связанного с признанием образования мощным фактором изменения всего общества. Укрепление<br />
сотрудничества в области профессионального образования и обучения в Европейском Союзе получило название «Брюгге-<br />
Копенгагенский процесс», в России выработаны рекомендации «Копенгагенский процесс и российское профессиональное образование».<br />
Ключевые слова: профессиональное образование, Лиссабонская резолюция, конференция в Брюгге, конференция в Брюсселе,<br />
Копенгагенская Декларация.<br />
In article the basic stages of creation of uniform European space in the sphere of education and the professional education connected with<br />
a recognition of education by the powerful factor of change of all society are considered. Strengthening of cooperation in the field of<br />
professional education and learning in the European Union has received the name «Brugge-Copenhagen process», in Russia recommendations<br />
«The Copenhagen process and the Russian professional education» are developed.<br />
Keywords:Professional education, the Lisbon resolution, conference in Brugge, conference in Bruxelles, the Copenhagen Declaration.<br />
64
Глобализация – общемировая тенденция, затрагивающая не только экономику стран, но и стимулирующая процессы интеграции<br />
в остальных областях человеческой деятельности, в том числе и в сфере образования, таким образом, образование из категории национальных<br />
приоритетов развитых стран переходит в категорию мировых приоритетов. Очевидно, что образованию принадлежит<br />
важная роль в решении глобальных проблем человечества, преодолении кризиса цивилизации. Действительность XXI века требует<br />
новой системы образования – «инновационного обучения», которое сформировало бы у обучаемых способность к проективному<br />
определению будущего, ответственность за него, веру в себя и в свои профессиональные способности влиять на это будущее.<br />
Необходимость создания единого европейского пространства в области образования и профессионального обучения определяют<br />
тенденции социального и экономического развития Европы. Переход к экономике, основанной на знаниях, обладающей потенциалом<br />
к устойчивому экономическому росту, укреплению социальных связей, ставит новые задачи перед системой развития человеческих<br />
ресурсов. В современном обществе образование стало одной из самых обширных сфер человеческой деятельности. Оностановится<br />
сегодня мощным фактором изменения всего общества, обеспечивающим высокую мобильность отдельного человека и, вместе с<br />
тем, его интеграцию в различные социальные группы. Заметно повысилась социальная роль образования: от его направленности и<br />
эффективности сегодня во многом зависят перспективы развития человечества. Это просматриваетсяв понимании того, что<br />
наиважнейшей ценностью и основным капиталом современного общества является человек, способный к поиску и освоению<br />
новых знаний и принятию нестандартных решений.<br />
Расширение Европейского Союза открывает новые перспективы и возможности, а также ставит целый ряд новых задач и<br />
требований к системе образования и профессионального обучения. Важнейшей задачей, стоящей перед системами профессионального<br />
образования и обучения в Европе, а также перед всеми заинтересованными сторонами является развитие Европы как общества, основанного<br />
на знаниях, и обеспечение открытости европейского рынка труда для всех граждан. Не менее важной задачей является<br />
необходимость постоянной адаптации этих систем к нововведениям и меняющимся потребностям общества.Особое значение<br />
имеет привлечение стран, вступающих в Европейский Союз, к сотрудничеству в сфере образования и профессионального обучения<br />
в качестве равноправных партнеров.<br />
Развитие процесса взаимного признания квалификаций и компетенций в области профессионального образования и подготовки<br />
кадров среднего звена в Европейском Союзе получило название «Брюгге-Копенгагенского процесса» и основывается на следующих<br />
основных документах и мероприятиях: Болонская декларация, Лиссабонская резолюция, конференция в Брюгге, заседание<br />
Европейского Совета в Барселоне, конференция в Брюсселе, Копенгагенская Декларация.<br />
Начало новому уровню европейского сотрудничества в области образования положило принятие в июне 1999 года Болонской<br />
декларации.Она явилась общеевропейским проектом, который направлен на повышение эффективности национальных образовательных<br />
систем, усиление их взаимосвязи с непосредственными нуждами общества и увеличение вклада высшего образования в<br />
экономическое и инновационное развитие.Кроме того, Болонский процесс создает новую по своим характеристикам и возможностям<br />
среду общеевропейского общения, обеспечивая новые перспективы для диалога и сотрудничества в самом широком спектре.<br />
На заседании Европейского Совета в марте 2000 года в Лиссабоне была принята Лиссабонская резолюция, которая официально<br />
признала важнейшую роль образования в качестве составной части экономической и социальной политики, а также средства<br />
повышения конкурентоспособности Европы в мировом масштабе, сближения ее народов и полноценного развития граждан.<br />
Европейский Совет обозначил стратегическую цель превратить Европейский Союз в наиболее динамически развивающуюся<br />
экономику, основанную на знаниях. Развитие системы высококачественного профессионального образования и обучения является<br />
важнейшей и неотъемлемой частью этой стратегии, прежде всего с точки зрения укрепления социальных связей, повышения<br />
социальной активности, мобильности, возможностей трудоустройства и конкурентоспособности.<br />
Укрепление сотрудничества в области профессионального образования и обучения вносит большой вклад в обеспечение<br />
успешного расширения Европейского Союза и решение задач, поставленных на заседании Европейского Совета в Лиссабоне.<br />
Важную роль в укреплении сотрудничества в этой области играют Европейский центр развития профессионального образования<br />
(CEDEFOP) и Европейский фонд образования.<br />
В Брюгге в октябре 2001 года состоялась конференция руководителей профессионального образования и обучения стран<br />
Европейского Союза, на которой был инициирован процесс сотрудничества в области профессионального образования и обучения,<br />
в том числе, и в области признания дипломов или свидетельств об образовании и квалификациях. Брюгге - Копенгагенский процесс<br />
стал ответом на Болонскую декларацию, призванную обеспечить европейскому высшему образованию лучшее в мире качество. Он<br />
предусматривает углубление прозрачности и взаимного доверия сотрудничающих сторон. Этому будут способствовать принятие<br />
общих основных принципов улучшения всей системы признания квалификаций и компетенций, а также повышения качества<br />
европейского профессионального образования и подготовки. Основные цели Брюгге-Копенгагенского процесса направлены на<br />
развитие профессионального образования и обучения (начального и среднего профессионального образования) европейских стран:<br />
1. Повышение качества профессионального образования и обучения.<br />
2. Повышение привлекательности профессионального образования и обучения стран европейской зоны.<br />
3. Развитие мобильности студентов и выпускников системы профессионального образования и обучения европейских стран.<br />
На заседании Европейского Совета в Барселоне в марте 2002 года была подтверждена важнейшая роль сотрудничества в<br />
области профессионального образования и обучения, определены пути развития этого сотрудничества:<br />
- создание в Европе системы профессионального образования и обучения, которая станет общепризнанным стандартом<br />
качества в мире;<br />
- дополнительные мероприятия по внедрению механизмов, обеспечивающих прозрачность дипломов и квалификаций, включая<br />
мероприятия по образцу реализуемых в области высшего образования в рамках «Болонского процесса», скорректированных с<br />
учетом особенностей профессионального образования и обучения.<br />
Конференция в Брюсселе в июне 2002 года «Укрепление сотрудничества в области профессионального образования и обучения»<br />
приняла основные решения, которые предусматривают:<br />
- необходимость укрепления и развития европейского сотрудничества в области профессионального образования и обучения,<br />
направленного на содействие свободной смене работы и перемещению между странами, отраслями и регионами;<br />
- необходимость повышения качества и привлекательности профессионального образования и обучения;<br />
- необходимость создания европейского пространства профессионального образования и обучения.<br />
В Копенгагене в ноябре 2002 г. министрами образования европейских стран и Европейской Комиссией по развитию<br />
сотрудничества в области профессионального образования и обучения в Европе была принята Копенгагенская Декларация. В<br />
Декларации были сформулированы следующие задачи дальнейшего развития профессионального образования и обучения:<br />
- создание единого европейского пространства в области профессионального образования и обучения;<br />
- обеспечение прозрачности квалификаций;<br />
- создание механизма взаимного признания компетенций и квалификаций (создание единой рамки для обеспечения<br />
прозрачности);<br />
65<br />
Pedagogical sciences<br />
Innovational processes in education
Pedagogical sciences<br />
- создание единой системы переноса зачетных единиц (баллов);<br />
- разработка общих принципов признания неформального и спонтанного обучения (разработка общих принципов признания с<br />
учетом позиций различных категорий субъектов образования и обучения).<br />
Основными принципами, на которых основывается Копенгагенская Декларация, направленная на формирование системы профессионального<br />
образования и обучения, которая станет мировым стандартом качества, являются:<br />
- добровольный характер сотрудничества;<br />
- оптимизация сформировавшихся в рамках национальных систем профессионального образования и обучения моделей и образцов;<br />
- нацеленность на нужды и потребности граждан и других категорий пользователей;<br />
- участие социальных партнеров.<br />
Россия официально не вступила в Брюгге-Копенгагенский процесс, хотя в аналогичный процесс, касающийся развития<br />
высшего профессионального образования (Болонский процесс), Россия включилась в 2003 году, подписав Болонскую Декларацию.<br />
Основные цели (по соответствующим уровням образования) и большинство ключевых задач (механизмов) Брюгге-Копенгагенского<br />
и Болонского процессов совпадают.<br />
Министерство образования и науки РФ заинтересовано в повышении роли профессионального образования для обеспечения<br />
конкурентоспособности экономики страны и интеграции в общеевропейское пространство профессионального образования. На<br />
основании основных направлений развития Брюгге-Копенгагенского процесса, рабочей группой выработаны рекомендации «Копенгагенский<br />
процесс и российское профессиональное образование», которые определяют области, требующие особого внимания<br />
при развитии российского профессионального образования:<br />
- развитие социального партнерства в сфере профессионального образования для обеспечения гибкого и оперативного<br />
реагирования профессионального образования на быстрые изменения потребностей рынка труда;<br />
- разработка и внедрение российской модели модульного профессионального образования, основанного на компетенциях, как<br />
необходимого условия и фактора повышения качества профессионального образования и как основы формирования системы<br />
переноса зачетных единиц, прозрачности и сопоставимости программ обучения;<br />
- разработка единой национальной системы квалификаций;<br />
- разработка инновационных систем обеспечения качества профессионального образования;<br />
- внедрение инновационных моделей обеспечения качества профессионального образования (включая стандарты профессионального<br />
образования, ориентированные на результат; российский вариант европейской модели всеобщего обеспечения качества и модели<br />
самооценки учебных заведений).<br />
Исходя из общих задач обеспечения сопоставимости и сравнимости квалификаций и компетенций, определенных в рамках<br />
Брюгге-Копенгагенского процесса, необходимо ввести EUROPASS — документ, в котором отражены знания и опыт, приобретенные<br />
как в формальном, так и в неформальном обучении (метод учета результатов обучения и приобретенных квалификаций в период<br />
трудовой деятельности, осуществляемой в рамках программы обучения).<br />
Необходимо понять суть и направления общеевропейских процессов и определить возможности «встраивания» в них с<br />
максимальным учетом собственных интересов и использованием всех возможностей, которые имеются для этого в российской<br />
системе профессионального образования.<br />
Очень важно, чтобы участие России в Копенгагенском и Болонском процессе осуществлялось максимально открыто, чтобы его<br />
цели были поняты не только учеными и чиновниками, но и обществом в целом и чтобы разработка конкретных механизмов<br />
основывалось на богатейшем опыте и инновационных моделях, реализуемых в регионах России.<br />
Литература:<br />
1. Заседание круглого стола "Копенгагенский процесс и российское профессиональное образование". - http://mon.gov.ru/press/reliz/919/<br />
2. Копенгагенская декларация по усилению европейской кооперации в профессиональном образовании. -<br />
http://www.rusmagistr.ru/page_0002/page_0026<br />
3. Лемпинен П. Европа модернизирует профессиональное образование. // Профессиональное образование. Столица.<br />
№11, 2011. с. 12-15<br />
4. Муравьева А.А. Копенгагенский процесс. - М: Центр изучения проблем профессионального образования, 2006.<br />
5. Олейникова О.Н., Качество профессионального образования и обучения в контексте развития интеграционных процессов в<br />
странах Европейского Союза.<br />
6. Федеральный центр образовательного законодательства. - http://www.lexed.ru/pravo/theory/yagofarov2005/?1012.html<br />
Innovational processes in education<br />
УДК 378.147<br />
PROJECTING A CURRICULUM SUBJECT MODULAR STRUCTURE ON THE BASIS OF SCIENTIFIC KNOWLED-<br />
GE INTEGRATION<br />
Gryzun L.E., PhD, Dr. of Pedagogical science, docent<br />
Kharkiv National Pedagogical University Named After G.S. Skovoroda, Ukraine<br />
Conference participant,<br />
National championship in scientific analytics,<br />
Open European and Asian research analytics championship<br />
The paper is devoted to the representation of main author’s results obtained while treating the problems of pedagogical projecting a<br />
curriculum subject modular structure on the basis of scientific knowledge integration. The integration basis of the projecting is covered.<br />
Developed projecting technology is characterised. It is also outlined possible ways of the obtained theoretical results applications to the issues<br />
related to the coordination and interaction of different educational systems.<br />
Keywords: pedagogical projecting, curriculum subject, curriculum subject modular structure, scientific knowledge integration.<br />
Статья посвящена представлению основных авторских результатов, полученных при исследовании проблем педагогического<br />
проектирования модульной структуры учебной дисциплины на основе интеграции научных знаний.<br />
66
Освещены интеграционные основы такого проектирования. Охарактеризована разработанная технология проектирования.<br />
Намечены возможные пути приложения полученных теоретических результатов к проблемам координации<br />
и взаимодействия различных образовательных систем.<br />
Ключевые слова: педагогическое проектирование, учебная дисциплина, модульная структура учебной дисциплины,<br />
интеграция научных знаний.<br />
Recognizing importance, complication and controversial character of the changing forms, scope and outcomes of complex processes in<br />
education systems it is relevant to emphasize our realizing of world outlook, economic, social and political aspects of contemporary education.<br />
The evidence testifies that world is currently surviving the age of deep changes concerning all branches of our life. It is displayed in quick<br />
renewing technologies, incredible mobility of social life, new forms of communication, new means of world vision and world realizing.<br />
Ambiguity and non-linear character of these objective processes are reflected in modern science whose leading tendencies nowadays are<br />
knowledge synthesis, mutual enrichment of sciences both inside separate branches and between other scientific branches. It is developing<br />
conversion to really interdisciplinary research under which interpenetration of knowledge and cognitive methods is taking place. Under the<br />
circumstances requirements to modern education are getting tougher. It is natural since global science needs researchers capable to solve<br />
integrative problems, and global labour market demands qualified workers who have flexible and operative knowledge system is to be used<br />
in related branches, who are able to adapt quickly to technological changes, who are ready for renewing their educational level.<br />
Under such conditions it is natural that education on all its levels and in all forms of provision undergoes considerable changes. It has to<br />
response with appropriate and relevant improvements, and, first of all, with formation of adequate content of education reflecting integrative<br />
processes in different branches of science.<br />
The aim of the paper is to represent main scientific results obtained by the author while treating the problems of projecting a curriculum<br />
subject modular structure on the basis of scientific knowledge integration as well as to outline the possible ways of these results applications<br />
to the issues related to the coordination and interaction of different educational systems.<br />
As it was mentioned above problems of curriculum development for all forms and levels of learning are crucial and cause necessity of<br />
deep investigations. It can be explained by increasing demands to contemporary graduators from universities, to their formed abilities of<br />
professional mobility and knowledge flexibility. Credit-modular system of students’ training common now in the majority of universities is<br />
based on the system of modular structured curriculum subjects. It is necessary to emphasize that approaches to modular structuring of a<br />
subject and their results play an important role in subsequent process of learning and mastering material accepting by students, in formation of<br />
students’ knowledge and skills system. A curriculum subject is considered to be a mean of implementation of certain education content, and<br />
relevant modular structure of a subject can facilitate and improve these processes.<br />
On the other hand, any curriculum subject, especially in higher professional education, is an embodiment of some scientific branch<br />
adapted to teaching and learning. Hence, it is to reflect correctly and adequately the branch’s structure preserving main links between notions,<br />
concepts, facts, theories that really exist both inside the scientific branch and between sciences in a whole. It will promote and contribute to<br />
creation holistic and flexible system of students’ knowledge. Such system of knowledge can be characterized by optimal information capacity,<br />
by readiness for implying in related areas, for mobile rising of students’ educational level in their future lives.<br />
However, very often the modular structuring of curriculum subjects does not preserve or does not convey necessary essential links<br />
between scientific knowledge which can cause negative consequences for trainees’. According to pedagogical studies, among such<br />
consequences there are forming of separate and uncoordinated system of trainees’ knowledge, earning of purely specific skills instead of<br />
generalized ones, breaking of general holistic and logic of a subject as well as destroying of links between related subjects etc.<br />
Therefore investigating of knowledge integration mechanisms in scientific branches as well as searching of ways of these mechanisms<br />
embodiment at modular structuring of curriculum subjects is really urgent for higher education development and was one of the major tasks<br />
of our investigation.<br />
The basis of scientific knowledge integration were determined in our research on the base of the retrospective investigation of influence<br />
of integration tendencies in science on the formation of the professional education content in general as well as on a curriculum subject in<br />
particular. It was theoretically grounded that didactic component of a subject (in order to reflect scientific knowledge integration) besides<br />
traditional functions has to realize such didactic procedures:<br />
• revealing a subject specific characteristics, measures of implementation of its conceptual and methodological arsenal;<br />
• forming of fundamental all-over-scientific notion potential;<br />
• detecting integration potential of a subject, learning cross-discipline methods of research;<br />
• providing adequate types and mechanisms of knowledge arrangement which are able to reflect variety and complication of crossdiscipline<br />
links;<br />
• carrying out three-aspect mutual penetration of curriculum subjects via formed fundamental notion apparatus, cross-discipline means of<br />
cognitive activity, and information content of subjects.<br />
Forms of revealing scientific knowledge integration in education content were clarified. Logical sequence and stage-by-stage fulfilling of<br />
above didactic procedures were grounded and determined, what in total composed the integration basis of the subject modular structure<br />
projecting.<br />
Didactic bases of this projecting were scientifically proved in our research. They are: the essence, aim, regularities, principles, stages and<br />
logic of the projecting. Crucial importance has also our elaboration of the projecting technology: we developed special didactic and<br />
technological procedures (based on the ideas of the 1) different levels of the education content formation; 2) different levels of knowledge<br />
generalization; 3) models of knowledge representation of the Artificial Intelligence theory) to be done on each stage of the projecting in order<br />
to get as a result the modular structure of a subject keeping and spreading links between knowledge both inside a module and between<br />
modules and subjects of curriculum [1].<br />
As long as we used at the subject modular structure projecting models of knowledge representation (in particular, semantic nets and<br />
frames) taken from the Artificial Intelligence theory to realize integration mechanisms among knowledge, our theoretical didactic results<br />
might have practical application for coordinated and consistent projecting of modular structure of subjects on all levels of formation of<br />
education content.<br />
Such an approach might help to solve some important didactic problems of education like: forming students’ holistic knowledge system<br />
of optimal information capacity capable to be used flexibly in related branches; automatic control of cognitive processes in education; creating<br />
optimal educational trajectory from the standpoint both of a student and the situation on labour-market; determination of equivalence degree<br />
of related specialities and others. Solving these problems seem to be beneficial from the perspectives of facilitating public professional and<br />
social mobility; education services delivery arrangements; developing optimal hybrid forms of education provision and governance;<br />
promoting searching adequate mechanisms of widening range of educational service regulation and others.<br />
Our projecting technology also includes determination the kind and type of expertise for the subject modular structure designed on the<br />
basis of scientific knowledge integration: internal scientific-methodical expertise of the pedagogical project by the models of estimate and<br />
67<br />
Pedagogical sciences<br />
Innovational processes in education
Pedagogical sciences<br />
diagnostic types. Appropriate criteria system was developed for the expertise of each model practical realization.<br />
With the aim of verification of the designed projecting technology on the basis of scientific knowledge integration empirical investigation<br />
was carried out which proved high quality of the ready-made project as well as its positive influence on the planning and results of academic<br />
process.<br />
Thus, from the standpoints of the perspectives of the presented research it would be interesting and relevant to investigate and to discuss<br />
with academics and educators-practitioners some range of issues.<br />
Firstly, it is to investigate coordinated interaction of public and private professional education from the standpoint of a student as he/she<br />
can vary forms and places of education during long life learning, should have an opportunity to change his/her educational trajectories in terms<br />
of globalization and economical integration, to re-learn, to improve own skills, to adapt to new economical conditions etc. It is important to<br />
develop different mechanisms of such interaction.<br />
Secondly, such coordinated interaction naturally demands coordinated curriculum forming on different levels of education in order to<br />
provide for a student educational and social mobility mentioned above. Thus, it seems to be important to create several means of coordinated<br />
curriculum forming, to apply them, to compare their effectiveness etc.<br />
Also it would be beneficial to estimate the role of information and communication technologies in facilitating the coordination,<br />
governance and provision of education services, to consider the ways of using their great didactic and economic potential for delivery of<br />
education service of high quality, high degree of availability and access.<br />
References:<br />
1. Gryzun L.E. Didactic bases of projecting of the subject modular structure on the basis of scientific knowledge integration : author's<br />
abstract … doctor degree in Pedagogic: 13.00.04 / Kharkiv, 2009. – 39 p.<br />
UDC 614.2:378.111.002.612<br />
PEDAGOGIC INTERACTIVE TECHNOLOGY “DEVELOPMENT CRITICAL WAY OF THINKING THROUGH REA-<br />
DING AND WRITING” AS QUALITY IMPROVEMENT MECHANISM OF TEACHING ACADEMIC DISCIPLINE<br />
Ruden V., Dr. medical sciences, full professor, head of a chair<br />
Lviv National Medical University named after D. Galitskiy, Ukraine<br />
Conference participant,<br />
National championship in scientific analytics,<br />
Open European and Asian research analytics championship<br />
The theoretical reasons of applying interactive educational technology “Development critical way of thinking through reading and<br />
writing” at the Department of social medicine, economics and organization of health care as a quality improvement mechanism of teaching<br />
academic discipline “Social medicine and organization of health care” for six-year students of medical faculty after medical specialities<br />
7.110101 “General medicine”, 7.110104 “Pediatrics” and 7.110105 “Prophylactic medicine” in the context of credit-module system of<br />
education was revealed.<br />
Keywords: critical way of thinking, higher medical education, education quality, social medicine, organization of health care, creditmodule<br />
system, interactive educational technology, development of the critical way of thinking through reading and writing.<br />
Раскрыты теоретические предпосылки применения интерактивной учебной технологии “Развитие критического мышления<br />
через чтение и письмо” на кафедре Социальной медицины, экономикии организации здравоохранения медицинских вузов Украины<br />
как механизм совершенствования качества процесса преподавания академической дисциплины “Социальная медицина и организация<br />
здравоохранения” для студентов VI курса медицинских факультетов за врачебными специальностями 7.110101 “Лечебное дело”,<br />
7.110104 “Педиатрия” и 7.110105 “Медико-профилактическое дело” вконтексте кредитно-модульной системы учебы.<br />
Ключевые слова: критическое мышление,высшее медицинское образование, качество учебы, социальная медицина, организация<br />
здравоохранения, кредитно-модульная система, интерактивная учебная технология, развитие критического мышления, через<br />
чтение и письмо.<br />
Open specialized section<br />
Currency. Transfer in the system of undergraduate preparing of future doctors in the independent Ukraine to basis of credit-module<br />
system [14] left behind lecturers of departments of higher medical educational establishments of accreditation level IV unresolved problems:<br />
• first of all how disastrous increasing volume of medical information of various origin turn into knowledge of the student?<br />
• secondly, how received by student of medical university theoretical knowledge transform into professional skills? [18]<br />
It is very important that at the beginning of XXI century, at the time of highly informative technologies [7], in Ukraine were respectively<br />
changed the goals and objectives of medical education to organize an appropriate level of quality [6]. International practice clearly showed<br />
that the time from among the Encyclopedists practitioners who have great, but stable store of knowledge already passed [12]. The explanation<br />
for this lies in a current need of doctors in the society, who will be able to find, use, quickly and professionally analyze variable information<br />
about health of person, community, society and take the necessary high-quality professional and effective management decisions.<br />
Therefore, the present order of society in the independent country consist in possession by future doctors not only appropriate amount of<br />
basic knowledge, communicative competence, but a high level of intellectual development, certain personal skills, new type of mental activity,<br />
critical way of thinking, active position as citizen-patriot, who can be an active member of establishment independent Ukraine as listed in the<br />
National Doctrine of education development in Ukraine in the XXI century [15]. Today the basic direction in higher medical education is not<br />
memorizing by student great volume of facts but education of future doctors by effective means of receiving and analyzing available<br />
information. The basis in the education of students is didactic tool, which should be used for achieving themselves knowledge [20].<br />
The implementation of European experience in the achieving desired results on stage of undergraduate preparing of future doctor is<br />
possible through the introduction of interactive (from English “inter”- mutual and “act” – to act) technologies into studying of students which<br />
are also motivation elements at enhancing learning quality [5]. Such didactic approach makes this study important because only presence of<br />
theoretical knowledge without practical skills and abilities is regarded as gap between theory, science and practical activity, as in the Biblical<br />
parable of “The good Samaritan” [Gospel of Luke10, 25-37].<br />
Aim of work is scientific ground for applying pedagogic interactive technology “Develop-ment critical way of thinking through reading<br />
and writing” (critical thinking) in the context of credit-module system of education at the basic model of education among six-year students of<br />
68
medical faculty at the academic discipline “Social medicine and organization of health care”.<br />
Materials and methods. During scientific investigation was used a large-scale volume of material, which was processed by following<br />
methods: historical and literary synthesis, retrospective method, deductive understanding, structural and logical analysis, abstract thinking and<br />
own observations with consideration principles of system approach and system analysis.<br />
Results and discussion. Retrospective analysis of current information from this problem convincingly witness, that<br />
combination of words “critical thinking” not all at once found its place among scientific works. There were series of<br />
investigation of the thinking process before it, which authors characterized as “creative”, “effective”, etc [9]. Sustainable<br />
term “critical thinking” begins actively used only in the 70 th years of XX century. Researchers of this concept found it roots<br />
in the works of such thinkers as Plato (428 or 427 B.C. – 348 or 347 B.C.), Aristotle (384 B.C. – 322 B.C.), Thomas Aquinas<br />
(1225– 1274), James Mill (1806-1873), B. Russell (1872-1970), K. Popper (1902-1994), etc [26].<br />
Scientific analysis of the content “critical thinking” goes back to Karl Raimund Popper (Great Britain philosopher of XX century [29])<br />
times who first in the evolutional epistemology (from Greekepistēmē– knowledge and …logy; study about the nature and pattern of cognition;<br />
the same as the theory of knowledge) [25] proved that any living organism is always searching solution of problem/problems.<br />
According to Raimund Popper’s statements if the problem arises before the organism than it generate efforts to solve it with the help of<br />
suggesting trial theories that are given in critical process of removing mistakes. Thus, Popper emphasized that all organisms are extremely<br />
active in acquiring knowledge, perhaps, even active, than in searching food [8].<br />
Analysis of foreign and native studies convincingly shows that there is no single definition of such type of thinking as critical. Thus, a<br />
prominent American philosopher John Dewey (1859-1952) convincingly grounded that the fundamental aim of modern education is not<br />
providing students with information, but to develop their critical thinking [27], since education is focused on future that cannot be predefined.<br />
Modern researches Clark J.H. and Beadle A.U. define this term as a process, when a brain process information to understand constant ideas,<br />
create new ideas and solve problems [2].<br />
Term “critical thinking”, reports Freire P. (2003), in Ukraine is given in the “Concept of civil education in Ukraine” that is developed by<br />
project “Education for the democracy in Ukraine”: “Critical thinking is ability of person to overcome a tendency to single dogmatic perception<br />
of world, skill to analyze a particular problem from different sides, use information from various sources, distinguish objective fact from<br />
subjective thought about it, make logical conclusion than preconceived assumption or superstition. It is an ability of a man to adequately<br />
determine the causes and preconditions of current problems in his life, readiness to make efforts for it practical (not rhetorical) overcoming”.<br />
All this shows that there are no common single definition of the term “critical thinking” and besides different accents all these definitions are<br />
based on general key properties of the content of man critical thinking [23].<br />
However, for us, exactly Richard Paul (USA, 1993) proposed the following working definition of “critical thinking” that is an acceptable<br />
explanation for the pedagogic practice: critical thinking – is thinking about thinking, when You think for improving own thinking [28].<br />
Scientists and teachers of Hobart & William Smith College and the University of Northern Iowa – Jenny L. Steele, Curtis<br />
K. Meredith, Charles Temple and Scott Walter – developed interactive educational technology “Development critical way of<br />
thinking through reading and writing” (critical thinking, DCWTRW) [3] in the context of given motivation of development<br />
critical thinking of a man at the end of XX century.<br />
Interactive technology DCWTRW is unique, penetrating and over disciplinary in its content, that fully meets content of<br />
academic discipline “Social medicine and organization of health care” for six-year students of medical faculty after mentioned<br />
above medical specialities.<br />
Such didactic approach was chosen as discipline “Social medicine and organization of health care” has multidisciplinary nature and is interdisciplinary,<br />
since based on theoretical knowledge and practical skills of students achieved at other departments of medical university.<br />
Besides, mostly “Social medicine and organization of health care” now is able to develop such type of thinking at the future doctors, that<br />
gives them possibility adequately evaluate new arisen conditions, forms strategy for overcoming problems in the civil health and medical<br />
securing, and also teaches to adapt in the professional activity to new, sometimes unexpected social, political, economical and other conditions<br />
in the current health care system.<br />
Therefore, the interactive technology DCWTRW, like us, is that part of integrated system of education at the Department of Social<br />
medicine, economics and organization of health care that allows improving practical skills of work with organizational and administrative<br />
available informational medical scope by reading and writing among six-year students after medical specialities “General medicine”,<br />
“Pediatrics” and “Prophylactic medicine” during their primary specialization. Finally, it allows developing and improving positive features of<br />
the future doctor in the open society.<br />
It is important to note, that pedagogic technology DCWTRW does not mean negatively thoughts or unfounded criticism on the subject of<br />
practical courses. It is, as a rule, weighed and thoughtful consideration, interpretation of different and sometimes contradictory approaches or<br />
conceptions of an organizational problem, enclosed by academic theme, with the purpose to accept grounded versions of administrative<br />
decisions and formulation appropriate assessment. Therefore, the term “critical” in the context of social medicine and organization of health<br />
care is equal to word “analytical”.<br />
Implementation of the pedagogic technology DCWTRW at the department is able to realize following goals among future<br />
doctors [11, 21]:<br />
• testing proposed ideas after themes of practical courses. It combines students’ skills of objectively assessing own ideas and ability to take<br />
into consideration criteria and restrictions that determine practical possibilities of implementation and improving ideas in the doctor’s practical<br />
activity;<br />
• formation of student’s new style of thinking on the organization of health care. For this future doctor must be plain, flexible and<br />
reflective, realize internal multiple position and point of view, be alternative at making decisions;<br />
• development of doctor’s basic qualities, such as critical thinking, communicativeness, creativeness, mobility, independence, tolerance,<br />
responsibility for own choice and results of own activity.<br />
During each practical course on a specific academic theme it is important to work out following tasks [17]:<br />
• “educational student motivation”. It prompts to increase interest in studying and active perception of educational material thorough<br />
specific theme of offered appropriate legislative and normative documents or specific situations in practical health care;<br />
• “sheet culture”. It allows to form practical skills during processing appropriate accounting-reporting statistical forms, different types of<br />
situational tasks according to guidance documents;<br />
• “information literacy” through development in students abilities for self-analytic work with the information of appropriate complexity<br />
(legislative, normative and legal, instructive, methodical, etc.);<br />
• “social competence” is achieved by forming communicative skills and personal responsibility for the acquired and demonstrated<br />
knowledge and acquired practical skills.<br />
The mentioned aims and tasks of the interactive pedagogic technology DCWTRW must grounded at educational process on didactic<br />
regularity, which in national pedagogy called didactic cycle, and in mentioned interactive methodology is based on three phases: evocation;<br />
69<br />
Pedagogical sciences<br />
Innovational processes in education
Pedagogical sciences<br />
Innovational processes in education<br />
realization of meaning; reflection [4, 13, 16, 24].<br />
Content of evocation in the educational technology DCWTRW is grounded on recalling achieved knowledge at other departments on<br />
similar topics during the preparing process for practical courses by students.<br />
Just through this phase future doctor analyses and determines own level of knowledge – “What I know?”, and forms own conception on<br />
self-achieving necessary academic information in extracurricular conditions – “What I want to know?” Thus, the previously acquired<br />
knowledge of the students are lead on level of understanding and set base for mastering new knowledge. It gives ability for students for<br />
effective combining new information with previous known and consciously and critical approach for understanding new information.<br />
During evocation phase of interactive technology DCWTRW is activated knowledge of student achieved during extracurricular selfpreparing<br />
and during practical course, because he becomes active under the condition of purposefulness of own thoughts and expression own<br />
views through mechanism of individual and group form of work.<br />
Besides this, during evocation/motivation phase is forming student interest as personality in achieving new information and importance<br />
of the subject and also is providing appropriate interest and definition of personal aim in discussing the theme of practical course. Purposeful<br />
education is more effective than purposeless, and aims selected independently more powerful than aim defined by lecturer.<br />
The determinant task of “realization of meaning” phase in the educational process is to support student’s activity, liking and inertia of<br />
motion in achieving knowledge, developed during evocation phase. During phase of understanding through mind students have great<br />
possibility for active achieving of information; its systematization; possibility of thinking about the nature of the object that is studied as a new<br />
value comparing with known; learn to formulate questions and determine through analysis of own understanding of the theme of practical<br />
courser and its significance for practical activity. During “realization of meaning” student has possibility to execute critical and comparative<br />
analysis and synthesis of present and achieved knowledge after specific theme of practical course, also to exchange with ideas, where personal<br />
search necessarily preceded by an exchange of views.<br />
The third phase – reflection is directed on summary and systematization of new information, developing own student’s attitude to<br />
educational material and formulation questions for further advancement in the information field.<br />
Reflection phase is grounded on recognized achievement of new knowledge by students, forming new skills and their combination with<br />
previous acquired, also lead out current and achieved knowledge on level of its understanding and using. Mostly on this stage analysis of<br />
student’s own mind operations forms core of this phase, as reflection over this education process take place. To develop communication skills<br />
for future doctors is extremely important direct live exchange with ideas. Therefore, expression of new information by own words allows<br />
better understanding and accepting it by surrounding people.<br />
However, the third stage of work after methodology “Development critical way of thinking through reading and writing” – reflection<br />
phase – is required not only to the lecturer, who will check memory of own students, but for students too, who will self-analyze if they<br />
achieved goals, solved problems and contradictions that developed during self-processing of new material.<br />
Analysis of reflection is directed on clarifying the meaning of new material, the construction of further education route (this is clear, this<br />
is not clear, find out more about it, on this it would be better to ask a question, etc.). But such analysis will be little useful if not convert it in<br />
verbal or written form. The chaos of opinions which was in the students’ mind during process of self-understanding the theme of practical<br />
course is structured and transformed on new knowledge during process of verbalization, new questions and doubts can arise. However,<br />
students have possibility to realize, that solving the same problem can cause different assessment that will vary in content and form during<br />
exchange of views about read and listened information. Some of the ideas of other students may be quite valid for acceptance as their own.<br />
Other thoughts give rise to discussion. In any case, reflection phase contributes to the development of critical thinking skills.<br />
In general, interactive technology DCWTRW is personally-oriented and allows solving a wide range of educational tasks: educational and<br />
those that develop individual and professional analysis. In a modern dynamic changing world it is important in the education process to create<br />
preconditions for future doctor to get an opportunity to be engaged in the multi-professional interaction, to form basic doctor’s skills in the<br />
information field and learn to apply these skills in everyday practical activity.<br />
Technology DCWTRW allow to teach future doctor to prevent professional situations in the practical activity; transfer knowledge to each<br />
other; though achieved knowledge influence on solving specific problems [19]. In additions, educational technology DCWTRW allows to<br />
form students’ new style of thinking, characterized by frankness, flexibility, understanding internal multiformity of positions and points of<br />
views, alternativeness of decided decisions. It allows to develop such basic features of future doctor as personality, professionalism, clinical<br />
thinking, reflexivity, communicativeness, creativity, mobility, independence, tolerance, responsibility for own choice and result of own<br />
activity [1].<br />
It is worth mention, that using the technology “Development critical way of thinking…” during education of students of medical<br />
universities activates and updates readiness and ability to self-development not only students but also lecturers. That is, when we say that the<br />
present time requires knowledge for skills, the lecturer must be ready that during education process he has to do less controlling and<br />
informative and more coordinating, directing and correction functions [22].<br />
However, for us, applying of interactive technology DCWTRW during education process of students of medical universities is<br />
problematic due to conservatism in changing psychology of existed and formed stereotypes in education among students and lecturers, which<br />
requires considerable hard work for all and reinterpretation of made yesterday, doing today and planned for tomorrow.<br />
Consclusions. 1) Applying interactive educational technology “Development critical way of thinking through reading and writing” at the<br />
Department of social medicine, economics and organization of health care as a quality improvement mechanism of teaching academic<br />
discipline “Social medicine and organization of health care” for six-year students of medical faculty after medical specialities 7.110101<br />
“General medicine”, 7.110104 “Pediatrics” and 7.110105 “Prophylactic medicine” in the context of credit-module system of education is that<br />
reanimating possibility for development “scientific thinking” among future experts in medicine [10], because:<br />
• the aim of education is not the volume of knowledge or information, but the ability of future doctor to manage this information: to search,<br />
to appropriate with the best way, to find sense in it, to use in practical activity;<br />
• do not give students “ready” knowledge, but create conditions for them to construct their own, achieved during education knowledge;<br />
• communicative principle of education students in medical universities of Ukraine should be dialogue, while the regimen of practical<br />
courses – interactive, characterized by a common finding in solving problems and also “cooperative” relations between lecturer and student;<br />
• student ability to think critically is not seeking of faults, but objective assessment of positive and negative sides in cognition of the<br />
education object; it is not simply thinking, but thinking leads to self-improvement, received by student with skills of using correct assessment<br />
standards of critical thinking.<br />
2) Using mentioned theoretical grounds on interactive educational technology DCWTRW during educational process of six-year students<br />
of medical faculty after academic discipline “Social medicine and organization of health care” is direct mechanism for improving quality of<br />
their education. Finally, it fully and entirely will promote development of critical thinking in the future doctors as a basis in the educational<br />
process and further doctor’s activity. It allows according to European standard of education transform immensely growing volume of medical<br />
information into students’ knowledge, while received by student of medical university in such way theoretical knowledge into professional<br />
skills.<br />
70
References:<br />
1. АліфановаІ. Модернізація змісту освіти. – Режим доступу: -http://osvita.ua/school/school_today/1147<br />
2. ВеретенниковаАнна. Американский опыт - толчок к критическому мышлению- Режим доступу:<br />
http: //www.prof.msu.ru/publ/book6/c62_03.htm<br />
3. Евстифеева О. В.Развитие критического мышления через чтение и письмо. Технология РКМЧП. - Режим доступу:<br />
http://nach.goruo.kostanay.kz/16/krpch.doc<br />
4. Євдокимов В.І., Олійник Т.Д., Горькова С.А., Микитюк М.В. Практикум з розвитку критичного мислення. -<br />
Харків: Торнадо, 2002. - 144 с.<br />
5. Ильюшонок Н.Н.Анализ возможностей интерактивных и компьютерных технологий для повышения качества обучения. -<br />
Режим доступу: http://festival.1september.ru/articles/310752/<br />
6. Коротков Е. Концепція якості освіти. - Режим доступу: - http://osvita.ua/school/manage/1342/?list=2 -<br />
7. КременьВасиль. Якість освіти - основа розвитку. - Режим доступу:-http://www.kmu.gov.ua/control/uk/-publish/article?art_id=60649346<br />
8. Критическое мышление. - Режим доступу: http://letopisi.ru/index.php/Критическое_мышление<br />
9. Л.Ямщикова. Критичне мислення як вид розумової діяльності. - Режим доступу: http://74.125.95.132/ search?q=cache:DDqcXJwmzD8J:spc.ks.ua/file_download/<br />
10. Лавріненко О.В. Критичне мислення – сучасна освітня інновація. - Режим доступу:<br />
http://www.pravo. vuzlib.net/book_z1699_page_4.html<br />
11. ЛиндсейГ., ХаллК., Томпсон Р. Творческое и критическое мышление. - Режим доступу: http://nkozlov. ru/library/samorazvit/d4031/<br />
12. Макарова Е.Л. Использование интерактивных форм обучения для повышения эффективности образова-тельного процесса.<br />
- Режим доступу: www.t21.rgups.ru/doc2007/11/17.doc<br />
13. Маковеева Т.Б.Технология “Развитие критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП): базовая модель и некоторые<br />
методические приёмы”. - Режим доступу: ido.tsu.ru/nfpkikt/res3/-MakoveevaTB.pps<br />
14. Медична освіта у світі та в Україні: Навчальний посібник / Ю.В. Поляченко, В.Г. Передерій, О.П. Воло-совець та ін. – Київ,<br />
“Книга плюс”, 2005. – 384 с.<br />
15. Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті. -- К.: Стилос, 2001. - 342 с.<br />
16. ПавловськаО. Р. Розвиток критичного мислення у навчальному процесі. - Режим доступу: http://www. ippo.-org.ua/files/<br />
17. Развитие критического мышления через чтение и письмо. Технология РКМЧП. - Режим доступу:<br />
http://nach.goruo.kostanay.kz/16/krpch.doc<br />
18. Сурмин Юрий. Что такое кейс-метод? Взгляд теоретика и практика.- Режим доступу:<br />
http://www. casemethod.ru/about.php?id_submenu=1<br />
19. Технология "критическое мышление". Часть 1.- Режим доступу:<br />
http://209.85.229.132/search?q=-cache: Eb0dLtjNxFkJ:gimn6.ru/article.asp%3Fid_text%3D120&hl=ru&gl=ua&strip=1<br />
20. Технология "критическое мышление". Часть 1.-Режим доступу: http://209.85.229.132/search?q=cache:<br />
21. Технология “Развития критического мышления через чтение и письмо”. - Режим доступу: http://www.thl. narod.ru/3/ttt.htm<br />
22. Тягло О. В. Критичне мислення як освітня інновація / / Вісник Університету внутрішніх справ. - Харків, 1997. - Вип. 2. - С.<br />
229-232.<br />
23. Фрейре П. „Педагогіка пригноблених”, К., ЮНІВЕРС, 2003, стор. 74<br />
24. Чарльз Темпл, Джінні Стіл, Курт Мередіт. Методична система "Розвиток критичного мислення у навчан-ні різних предметів"<br />
(Підготовлено для розвитку критичного мислення) / Посібник І-ІV, Науково-мето-дичний Центр розвитку критичного та образного<br />
мислення: Інтелект, 1998. - 32 с<br />
25. Эпистемология. - Режим доступу: http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/66693/эпистемология<br />
26. Alec Fisher. Critical Thinking - Cambridge University Press, 2001. -248 с.<br />
27. Dewey J. How We Think. Heath. Boston, 1910.<br />
28. Paul R.W. Critical Thinking: What Every Person Needs to Survive In АRapidly Changing World. – 3-rd edition revisited. Santa Rosa,<br />
CA. 1993. P.97-98.<br />
29. Popper, Karl Raimund . - Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Поппер,_Карл_Рэймонд<br />
ИСТОКИ И СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА<br />
Саносян Х., доцент, кандидат педагогических наук, доцент<br />
Меграбян С., заведующий кафедрой, доцент<br />
Государственный инженерный университет Армении, Армения<br />
Национального первенства по научной аналитике<br />
Проведен анализ применяемых тренировочных подходов, охватывающих период с 50-х годов ХХ века по настоящее<br />
время. Представлены схемы управления тренировочным процессом, реализующие разнонаправленную и однонаправленную<br />
тренировочные нагрузки. К ним относятся “классическая”, блоковая и схема динамического планирования. Во всех случаях<br />
используется конструкция годичной периодизации спортивной тренировки и ее составляющих по Л. П. Матвееву с<br />
использованием содержания, присущего соответствующей технологии планирования. Анализ тренировочных нагрузок рассматриваемых<br />
схем организации тренировочного процесса и классификация физической нагрузки и физических упражнений<br />
позволяяют совершенствовать расчетный механизм их применения при организации тренировочного процесса, что<br />
расширяет методический арсенал тренера. Макет результатов анализа проделанной работы представлен схематично с<br />
учетом простоты и доступности для ее практического применения.<br />
Ключевые слова: спорт, тренировка, периодизация, планирование (“классическая”, блоковая, динамического планирования),<br />
тренировочная нагрузка (разнонаправленная, однонаправленная), биоритмы, физические упражнения, физическая нагрузка, классификация.<br />
The analysis of applied training approaches from 1950s till present time is made. Schemes of the training process<br />
management, which implement multidirectional and unidirectional training workloads are presented. These are the “classic”,<br />
block and dynamic planning schemes. The pattern of yearly periodization of sport training and its elements according to<br />
71<br />
Pedagogical sciences<br />
Theory and methodology of physical training, sport training, health-improving and adaptive physical culture
Pedagogical sciences<br />
L.P.Matveev with the usage of contents proper to an appropriate planning technology is used in every case. Analysis of the<br />
training workloads of examined training process organization schemes and the classification of physical workload and<br />
physical exercises allow us improve the calculation mechanism of their application in the training process organization – this<br />
widens the methodical arsenal of the trainer. The model of the results of work analysis ispresented schematically, considering<br />
the simplicity and availability of its practical usage.<br />
Keywords: sports, training, periodization, planning (“classic”, block, dynamic planning), training workload (multidirectional,<br />
unidirectional), biorhythms, physical exercises, physical workload, classification.<br />
Theory and methodology of physical training, sport training, health-improving and adaptive physical culture<br />
Современная система спортивной тренировки создана передовыми учеными, специалистами, тренерами и их учениками. Это<br />
корифеи советской спортивной науки Л.П. Матвееев, А.Д. Новиков, Б.А. Ашмарин, В.П. Филин, Н.А. Фомин, В.Н. Платонов, А.А.<br />
Тер- Ованесян, С.М. Вайцеховский, В.В. Верхошанский, В.М. Зациорский, Н.Ж.Булгакова [1-17] и др.<br />
Цель исследования. Обобщение и анализ используемых схем организации тренировочного процесса.<br />
Актуальность исследуемого направления обусловлена необходимостью обобщения и анализа используемых схем организации<br />
тренировочного процесса.<br />
Практическая значимостьпредставляемой работы обусловлена возможностью ознакомления и использования специалистами<br />
накопленного банка данных для своевременного переключения от одной схемы организации тренировок к другой.<br />
Используемые методы исследования.Обзор и анализ литературы, обобщение практического опыта и мысленное моделирование<br />
позволили уточнить задачи исследования.<br />
Задачи исследования:<br />
1. Анализ используемых схем периодизации спортивной тренировки.<br />
2. Анализ используемых схем организации тренировочного процесса.<br />
3. Анализ тренировочных нагрузок рассматриваемых схем организации тренировочного процесса.<br />
4. Биоритмы и тренировочный процесс.<br />
5. Классификация физической нагрузки и физических упражнений.<br />
Результаты. Организация тренировочного процесса в спорте подразумевает оптимальное соотношение работы и отдыха в<br />
различные периоды времени. С учетом возраста, уровня подготовленности спортсменов, вида спорта и решаемых задач возможно<br />
применение различных схем периодизации спортивной тренировки.<br />
Наиболее удачной является схема годичной периодизации спортивной тренировки и составляющих компонентов, предложенная<br />
Л.П. Матвеевым. Данная конструкция периодизации спортивной тренировки используется и поныне при использовании любой<br />
“начинки”.<br />
Первоначально годичный промежуток разбивался на три периода: подготовительный (или базовый), соревновательный и<br />
переходный. При необходимости (количество соревнований и оптимизация тренировочного процесса) в дальнейшем были<br />
использованы схемы двух-, трех- и четырехциклового планирования. Предлагаемая схема (одноцикловое планирование) в течение<br />
года повторялась два, три, четыре и более количество раз. При многоциколовом планировании одним из возможных вариантов<br />
является схема, где одноцикловое планирование повторяется N- е количество раз, но только с одним переходным периодом.<br />
Составные компоненты данной конструкции - микроциклы, мезоциклы и макроциклы.<br />
Наиболее приспособленным и широко используемым на практике является недельный микроцикл (маленький цикл). Несколько<br />
микроциклов составляли мезоцикл (средний цикл) и несколько мезоциклов – макроцикл (большой цикл). С учетом того, в какой<br />
части периода (подготовительный, соревновательный или переходный) они располагались, содержание, направленность и выбор<br />
средств изменялись.<br />
В настоящее время используются схемы управления тренировочным процессом предполагающие разнонаправленную или однонаправленную<br />
нагрузку.<br />
В 60 –х годах прошлого столетия были апробированы схемы управления, реализующие разнонаправленную тренировочную<br />
нагрузку. В тренировочном уроке предлагалось прорабатывать скоростные, силовые возможности и выносливость, давая нагрузку<br />
в предложенной очередности [14]. При необходимости акцентирования на одно из указанных физических качеств предлагалось<br />
50% времени уделять ему и по 25%- остальным. При необходимости, очередность прорабатываемых качеств может меняться.<br />
Изученные и выявленные соотношения нагрузки и отдыха при разнонаправленной нагрузке (времени восстановления отмеченных<br />
компонентов: (скоростные качества 6 час, силовые -12 час. и выносливость 24 – 48 час.)) позволили планировать двух и четырех<br />
разовые тренировки в течение тренировочного дня, доводя их количество с 3 до 15 и 20 в течение недельного микроцикла [13-15].<br />
Очевидно, что при данном подходе планирования основой конструкции является микроцикл. Средние (мезоциклы) и большие<br />
(макроциклы) циклы конструировались на базе микроциклов. При данном подходе и на тренировочном уроке и в микроцикле использовалась<br />
разнонаправленная тренировочная нагрузка.<br />
При тренировке спортсменов высокого класса Ю.В. Верхошанским [6-8] было предложено использование однонаправленной<br />
концентрированной нагрузки.<br />
В 80-х годах прошлого столетия им были обоснованы оптимальные временные промежутки воздействия и отдыха при однонаправленной<br />
нагрузке. При предельных однонаправленных (выносливость, сила или скоростные качества) нагрузках в течение 60<br />
дней было выявлено, что повышение тренированности замечается в первые 20 дней, последующие 20- удержание и далее (период<br />
20 дней)- снижение тренируемого качества.<br />
Ю.В. Верхошанским предложена фаза повышения возможностей (при высокой интенсивности - 20 дней или меньше, при более<br />
низкой интенсивности - отмеченные временные промежутки увеличиваются): после трех микроциклов ударной направленности<br />
использовать один микроцикл компенсаторной (восстановительной) направленности и менять направленность воздействия ( т. е.<br />
прорабатываемое качество). В качестве одной из возможных схем организации тренировочного процесса предлагалось вначале<br />
прорабатывать выносливость (аэробные возможности) и максимальные силу, далее, (после компенсаторного микроцикла) силовую<br />
выносливость и завершить схему (после компенсаторного микроцикла) тренировкой скоростных возможностей.<br />
Данная схема используется в периодизации Л.П. Матвеева. С учетом того, где она расположена: в подготовительном или соревновательном<br />
периоде, меняются используемые средства. На основе используемой периодизации (одноцикловой, двухцикловой и<br />
более) естественно изменяются сроки (продолжительность) микро-, мезо и макроциклов.<br />
Принимая во внимание тот факт, что при однонаправленной нагрузке исследованы эффект и возможные изменения уровня подготовленности<br />
спортсменов, а также и их результат в течение длительного промежутка времени, планирование производится “от<br />
результата”. Микроцикл в данной схеме решает только локальные задачи и не является основой конструкции.<br />
Данный подход на основе накопленного материала и апробирования банка данных представлен в работе В. Б. Иссурина<br />
“Блоковая периодизация спортивной тренировки” [11] (В.Б. Иссурин долгие годы являлся руководителем КНГ Сб. СССР по гребле<br />
на байдарках и каноэ).<br />
72
Одной из научно обоснованных систем организации тренировочного процесса является принцип динамического планирования<br />
[5]. Истоками методологии динамического планирования является метод “параметрической тренировки”, который привязан к количественным<br />
(тренировочная нагрузка [9,10]) и качественным (закономерности изменения уровня тренированности физических<br />
качеств [2]) переменным.<br />
Анализ всех отмеченных схем представлен в следующем разделе настоящей статьи.<br />
Обсуждение результатов. В 70-х годах прошлого столетия В. Бойко посредством “кривой нормального распределения” был<br />
рассчитан тренировочный эффект при однонаправленной и разнонаправленной нагрузках [3,4]. Обоснование, принцип действия<br />
“нормальной кривой” применительно к спортивной деятельности подробно даны в [3] и др. работах. При упрощенном рассмотрении<br />
практически важным является то обстоятельство, что: 1) “кривая нормального распределения” принята в качестве условного<br />
графического отражения обобщенного уровня двигательной функциональной системы (ДФС) организма; 2) устойчивость ДФС характеризуется<br />
равновесием параметров внешней (в том числе и физической нагрузки) и внутренней среды; 3) физическая нагрузка,<br />
изменение ее параметров являются суперфактором, нарушающим это равновесие. Влияние в качестве дополнительного внешнего<br />
фактора (суперфактора) на внутреннюю среду нарушает (изменяет) состояние ДФС и, естественно, кривой (рис 1). На рис.1,<br />
согласно данным [3], изображено изменение ДФС при целенаправленной физической нагрузке. В данном случае с учетом того, что<br />
от “точки Х (рис.2) в правую сторону идут возрастающие значения признака - Х , а в левую – убывающие” (рис.1), отражается<br />
воздействие суперфактора в диапазоне Х - s+3. При разнонаправленной нагрузке изменение параметров ДФС (и результата)<br />
происходит вследствие превалирования одного из них, что требует более длительного времени и большого обьема тренировочных<br />
нагрузок[3,4]. Для обеспечения целенаправленности тренировочного процесса акцент должен быть сделан на участках в диапазоне<br />
от s-1до s+3.<br />
В 70-х годах прошлого столетия одной из разновидностей организации учебно -тренировочного процесса являлась<br />
структура маятникообразной тренировки [1]. Как отмечено в [13, С.255] “принципом маятника” предусматривается подчеркнуто<br />
ритмичное чередование микроциклов модельно-соревновательного типа и контрастных микроциклов”. “Ритм чередования<br />
микроциклов задается с таким расчетом, чтобы фаза повышенной мобилизации совпадала в итоге повторений с днями, на<br />
которые намечено основное соревнование.” Более подробно система представлена в [1] и др. работах автора. В схемах<br />
тренировочных процессов отметим подход, который использовался в циклических видах спорта. В структурах СКА СССР<br />
проводился отбор призывников ВМФ для занятий академической гребли одного из подразделений, которые в 80-е годы<br />
тренировалось на Ереванском водохранилище. В рассматриваемом случае основополагающей, по - видимому являлась<br />
организация тренировочного процесса с жесткой привязкой к биоритмам человека. Подробный анализ данной концепции в<br />
литературе отсутствует. Во всяком случае ударные микроциклы предлагались периодически, остальное время заполнялось совершенствованием<br />
техники и СФП. С учетом [12, 18] и других работ расчет сенситивных периодов и использование этих<br />
данных при управлении тренировочным процессом является вполне возможным. В [12] предлагалось по изменению внешних<br />
параметров определять динамику периода биоритмов энергообеспечения и физических качеств. Анаболическая или катаболическая<br />
направленность энергообеспечения определялась по изменению веса тела. Динамика периодичности основных физических<br />
качеств определялась при помощи соответствующих упражнений (сила кисти - сила, удержание согнутых локтей в висе на перекладине<br />
– выносливость мышц, прыжок вверх - быстрота). Автор выявил, что эффективность применяемых средств высока<br />
при совпадении направленности тренировочной нагрузки с пиком данного качества и анаболической направленности энергообеспечения.<br />
Те же вводные данные при катаболической направленности энергообеспечения снижают их эффективность.<br />
Работы Дж. Уилмора и Д. Костилла [17] дополняют эти данные в более широком временном диапазоне.<br />
Вопросы классификации физической нагрузки и физических упражнений рассмотрены в [16]. Для классификации физических<br />
упражнений в качестве критерия используется маркер (соотношение скорость - время), который присутствует при всех уровнях рассмотрения<br />
(кибернетический подход): физический, физиологический и биохимический (на уровне механизмов и на уровне клеток).<br />
Классификации физической нагрузки произведена благодаря выявленному критерию А (его физическая формула). Компонентами<br />
системы являются: расчет тренировочной нагрузки по параметрам объема и интенсивности; оценка "качественных характеристик<br />
двигательного аппарата человека" по параметрам быстроты, силы, выносливости, координации и др.; оценка движения с учетом его<br />
точности (энергетические (F), пространственные и временные (t) параметры) и надежность их исполнения.<br />
С учетом необходимости ознакомления и использования малоиспользуемых технологий данная работа позволяет упорядочить<br />
накопленный теоретический материал и совершенствовать расчетный механизм, облегчая его осмысление и применение при<br />
организации тренировочного процесса [16].<br />
Выводы. Проведен анализ применяемых тренировочных подходов, охватывающих период с 50-х годов ХХ века по настоящее<br />
время.<br />
Выявлены схемы управления, реализующие разнонаправленную и однонаправленную тренировочные нагрузки.<br />
Отмечены основные три схемы организации тренировочного процесса: “классическая”, блоковая и схемы<br />
73<br />
Pedagogical sciences<br />
Рис. 1. Условное изображение процесса перехода двигательных функциональных систем (ДФС) организма из одного состояния<br />
в другое по [3]: 1 - исходный уровень ДФС; 2 – промежуточный уровень ДФС;<br />
3 - конечный (целевой) уровень ДФС<br />
Рис. 2. Распределение по качественным зонам - уровням (I-VI) совокупной дея тельной активности<br />
при относительной ее стабилизации по [3]<br />
Theory and methodology of physical training, sport training, health-improving and adaptive physical culture
Pedagogical sciences<br />
динамического планирования.<br />
Классическая схема предполагает тренировочную нагрузку разносторонней направленности .<br />
Блоковая схема периодизации предполагает однонаправленную нагрузку.<br />
Метод динамического планирования отталкивается от: 1) закономерностей эффекта тренировочной нагрузки; 2) естественной<br />
динамики изменения физических качеств; 3) динамики изменения физических качеств с учетом тренировочной нагрузки.<br />
При всех видах планирования используется конструкция годичной периодизации спортивной тренировки и ее составляющих<br />
по Л.П. Матвееву с использованием содержания, присущего соответствующей технологии планирования.<br />
С учетом возраста, уровня подготовленности спортсменов и вида спорта возможно использование различных схем управления<br />
тренировочным процессом: при тренировке спортсменов низкой классификации – схемы управления, реализующие разнонаправленную<br />
нагрузку; при тренировке спортсменов высокой квалификации - однонаправленную тренировочную нагрузку.<br />
Анализ тренировочных нагрузок рассматриваемых схем организации тренировочного процесса и классификация физической<br />
нагрузки и физических упражнений позволяют совершенствовать расчетный механизм их применения при организации<br />
тренировочного процесса, что расширяет методический арсенал тренера.<br />
Макет результатов анализа проделанной работы представлен схематично с учетом простоты и доступности для ее практического<br />
применения.<br />
Theory and methodology of professional education<br />
Литература:<br />
1. Аросьев А.Д. Исследование некоторых форм построения предсоревновательного этапа тренировки: Автореф. канд. дисс.- М.,<br />
1969.-27 с.<br />
2. Бальсевич В.К. Онтокинезиология человека.- М.: ТИПФК, 2000.- 274 с.<br />
3. Бойко В.В. Целенаправленное развитие двигательных способностей человека.-М.: ФиС, 1987.- 144 с.<br />
4. Бойко В.В. Целенаправленное развитие двигательных функций человека в процессе физического совершенствования и коррекционно-восстановительной<br />
работы: Автореф. дис. док-ра педагогических наук.- Одесса, 1994.-28 с.<br />
5. Беляев С. Подходы к созданию национальной системы мониторинга и подготовки спортсменов и оказания срочной<br />
методической помощи тренерам с использованием метода динамического планирования подготовки// В кн.: Актуальные проблемы<br />
подготовки квалифицированных пловцов. М, 2011.<br />
6. Верхошанский Ю.В. Горизонты научной теории и методологии спортивной тренировки // Теория и практика физ. культуры. -<br />
1998. - N 7. - С. 41-54.<br />
HTTP://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/1998N7/p41-54.htm<br />
7. Верхошанский Ю.В. На пути к научной теории и методологии спортивной тренировки / Теория и практика физ. культуры. -<br />
1998. - N2. - С. 21-26,39-42.<br />
HTTP://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/1998N2/p21-26,39-42.htm<br />
8. Верхошанский Ю.В. Теория и методология спортивной подготовки: блоковая система тренировки спортсменов высокого<br />
класса // Теория и практика физ. культуры. - 2005. - N4. - С. 2-14. HTTP://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/2005N4/p2-14.htm<br />
9. Гордон С.М., Попов О.И. Параметрические программы тренировки как основные составляющие элементы процесса<br />
подготовки спортсмена// Теория и практика физ. культуры. - 1986. - N10. - С. 32-35.<br />
10. Гордон C.М., Е.С. Стародубцева. Параметрическая тренировка юных пловцов в годичном макроцикле// Физическая<br />
культура: воспитание, образование, тренировка.- 2004. - N 4. - С. 28-29. HTTP://lib.sportedu.ru/Press/FKVOT/2004N4/p28-29.htm<br />
11. Иссурин В.Б. Блоковая периодизация спортивной тренировки: монография. -М.: Советский спорт, 2010.-288 с.<br />
12. Кучеров И.С. Ритмичность трофических процессов в организме человека и животных: Автореф. док. дисс. по спец. 03.102.-<br />
Киев, 1971.-50 с.<br />
13. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки: Уч. пос. для ИФК.- М.: ФИС,1977.-280 с.<br />
14. Проблемы спортивной тренировки (физическая подготовка спортсмена)//Сб. научно-метод. работ Центрального и<br />
Ленинградского НИИФК/ Под общ. ред. С.В. Каледина (разд.1) и В.М. Дьячкова (разд.2).- М.- ФиС, 1961.- 317 с.<br />
15. Платонов В.Н. Подготовка квалифицированных спортсменов.-М.: ФИС, 1986.-286 с.<br />
16. Саносян Х.А. Классификация физических упражнений и физической нагрузки: анализ и обоснование современных<br />
подходов//Современные проблемы развития человеческого общества:Сб. мат. VII-ой Межд. научно-практ. конф. (Одесса, Лондон,<br />
21 - 28 июля 2011 года).- Odessa, InPress, 2011. С. 47- 51.http://gisap.eu/sites/default/files/VII_conference.pdf<br />
17. Уилмор Дж.Х., Костилл Д.Л. Физиология спорта и двигательной активности/перевод с английского: Учебник.- Киев:<br />
Олимпийская литература:- 1997.-504 с.<br />
18. Шапошникова В.И. Индивидуализация и прогноз в спорте. -М.: ФиС, 1984.-157 с.<br />
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКМЕОЛОГИЯ В КОНТЕКСТЕ ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ<br />
Форня Ю.В., д-р психол., доцент<br />
Молдавский Государственный Университет Медицины и Фармации им. Николая Тестемицану, Молдова<br />
Участник конференции,<br />
Национального первенства по научной аналитике,<br />
Открытого Европейско-Азиатского первенства по научной аналитике<br />
Качественное развитие и совершенствование преподавателей ГУМФ им. Николая Тестемицану одно из приоритетных<br />
вопросов высшего медицинского образования.<br />
На кафедре Экономики, Менеджмента и Психопедагогики в медицине мы разработали и внедрили акмеологические концепции<br />
и технологии развития педагогической компетентности преподавателей медицинского ВУЗа (Форня Ю., 2012 г.).<br />
Педагогическая акмеология существенно меняет акценты в сфере профессиональной деятельности - на формирование компетентности<br />
преподавателей медицинских ВУЗов в контексте требований Европейско-Азиатского пространства и высшего<br />
медицинского образования.<br />
Ключевые слова: педагогическая акмеология, медицинская акмеология, специфические компетенции для формирования<br />
дидактической карьеры в медицине, оценка преимуществ, стажоры, самооценка профессиональных компетенций, тренер для<br />
74
тренеров, ответный лист тренера, портфолио преподавателя, методологический гид.<br />
Qualitative development and the perfection of the professors of Medical and Pharmacy State University Nicolae Testemitanu is one of the<br />
priority issues of the higher medical education.<br />
We had developed and implemented the acmeologic conceptions and the technologies of pedagogic skills development at professors<br />
teaching at the Faculties of Economy, Management and Psycho – Pedagogy within Medical State University (Fornea Yu., 2011; 2012 years).<br />
Pedagogic acmeology substantially changes the accents in the professional activity sphere - during the competence formation of the<br />
professors of the Medicine Universities in the context of Euro Asian territory requirements and higher medical education.<br />
Keywords: pedagogic acmeology, medical acmeology, specific competencies for didactic career formation in medicine,<br />
advantage evaluation, interns, self evaluation of the professional competencies, trainer for trainers, trainer sheet, academic<br />
staff portfolio, methodology guide.<br />
Акмеология (от аkme - вершина и логия и lоgos - учение) наука изучающая феноменологию, закономерности и механизмы<br />
развития человека на ступени его профессиональной зрелости, это новая междисциплинарная область знаний в системе наук о<br />
человеке. Проблемы акмеологии как науки были сформулированы Б. Г. Ананьевым (1969) и развиты А. А. Бодалёвым (1993) и др.<br />
[1]. Основная область исследований акмеологии связана с изучением профессионализма как высшей ступени развития человека,<br />
т.е. профессионализм педагогической, медицинской или иной деятельности людей [2; 3].<br />
Предмет акмеологии - объективные (качество полученного воспитания и образования) и субъективные (способности,<br />
компетенции и др.) факторы, содействующие достижению вершин профессионализма, а также закономерности в организации<br />
обучения специалистов.<br />
Педагогическая акмеология выявляет различные черты, проявляющиеся у преподавателей в процессе дидактической<br />
деятельности, а также исследует факторы, которые определяют качественные и количественные характеристики "акме". Её<br />
важнейшей задачей является разработка методологического инструментария, помогающего преподавателю медицинского ВУЗа организовать<br />
условия для оптимального достижения ступеней профессионализма в сфере его педагогической деятельности, для<br />
проявления социально значимых и личностных качеств. Это последовательное продвижение к вершинам профессионального<br />
мастерства, которая проявляется в самовыражении, т.е. это наука о закономерностях развития личности под влиянием самоопределения,<br />
жизненного опыта, социального окружения и образования.<br />
На сегодняшний день всё более проявляется тенденция усиления роли компетенций в высшем медицинском образовании. При<br />
проектирования компетенций важно учитывать реальную ситуацию в данном конкретном ВУЗе. Новые тенденции в Европейском<br />
союзе, иметь общие подходы к качественному медицинскому образованию и создание Европейского пространства Высшего<br />
Образования дает возможность формирования нового стиля поведения преподавателей ВУЗов, который бы положительно<br />
удовлетворял требования актуального этапа социального развития, что ведет к исследовании таких проблем, как профессиональный<br />
и личностный имидж.<br />
Оригинальность исследования: оценка компетентной Модели преподавателя медицинского ВУЗа и разработка психологической<br />
программы развития преподавателя медицинского ВУЗа; Создание Имидж - кейса преподавателя ВУЗа как способ профессионального<br />
и персонального развития.<br />
Цель: изучение профессиональной компетентности как необходимое условие профессионализма преподавателя медицинского<br />
ВУЗа, при помощи его личностных и профессиональных компетенций, разработка и утверждение программы психологического<br />
вмешательства в данный процесс.<br />
Существует многочисленные объяснения понятия «компетентность» (competentia), но главное на что стоит обратить внимание,<br />
что это «обладание знаниями и умения, осведомленность, качество своих знаний и навыков» в определенной области.<br />
Профессор А.А. Крылов пишет, что "мастер педагогического труда - это, прежде всего, высококомпетентный в психолого-педагогической<br />
и собственной предметной области специалист, умеющий репродуцировать на высоком уровне профессиональные<br />
знания, навыки, умения".<br />
Компетентный преподаватель интегрирует в себе высокий уровень профессиональных, педагогических, психологических и<br />
социальных качеств.<br />
Также А. А. Крылова представил следующий аспект: «педагогическое творчество эффективно там, где оно опирается на<br />
высокую профессионально-педагогическую компетентность". Важнейшим критерием для оценки квалификации преподавателей<br />
медицинского ВУЗа является их умение сочетать в методологическом аспекте преподавания, теоретические знания,<br />
практические навыки / компетенции для эффективного осуществления дидактического процесса и формирования качественных<br />
медицинских кадров.<br />
Критерии компетентности преподавателей в медицине внедряют, как и в других ВУЗах те же аспекты (по Н. В. Кузьминой):<br />
когнитивный; профессиональный и личностный.<br />
Задачи исследования: установление содержания релевантной модели преподавателя медицинского ВУЗа; разработка и<br />
утверждение психологической программы развития компетентного преподавателя медицинского ВУЗа; реализация психологического<br />
эксперимента утверждения программы развития компетентного преподавателя.<br />
Прикладное значение состоит в том, что мы создали Программу развития компетентного преподавателя медицинского ВУЗа,<br />
которая в дальнейшем будет рекомендована преподавателям медицинского ВУЗа для развития их личности в профессионально-педагогическом<br />
плане.<br />
После консультации с европейскими экспертами по внедрению PBL (Problem Based Learning) в 2011-2012 учебном году мы<br />
адаптировали перечень основных и второстепенных компетенций, который основывается на главных целях высшего медицинского<br />
образования, структурном представлении социального опыта и опыта личности, а также основываясь на конкретных видах<br />
деятельности студентов, которые позволят им овладевать социально -медицинским опытом, получать эффективные навыки<br />
практической деятельности. В этом контексте, важно развивать у студентов учебно-познавательные компетенции в сфере<br />
самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, методологической и учебной деятельности.<br />
Также, важно развивать у них ценностно-смысловые; информационные; коммуникативные и общекультурные компетенции.<br />
Поскольку в практике используется и термин “компетенция” и “компетентность”, для того, чтобы понять их природу,<br />
целесообразно выяснить, в чём их сходство и различие. Профессиональная компетентность - способность, необходимая для<br />
решения профессиональных задач и для получения необходимых результатов работы.<br />
В модели профессионального развития основной акцент переносится на формирование умения “выйти” за пределы непрерывного<br />
потока повседневной практики; видеть, осознавать и оценивать различные проблемы, конструктивно разрешать их в соответствии<br />
со своими ценностными ориентациями, рассматривать любую трудность как стимул дальнейшего развития. Если адаптивная<br />
модель профессиональной подготовки ориентирована на сиюминутное реагирование на внешние изменения, то модель<br />
профессионального развития – на учёт и прогнозирование будущих изменений (программы повышения квалификации) [4; 7].<br />
75<br />
Pedagogical sciences<br />
Theory and methodology of professional education
Pedagogical sciences<br />
Theory and methodology of professional education<br />
Под андрагогической компетентностью - мы условились понимать интегральную характеристику, определяющую способность<br />
решать профессиональные проблемы и задачи, возникающие в реальных ситуациях взаимодействия в образовательных учреждений,<br />
с использованием знаний, профессионального и жизненного опыта, ценностей и наклонностей. Анализ стратегических задач<br />
модернизации образования позволяет определить некоторые ключевые компетенции преподавателей, которые составляют<br />
андрагогическую компетентность, это: коммуникативная компетенция; способность к самоуправлению; способность к эффективному<br />
поведению и интерпретативная способность [4; 5].<br />
Развитие андрагогической компетентности, перевод знаний в личностные качества, в процессе обучения в системе повышения<br />
квалификации, очевидно, невозможно осуществить без включённости индивидуального сознания и самоорганизации развития<br />
двух психолого-педагогических содержаний: знания и сознания, в них проявляется процесс самоисследования, непосредственно<br />
включённый в процесс повышения квалификации, который приводит к расширению самосознания того, кто задаёт вопросы себе.<br />
Мы отметили, что преподаватели медицинского ВУЗа недостаточно оценивают роль компетентностного подхода к формированию<br />
личности профессионала, в этом контексте мы выявили необходимость всеобъемлющей схемы для оптимизации отношению к компетентностному<br />
подходу. С этой целью была разработана психологическая и консультативная программа для развития компетентного<br />
преподавателя медицинского ВУЗа. Программа представляет собой интенсивные тренинги для развития компетентного преподавателя,<br />
направленная на развитие личностных и профессиональных качеств, а также практических навыков и специфических компетенций<br />
для качественной работы со студентами. Очень важно, что «наши тренеры» по Психопедагогики Высшего Образования, формируют<br />
будущих «тренеров», т.е. компетентных преподавателей для развития будущих компетентных специалистов в медицине. Также<br />
наши специалисты в области Психопедагогики используют коучинг в медицине, потому что во многих ситуациях наши стажеры<br />
(преподаватели ГУМФ) достигают профессиональных целей намного эффективнее и быстрее, чем другие коллеги, и это<br />
действительно именно то, что им нужно. При профессиональной поддержке «коуча», преподаватель самостоятельно формулирует<br />
цели, нарабатывает стратегии и осуществляет наиболее эффективную профессионально-педагогическую и методологическую деятельность.<br />
В отличие от психотерапии, коучинг нацелен на будущее, он помогает, работая над своим настоящим, по другому<br />
взглянуть на жизнь, осознать свои истинные, а не навязанные общественным мнением, желания, потребности и ценности,<br />
избавиться от внутренних барьеров, препятствующих достижению целей и научиться находить собственные решения [9; 10].<br />
«Коучинг» - это раскрытие потенциала человека с целью максимального повышения его эффективности; это действие, имеющее<br />
цель достижения поставленных задач, это также процесс, позволяющий личности преподавателя использовать нужные методы и<br />
приемы для достижения хороших и качественных результатов.<br />
Когда преподавателям необходимо повысить свою эффективность и ответственность в плане компетентности, они консультируются<br />
с тренером (коучем), благодаря этому - возникает полная ясность относительно того, что они должны предпринимать, взаимодействуя<br />
с коучем, и использовать в дальнейшем, все необходимые ему ресурсы для достижения своих целей, поэтому решающее значение в<br />
подготовке и развитие дидактических кадров в медицине является, прежде всего, желание изменить или улучшить свою<br />
компетентность и профессионализм [9].<br />
В этом контексте мы включили в курсы квалификации наших преподавателей (Ецко С., Форня Ю, Глоба Н., 2006) андрагогику,<br />
отрасль педагогической науки, раскрывающая теоретические и практические проблемы обучения, воспитания и образования<br />
взрослого человека в течение всей его жизни. В широком смысле андрагогику следует понимать как науку личностной<br />
самореализации человека в течение всей его жизни.<br />
По мнению С. Дворак, Б. Копп, Х. Мандл, кроме профессиональной компетентности, андрагог должен обладать: дидактической<br />
и медиа-дидактической компетентностью; социальной компетентностью; организационной компетентностью.<br />
Начиная с 2008 года, мы проектировали новые модули подготовки и развития преподавателей ГУМФ им. Николая Тестемицану,<br />
такие как: Андрагогика; Педагогическая Имиджелогия; Методология Высшего Образования; Квалитология Образования, Наука<br />
оценивания; Педагогический Менеджмент, Мотивация Обучения и др.<br />
Также мы изменили форму проведения курсов квалификации преподавателей, обновили методологически формативную<br />
программу, дополнили и проектировали новые модули подготовки и развития педагогических - профессиональных и дидактических<br />
компетенций. Мы подготовили на кафедре более 200 преподавателей ГУМФ, соответственно: в 2008 г. - 50 ч.; в 2009 г. - 63 ч; в 2010<br />
г. 34 ч.; в 2011 г. - 26; в 2012 г. - 30 ч.<br />
Выделились такие формы, как конференции, тематические обучающие семинары, разработческие и экспертные семинары,<br />
спецкурсы, включающие проблемные семинары, семинары-тренинги, круглые столы, организационно - деятельностные игры и т.п.<br />
С другой стороны, в настоящее время выбор адекватной образовательным задачам формы организации учебного<br />
процесса, играет существенную роль в образовании взрослых. Поэтому отмечается необходимость в поиске новых форм образовательных<br />
мероприятий для взрослых и перенос активных методов на эти формы. В этом контексте повышается роль<br />
модульной системы обучения, которая имеет свои достоинства: четкая структура курса, упорядоченность; возможность отслеживания<br />
связей; осознание перспективы; индивидуальный подход к обучению; гибкость предоставления информации;<br />
развитие критического мышления; многофункциональность; возможность самоконтроля обучения собственной деятельности;<br />
активизацию познавательной деятельности; комплексность, ориентацию на перспективу продвижения; возможность<br />
самоконтроля и самооценки; тренировку в выборе правильного решения; ответственность за свои решения; гибкий график<br />
усвоения новых знаний, навыков и компетенций, и т.д.<br />
Одно из важнейших условий повышения качества образования – это высокий уровень профессиональнопедагогической<br />
компетентности преподавателя.<br />
В 2010-2011 уч. году проблемы компетентностного подхода обсуждались на заседании кафедры Экономики, Менеджмента и<br />
Психопедагогики в медицине «Компетентностный подход к развитию преподавателей в медицине». С целью формирования<br />
современного педагогического мышления преподавателя были проведены психолого-педагогические тренинги: «Рефлексия как<br />
основа профессиональной компетентности»; «Формирование коммуникативной компетентности преподавателей»; «Навыки<br />
критического и творческого мышления»; «Сотрудничество в решении профессиональных задач» и др.<br />
Также мы внедрили педагогические технологии, как способы эффективного решения задач, совершенствования профессионализма<br />
преподавателей медицинского ВУЗа. При помощи факторного анализа мы выявили следующие факторы, которые преимущественно<br />
влияют на формирование личности преподавателей: функциональность и психосоциальная ответственность; мастерство и профессиональная<br />
компетентность в сфере психолого-педагогической работы преподавателей мед. ВУЗа.<br />
Начиная с 2008 года, произошли существенные изменения в педагогической и методологической подготовке и квалификации<br />
преподавателей ГУМФ им. Николая Тестемицану. Мы качественно изменили формирование педагогических компетенций и<br />
культуру оценочной деятельности у преподавателей медицинского ВУЗа (около 200 ч.).<br />
Разносторонние стратегии оценивания качества медицинского образования, определяют модель интеграции оценочных действий<br />
преподавателей и их компетентности, по принципу «измерение – оценивание - решение) в структуре функционирования<br />
дидактической и методологической деятельности.<br />
76
Pedagogical sciences<br />
При этом мы разработали оценочную решетку, в которой отображены критерии избираемости и оценка преимуществ для<br />
преподавателей в контексте компетентностного подхода. Эти критерии оцениваются максимально - 5 баллов, сюда входят:<br />
деятельность с учетом программы формирования специфических компетенций для дидактической карьеры в медицине; опыт<br />
участия в научно-практических и медико-социальных проектов; профессиональная подготовка и представительность преподавателей<br />
в научной и исследовательской работе на национальном и международном уровне; компетентность в принятии эффективных и качественных<br />
решений, и др. На последнем заседании, мы использовали психолого-педагогическую технику «Модель самооценки<br />
специфических компетенций» для преподавателей, прошедших курсы квалификации в области Психопедагогики Высшего Образования.<br />
Это позволит построить эталонную и идеальную модель саморазвития личностной и профессиональной компетентности преподавателя<br />
в медицине, как компонент его акмеологической культуры. Вся эта проблематика является частью исследований и<br />
разработок в сфере педагогической акмеологии XXI века.<br />
Профессиональная деятельность преподавателя медицинского ВУЗа - это процесс решения разноплановых профессиональных<br />
задач, а также создание педагогических условий, обеспечивающих целенаправленное и эффективное саморазвитие личности<br />
студента и преподавателя в процессе взаимодействия.<br />
Рекомендации: Мы предлагаем ввести в качестве предмета Педагогическую Акмеологию в обучающих программах и курсах<br />
в учреждениях, занимающихся подготовкой и квалификации преподавателей ВУЗов. Необходимо, чтобы все эти знания были в<br />
дальнейшем, применены на практике.<br />
Литература:<br />
1. Бодалев А. А.. Деркач А. А., Климов Е. А., Семенов И. Н., Суслова Е. А., Яблоком Е. А. Программа курса: общая и<br />
прикладная акмеология (для слушателей и аспирантов). Москва, 1994.<br />
2. Деркач А.А., Кузьмина Н. В. Акмеология - наука о путях достижения вершин профессионализма. Москва, 1993.<br />
3. Деркач А. А., Селезнева Е. В. Акмеология в вопросах и ответах: Учеб. пос. М., 2008.<br />
4. Дидактика и компетентность в профессиональной деятельности преподавателя медицинского вуза и колледжа. Руководство<br />
для преподавателей. Под редакцией М. Г. Романцова, М. Ю. Ледванова, Т. В. Сологуб. Изд.-во "Академия Естествознания", 2010.<br />
Раздел 5. In: http://www.monographies.ru/73<br />
5. Змеев, С. И. Технология обучения взрослых: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. Москва: Академия, 2002, 128 с.<br />
6. Коротков, Э. М. Управление качеством образования: Учебное пособие для вузов. Москва: Академический<br />
Проект: Мир, 2006. 320 с.<br />
7. Кузьмина Н. В., Зимичев А. П. Проблемы акмеологических наук. СПб., 1990.<br />
8. Кузьмина Н. В., Пожарский С. Д., Паутова Л. Е. Акмеология качества профессиональной деятельности специалиста. СПб.,<br />
Коломна, Рязань, 2008.<br />
9. Панасюк А. Ю. Формирование имиджа: Стратегия, психотехники, психотехнологии. Москва: Омега-Л, 2007. 266 с.<br />
10. Смирнов, С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности. Учеб. пособие для студ. ВПУЗ.<br />
Москва: Академия 2001, 304 с.<br />
ПОТРЕБНОСТЬ СТУДЕНТОВ ВУЗА В ФОРМИРОВАНИИ ТВОРЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ<br />
Стариков П.А., канд. филос. наук, доцент<br />
Сибирский федеральный университет, Россия<br />
Участник конференции,<br />
Национального первенства по научной аналитике,<br />
Открытого Европейско-Азиатского первенства по научной аналитике<br />
На основании анкетных опросов исследуются представления о творчестве студентов Сибирского федерального<br />
университета. Используется методика анализа смысловых ассоциаций с творчеством. Показана тенденция<br />
гуманизации представлений о творчестве. Творчество образует в представлении студентов взаимосвязанный<br />
смысловой комплекс, центром которого являются такие характеристики творчества, как: добро, обилие энергии,<br />
целостность, здоровье, свобода и независимость, саморазвитие, духовность.<br />
Ключевые слова: студенты, творчество, анализ ассоциаций.<br />
The article reviews the results of the survey devoted to defining attitudes of the Siberian federal university students concerning the<br />
phenomenon of the creativity. The study is based on the analysis of the associations as the most effective method to study such a complex<br />
phenomenon. The research proves the tendency of the humanization of ideas about the creativity. The results of this study show the strong<br />
relations among such features as humanity, the abundance of energy, the integrity freedom and independence, the self-development, which are<br />
integrated in the semantic complex in the mass consciousness.<br />
Keywords: students, creativity, analysis of the associations.<br />
Ускорение темпов перемен, становление информационного общества, трансформация и усложнение экономической,<br />
социальной, культурной сред обитания человека определяют проблематику креативности как одну из актуальнейших<br />
для общественных наук. Понятия «креативный класс», «креативный этос», «креативная экономика и география» фиксировали<br />
внимание исследователей на качественно новых проявлениях человеческого бытия, разворачивающихся на<br />
всех уровнях экономической, социальной и культурной жизни. Как пишет американский социолог Ричард Флорида,<br />
исследующий проблему проявлений креативности в современном обществе: «У человеческой креативности много измерений<br />
и аспектов. Сответственно, креативный этос проникает повсюду, от профессиональной культуры до общечеловеческих<br />
ценностей и сообществ, изменяя наше представление о себе как об экономических и социальных объектах,<br />
т.е. саму идентичность. Новая креативная экономическая система сложилась далеко не окончательно и продолжает<br />
развиваться, опосредуя становление новых стилей труда, стилей жизни, форм общения между людьми и сообществами,<br />
которые, в свою очередь, способствуют творческой деятельности» [1, с. 36].<br />
Ключевое значение в формировании креативного этоса играют университеты, которые становятся ядром креативности,<br />
77<br />
Theory and methodology of professional education
Pedagogical sciences<br />
Theory and methodology of professional education<br />
оказываются основным компонентом инфраструктуры креативной экономики на уровне региона.<br />
В этом социальном, экономическом, культурном контексте формирование компетентности в творчестве (социальные,<br />
психологические, философские аспекты) определяется как все более важная задача вузовского гуманитарного образования.<br />
Проблема целенаправленного формирования творческой компетентности, то есть необходимых знаний и навыков организации<br />
творческого процесса является значимой как в контексте удовлетворения потребностей индивидуального развития студентов, так и<br />
адаптации ценностей гуманитарного образования к рыночным институтам постиндустриального, информационного общества,<br />
креативной экономики.<br />
Очевидно, что для решения этой комплексной проблемы, прежде всего, необходима организация системы<br />
мониторинга творческой компетентности, исследование реальных потребностей студентов в развитии навыков<br />
творчества, получения знаний об организации творческого процесса. В то же время в методологическом плане<br />
изучение и интерпретация представлений, сопряженных с творчеством, связано с очевидными трудностями. Сегодня<br />
способность к творческой деятельности становится своеобразным индикатором успешности человека, развитости его<br />
внутреннего мира. Тема творчества определяется такими актуальными проблемами личности и общества, как: ресурсы<br />
развития человеческих способностей, смысл созидательной деятельности, сознательное и бессознательное, свобода и<br />
спонтанность, системное мышление и интегративность, мировоззрение и место творческой личности в обществе, возможность<br />
и необходимость формирования навыков творчества. В социальном контексте появление креативного<br />
класса, развитие креативного этоса составляет наиболее значимую социо-культурную трансформацию конца второго<br />
и начала третьего тысячелетия.<br />
Трудности, определяемые необходимостью глубинной рефлексии относительно "культурно-генетических кодов" норм и<br />
представлений, соотносящихся с творческим процессом, задают поисковый характер современных эмпирических исследований в<br />
рассматриваемой области.<br />
Результаты мониторингового исследования, проведенного в 2007, 2009, 2010 г. среди студентов Сибирского Федерального<br />
Университета (в целом – 900 студентов) позволяют выявить общую картину отношения современной студенческой молодежи к<br />
творчеству, творческой компетентности, наметить новые гипотезы и перспективные области для изучения по данной тематике. Исследования<br />
проводились среди студентов различных институтов и направлений (естественно-научного, гуманитарного, технического).<br />
63% опрошенных составляют лица женского пола, 37% - мужского. Студентам были предложены проективные тесты, задавались<br />
открытые и закрытые вопросы.<br />
По результатам исследования, прежде всего, следует отметить, что в целом студенты склонны считать творчество, творческие<br />
способности важной характеристикой современного человека, влияющей на его успешность, карьеру. Так, 79% (2007 г.), 85% (2009<br />
г.), 84% (2010) студентов согласны с утверждениями, что «способность к творчеству помогает добиться успеха в жизни»,<br />
«творчество – это источник подлинного удовольствия» (73%, 68%, 75%, соответственно), «на современном рынке труда востребованы<br />
творческие люди» (53% , 51%, 51 %).<br />
Студенты, также, позитивно оценивают возможность развития творческого потенциала личности – 77% (2007 г.), 76% (2009 г.),<br />
72% (2010 г.) студентов согласны или частично согласны с утверждением, что «существуют эффективные методики развития<br />
творческого потенциала личности». Поскольку распределения ответов на вопросы анкеты студентов в 2007, 2009, 2010 гг.<br />
практически совпадают, то далее в докладе приводятся усредненные результаты исследований, проведенных в 2007, 2009, 2010<br />
году.<br />
С целью проанализировать латентные группы смыслов, сопряженные с понятием «творчество», в исследовании был применен<br />
новый методический подход – комплексный анализ смысловых ассоциаций. Респондентам предлагалось оценить по семибальной<br />
шкале (где «1» - не ассоциируется, «7» - характеристика абсолютно подходит) степень ассоциирования каждого предложенного<br />
значения с творчеством.<br />
В целом ассоциативные тесты широко используются в психологических, социологических исследованиях, начиная с пионерских<br />
работ К.Юнга. В нашем исследовании предполагалось, что испытуемый, опираясь на свои ощущения степени смысловой близости<br />
понятий, спроецирует внутренние представления о творчестве на предлагаемый стимульный материал (набор из тридцати четырех<br />
подобранных ранее категорий).<br />
Сравнение результатов исследований за три года показало устойчивость шкалы, достаточную чувствительность шкалы для<br />
изучения влияния различных психологических, социально-культурных и демографических факторов на ассоциативные структуры,<br />
связанные с понятием «творчество».<br />
Анализ средних значений по группам позволяет понять основную структуру ассоциативного поля, сопряженного с творчеством.<br />
Использование корреляционного анализа позволяет уточнить взаимодействие компонентов этого поля.<br />
Основная ассоциативная структура, сопряженная с творчеством, представлена следующими смысловыми категорями (в скобках<br />
указаны средние значения по выборке): воображение (6,4); самовыражение (6,3); талант (6,2); вдохновение (6,1); удовольствие (5,9);<br />
саморазвитие (5,8); оригинальность (5,7); импровизация, спонтанность (5,7); свобода, независимость (5,4); интересные люди (5,4);<br />
интеллект (5,3).<br />
По всей видимости, спектр общих для всех студентов смысловых ассоциаций отражает современную тенденцию<br />
гуманизации представлений о творчестве – то есть формирование взгляда на творчество, как на совершенный модус<br />
человеческого бытия (становления, целостности, свободы и самовыражения). Так, К. Роджерс (один из известных<br />
представителей гуманистической психологии) определяет творчество как «усиление себя», считая, что главный побудительный<br />
мотив творчества - стремление человека реализовать, проявить свои возможности. Под этим стремлением<br />
К. Роджерс имеет в виду «направляющее начало, проявляющееся во всех формах органической и человеческой жизни,<br />
– стремление к развитию, расширению, совершенствованию, зрелости, тенденцию к выражению и проявлению всех<br />
способностей организма и «Я» [2, с.413]. Близкую концепцию творчества развивал А.Маслоу, другие авторы, сопоставлявшие<br />
проблематику здоровья, зрелости, самореализации и творчества.<br />
Показательно в этом контексте ассоциирование творчества студентами, прежде всего, с самовыражением, удовольствием, саморазвитием,<br />
вдохновением, импровизацией и спонтанностью. Можно отметить, что в среднем, для современного студенчества<br />
творчество соотносится больше с воображением, талантом, вдохновением (личностным началом), чем интеллектом, системным<br />
подходом (рациональным и логическим).<br />
Существенно неоднородны по выборке смысловые ассоциации студентов в отношении таких категорий как: обилие энергии<br />
(4,9); интуиция (4,8); добро (4,8); подсознание (4,6); игра (4,6); успешность (4,4); духовность (4,4); глубинное ядро человека,<br />
сущность (4,3); целостность (4,1); тайна (4,1); природное естество, инстинкт жизни (3,9); риск, неопределенность (3,9); здоровье<br />
(3,7); чудеса, волшебство (3,7); престиж (3,2); муки творчества (3,1); конфликт (3,1); проявление Божественного начала (2,9);<br />
системный подход (2,9); ощущение незримой поддержки Вселенной, Бога (2,8).<br />
Анализ данной группы ассоциаций позволяет соотнести смыслы и значения, сопряженные с творчеством, с на-<br />
78
Pedagogical sciences<br />
правленностью трансформационных процессов в современном мировоззрении. Необходимо учесть, что в историческом<br />
процессе представления о творчестве менялись существенным образом, диалектически проявляя все новые его грани.<br />
Современное, здесь и сейчас формирующееся понимание творчества, креативного акта отражает важнейшие<br />
особенности нашей эпохи. Среди них следует отметить несколько, как представляется, наиболее важных: во-первых,<br />
формирование новой картины мира, нового мировоззрения на принципах системности, холизма, синергетичности; вовторых,<br />
актуализацию значимости интегративных процессов для решения глобальных проблем, вставших перед человечеством.<br />
В рамках разнообразных научных концепций рождается представление о фундаментальной целостности мироздания,<br />
обнаруживается, что мы не можем разложить мир на отдельные "строительные кирпичики", все связано со всем. В контексте формирующейся<br />
холистической парадигмы творчество предполагает не просто «манипулирование» информацией с целью получения<br />
решения – оно включает человека в многомерность космического креативного процесса, в котором преобразуется и сам субъект<br />
творчества.<br />
В представлениях авторов гуманистического, экзистенциального, трансперсонального направления мы видим оформление<br />
нового, адекватного для современной эпохи видения творческого процесса, в центре которого взаимодействие со сложными,<br />
уникальными, саморазвивающимися системами (таковыми являются все живые существа, любой реальный объект в силу<br />
существующей связи всего со всем). А именно, каждый акт взаимодействия со сложными, живыми системами - творческий акт<br />
интеграции, трансформации объекта и самого субъекта творчества. Таким образом, творчество определяется в качестве центра,<br />
источника развития человеческой индивидуальности, социальных и природных систем.<br />
Тот факт, что значительная часть студентов соотносит творчество с «обилием энергии» (61% респондентов),<br />
«добром» (57% респондентов), «духовностью» (51%); «глубинным ядром человека, сущностью» (49%); «целостностью»<br />
(44%); «тайной» (48%) позволяет определить актуальность проблематики творчества для современного студенчества<br />
в широком контексте формирования новой картины мира, нового мировоззрения и мироощущения на принципах целостности,<br />
холизма, синергичности.<br />
Анализ корреляционной матрицы по этому блоку переменных показал, что творчество образует в представлении студентов<br />
взаимосвязанный смысловой комплекс, центром которого являются такие характеристики творчества, как: добро; обилие энергии;<br />
целостность; здоровье; свобода и независимость; саморазвитие; духовность (табл.1). Выявленные ассоциативные связи подтверждают<br />
положение о том, что творчество становится одним из центральных понятий формирующегося синкретичного мировоззрения и мироощущения<br />
современной студенческой молодежи.<br />
Таблица 1. Матрица интеркорреляций различных ассоциаций с творчеством<br />
(указаны коэффициенты корреляции по Пирсону)<br />
Для определения интереса студентов к развитию своих творческих способностей, формированию творческой компетентности<br />
задавался вопрос «Насколько для Вас важно развитие следующих способностей и качеств?» с измерением по семибальной шкале<br />
(1- абсолютно не важно, 7 - очень важно, абсолютно необходимо).<br />
В ходе исследования было показано, что студенты проявляют выраженный интерес к овладению конкретными навыками<br />
творчества: «умению генерировать множество разнообразных подходов, идей для решения задач» (среднее значение составляет<br />
5,9); «умению импровизировать» (5,9); «умению посмотреть на мир с иной точки зрения» (5,9); «умению вызывать и использовать<br />
мысленные образы для саморазвития, творчества» (5,5); «выявлению структуры своей личности, защитных механизмов, возможностей<br />
развития» (5,4). Представляет достаточный интерес для студентов «знание техник творчества, психологических закономерностей<br />
творчества» (4,4).<br />
В целом, использование методики изучения смысловых ассоциаций показало многозначность и поликонтекстность<br />
понятия «творчество», его значимое положение в формирующемся современном мировоззрении и мироощущении современного<br />
студенчества. Результаты исследования доказывают актуальность проблематики творческого развития<br />
студенческой молодежи, потребность студентов в получении систематизированных знаний о творчестве, необходимость<br />
разработки и внедрения в образовательный процесс курсов, направленных на формирование творческой компетентности<br />
учащихся в рамках широкого, интегрального подхода, включающего социально-философские, психологические, психотехнические<br />
аспекты.<br />
В заключение следует добавить, что десятилетний опыт разработки и проведения семестрового авторского курса «Творческий<br />
семинар» показал [3,4] аналогичные тенденции: высокий интерес студентов к современным техникам творчества, их потребность<br />
не в узком прагматическом, а в комплексном подходе, основанном на рассмотрении личностной, социальной, духовной и психотехнологической<br />
проблематики творчества.<br />
Литература:<br />
1. Флорида, Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее [Текст] / Р. Флорида. – М.: Издательский дом<br />
«Классика – ХХI», 2007. – 421 с.<br />
2. Роджерс, К.Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека [Текст] / К.Р. Роджерс. – М.: Издательская группа<br />
«Прогресс», «Универс», 1994. – 480с.<br />
3. Стариков, П.А. Пиковые переживания и технологии творчества: учебное пособие / П.А. Стариков. – Красноярск:<br />
филиал НОУ ВПО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права», 2011. – 92 с.<br />
4. Стариков, П.А. Современные технологии организации творческого процесса: учебное пособие / П.А. Стариков.<br />
– Красноярск, 2005. – 89 с.<br />
79<br />
Theory and methodology of professional education
Pedagogical sciences<br />
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ФОРМ ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ<br />
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ<br />
Волкова Г.К. доцент, канд. пед. наук<br />
Запорожский национальный университет, Украина<br />
Участник конференции<br />
Организация самостоятельной работы студентов медицинских вузов в курсе обучения иностранному языку направлена на<br />
формирование профессионально-ориентированной коммуникативной компетенции. Внедрение современных информационных<br />
технологий, применение интерактивных методов обучения и наличие актуальных методических разработок обеспечивают<br />
повышение мотивационного и деятельностного аспектов учебного процесса, а также приводят к положительной результативности<br />
обучения.<br />
Ключевые слова: самостоятельная работа, коммуникативный профессионально-ориентированный подход, информационные<br />
технологии, интерактивные методы обучения.<br />
The organization of independent work of medical students in the course of foreign language teaching is aimed at forming a professionaloriented<br />
communicative competence. The introduction of modern information technologies, the use of interactive teaching methods and the<br />
availability of relevant teaching materials provide increased motivation and activity aspects of the educational process and lead to positive<br />
learning outcomes.<br />
Keywords: independent work, communicative professional-oriented approach, information technologies, interactive teaching methods.<br />
Theory and methodology of professional education<br />
Результатом происходящих в нашем обществе социальных и экономических реформ стал возросший уровень потребности в<br />
овладении иностранными языками. Практическое владение иностранным языком – одна из важнейших характеристик специалиста<br />
любого профиля, и медицинского в том числе. Следовательно, конечной целью обучения иностранного языка в медицинском вузе<br />
является приобретение обучаемыми навыков грамотного использования иностранного языка в реальной жизни как средства не<br />
только повседневного, но и делового, профессионального общения.<br />
Подходом, наиболее соответствующим поставленным перед преподавателями иностранного языка задачам, представляется<br />
коммуникативный профессионально-ориентированный подход к обучению. Согласно основным положениям этого подхода,<br />
обучение должно быть направлено на реальное использование языка в жизни в условиях решения профессиональных задач. В<br />
основе коммуникативного подхода лежит утверждение о том, что для эффективного использования языка необходимы не только<br />
знания о различных языковых формах (грамматических, лексических и т.д.), но и их значение, и функциональное использование в<br />
конкретных ситуациях речевого общения. Важной особенностью этого подхода является его ориентированность на результат<br />
обучающей деятельности, а не на процесс формирования знаний, навыков и умений. Это означает, что от обучаемого требуется не<br />
описание правил использования языковой формы, а функционально и грамматически правильное ее употребление в конкретной<br />
ситуации общения.<br />
Поиск новых технологий обучения иностранному языку в неязыковом вузе обусловлен рядом обстоятельств. Во-первых, эффективность<br />
обучения иностранному языку по традиционной системе в значительной степени не соответствует требованиям к<br />
уровню знания языка. В то же время применение новых методик без использования традиционных методов создает ряд трудностей.<br />
Отсутствие необходимого объема автоматизации навыков лишает студентов базы, необходимой для продуктивной творческой<br />
работы. Во-вторых, недостаточно разработана теория и практика технологических основ обучения иностранным языкам в<br />
медицинском вузе.<br />
Использовать Интернет для обучения иностранным языкам очень удобно, плодотворно и перспективно. Использование<br />
Интернета на занятиях делает процесс обучения языку более привлекательным для студентов, так как они получают доступ к<br />
интересным профессионально значимым материалам, которые выгодно отличаются от статичных устаревших текстов в учебнике.<br />
Наконец, благодаря Интернету, мы имеем доступ к неограниченному количеству аутентичной информации на иностранном языке,<br />
чего раньше явно не хватало, так как не у всех был доступ даже к зарубежным медицинским журналам. Кроме того, Интернет – это<br />
разнообразные коммуникации: электронная почта, всевозможные конференции, форумы, чаты, аудио-чаты и прочее, он создает<br />
сильную мотивацию к изучению иностранного языка.<br />
Руководствуясь основным постулатом коммуникативного подхода к изучению языка, который гласит, что целью обучения<br />
является использование языка в реальных условиях коммуникации, в процессе обучения необходимо развивать все те профессионально-ориентированные<br />
коммуникативные умения, которые применяются в жизни. В условиях реального общения коммуникативные<br />
умения не делятся на группы, так как они используются в совокупности, комплексно. В ходе обучения необходимо разделить коммуникативные<br />
умения с тем, чтобы способствовать их синхронному развитию и постоянному контролю над ними.<br />
По характеру работы с информацией выделяют следующие группы умений:<br />
• рецептивные умения – аудирование и чтение;<br />
• продуктивные умения – говорение и письмо.<br />
Целью учебного процесса является обеспечение развития вышеназванных коммуникативных умений, что способствует<br />
формированию так называемой коммуникативной компетенции. Но, помимо этих умений, необходимо также готовить обучаемых к<br />
самостоятельной работе с языком медицины, поскольку овладение иностранным языком в медицинском вузе в большей степени<br />
определяется наличием профессиональных знаний, которые могут активно пополняться в ходе самостоятельной работы студентов<br />
дома.<br />
Путь внедрения технологий Интернета в процесс обучения иностранному языку - это «путь создания новых методов обучения<br />
на базе синтеза основополагающих методик и реализации компьютерной грамотности преподавателя. С помощью компьютера<br />
можно решить такие учебные задачи: как овладение студентами видами чтения, пополнения активного и пассивного словаря,<br />
расширению потенциального лексического и грамматического запаса, развития профессионально ориентированных лексико-грамматических<br />
рецептивных и продуктивных умений, благодаря наглядному представлению закономерности построения высказывания,<br />
чтения и письма» .<br />
Изменение целей обучения в вузе в сторону практического владения речью привело к пересмотру организационных<br />
форм и содержания заданий для самостоятельной внеаудиторной работы студентов. Этот вид работы позволяет<br />
уделять большее внимание владению письменной речью без ущерба для устной практики языка, которая может<br />
проводиться исключительно в рамках аудиторной работы. Таким образом, самостоятельная работа является важным<br />
дополнением к аудиторным занятиям и дополняет их.<br />
Компьютер, обеспечивая индивидуальный подход к обучаемым, в то же самое время является стимулом для коллективного<br />
80
творчества. Участие в совместных проектах по созданию тематических публикаций, баз данных, веб-сайтов на изучаемом языке,<br />
учит принятию совместных решений, консолидирует учебный коллектив. Кроме того, компьютерные технологии эффективны в<br />
создании межпредметных связей, что особенно важно для студентов, готовящихся использовать иностранный язык в сфере профессиональной<br />
коммуникации [4].<br />
Можно выделить следующие цели применения самостоятельной учебной деятельности:<br />
• оптимизация процесса обучения иностранному языку с точки зрения экономии аудиторного учебного времени;<br />
• актуализация и активизация поиска новых знаний обучающимися;<br />
• развитие творческого характера образования;<br />
• повышение качества усвоения предлагаемых учебных программ.<br />
В связи с этим перед обучением возникает такая задача, как развитие учебных умений, применимых в самостоятельной учебной<br />
деятельности. Для обеспечения ее эффективности необходимо, чтобы обучаемые умели работать с языком, знали, например, где<br />
можно найти ту или иную справочную информацию, как можно улучшить грамотность речи, какими способами можно<br />
воспользоваться для запоминания новых слов.<br />
Помимо значимости самостоятельной работы для студентов, необходимо также отметить тот факт, что она может считаться<br />
полезным приемом и для преподавателя, поскольку помогает обучаемым лучше подготовиться к каждому конкретному заданию и<br />
формирует учебные умения, находящие широкое применение в ходе учебного процесса.<br />
В теории педагогики самостоятельная работа выделяется как одна из основных форм учебной деятельности обучаемого. Но<br />
реализовать эту форму учебной деятельности возможно только при соблюдении ряда условий, наиболее значимыми из которых<br />
являются наличие мотивации и базовых учебных навыков самостоятельной работы у студентов и эффективная организация их деятельности<br />
преподавателем.<br />
Готовность студентов к самостоятельной деятельности по изучению предлагаемого материала определяется:<br />
• наличием базовых учебных навыков работы по всем видам речевой деятельности, а именно: говорению, аудированию,<br />
чтению, письму (в большей степени, безусловно, чтению и письму, так как основными способами проверки выполнения<br />
самостоятельной работы является устное и письменное выполнение упражнений на самостоятельно пройденный материал);<br />
• наличием навыков перевода и методами работы со словарем и справочной литературой;<br />
• умением работать с компьютерным программным обеспечением и Интернет ресурсами.<br />
Исходя из вышесказанного, для оптимизации самостоятельной учебной деятельности студентов представляется целесообразным<br />
проведение тестирования на готовность обучаемых к проведению самостоятельной работы. С учетом перечисленных критериев<br />
можно выделить конкретные задания, на основании которых можно строить такое тестирование (все задания приводятся в<br />
соответствии с вышеупомянутыми критериями готовности студентов к самостоятельной деятельности).<br />
К средствам организации самостоятельной деятельности обучаемых можно отнести следующие:<br />
• обеспеченность учебниками, пособиями, методическими указаниями для самостоятельной работы;<br />
• наличие учебных аудио-, видео- и компьютерных обучающих программ;<br />
• применение системы коммуникативных заданий для развития всех коммуникативных умений.<br />
В условиях повышения роли самостоятельной работы студентов из перечисленных моментов наиболее важным представляется<br />
первый, поскольку, даже учитывая существование учебников, направленных на самостоятельное изучение иностранного языка,<br />
сформирована потребность в пособиях для самостоятельной работы к конкретным учебникам и методических указаниях по самостоятельной<br />
работе.<br />
В методические указания могут быть включены следующие ссылки, которые помогут обучаемым найти требующуюся им информацию<br />
для выполнения домашнего задания и анализа прочитанного материала:<br />
• Интернет-сайты, на которых есть информация о методах запоминания слов; список сайтов, в которых можно найти такую информацию.<br />
• Списки адресов Интернет ресурсов, сопровождаемые краткой аннотацией их содержания, которые могут способствовать<br />
более успешному осуществлению самостоятельной работы, как, например: Интернет-словари, программы для запоминания слов,<br />
говорящие книги, библиотеки, курсы иностранного языка, сайты зарубежных издательств, печатных изданий и т.д.<br />
• Помимо Интернет-сайтов существуют также печатные издания, сопровождающиеся аудиокассетами и подразделяющиеся по<br />
уровню владения языком. Список книг, в которых можно найти комплекс примеров структурирования текста и определения его<br />
ключевых пунктов.<br />
Одним из наиболее сложных пунктов в общей программе самостоятельной работы является разработка методических указаний<br />
по самостоятельной работе, так как они должны соответствовать программе изучения иностранного языка, утвержденной в вузе, в<br />
вопросе целей и задач изучения иностранного языка.<br />
Традиционно считается, что основная разновидность самостоятельной работы – это домашняя работа. Такой вариант<br />
самостоятельной работы имеет ряд бесспорных преимуществ, пожалуй, главным из которых является разумная экономия<br />
аудиторного времени, что позволяет посвятить большую его часть отработке уже подготовленного самостоятельно материала.<br />
Несомненным плюсом подобных домашних заданий является то, что в ходе их выполнения осуществляется подготовка<br />
обучаемых к активной индивидуальной, парной и групповой речевой деятельности на аудиторных занятиях, формируется самостоятельность<br />
мышления, развиваются познавательные интересы, интеллект, логика, творческие и коммуникативные иноязычные<br />
навыки и умения.<br />
Другой стороной вопроса о важности использования самостоятельной работы является наличие обратной связи, то есть<br />
контроля понимания полученной информации, осуществляемого преподавателем. В этой связи стоит заметить, что, помимо<br />
разработки системы домашних заданий для реализации самостоятельной учебной деятельности обучаемых, необходима также<br />
разработка системы контрольных заданий, позволяющих определить уровень подготовки и степень освоенности материала,<br />
предложенного на самостоятельное изучение. Кроме того, возможно также применение заданий творческого характера, таких, как<br />
рефераты, обзоры, что позволит сделать вывод об умении применять на практике не только проработанный теоретический<br />
материал, но и навыки и умения самостоятельной работы над ним (выделение основных идей текста, их тезисное изложение,<br />
умение использовать примеры или наглядную информацию и т.д.).<br />
При обучении иностранному языку обеспечить высокую степень активности и самостоятельности всех её участников позволяет<br />
применение интерактивных методов. В условиях профессионально ориентированного обучения нами используются следующие<br />
методы интерактивного обучения: деловые игры, диспуты, дискуссии, инсценировки, конференции. Они имитируют те проблемные<br />
ситуации, которые встречаются в профессиональной деятельности специалиста в реальных условиях. Повторяя на 1 курсе тему<br />
«Моя биография», мы предлагаем студентам ответить, в какой реальной жизненной ситуации они смогут использовать свои знания<br />
(при составлении истории болезни пациента, при знакомстве с иностранцем и т.д.), каким образом знание этой темы применяется в<br />
медицинской практике. В качестве примера проигрываем следующие инсценировки: «Опрос пациента о его семье», «Опрос<br />
81<br />
Pedagogical sciences<br />
Theory and methodology of professional education
Pedagogical sciences<br />
пациента о нем самом», «Опрос пациента об условиях его жизни» и др.<br />
В рамках концентра «Деловой иностранный язык» на занятиях со студентами 2 курса проводятся деловые игры: «Осмотр терапевтического<br />
пациента», «Знакомство с зарубежным коллегой» и др. Динамичность событий и явлений, происходящих в игре,<br />
обеспечивает новизну, неожиданность ситуаций и действий, оказывает сильное воздействие на эмоциональную сферу участников,<br />
способствует осознанию студентами собственной позиции в учении в связи с будущей трудовой деятельностью. Являясь<br />
побудителем познавательного интереса, эмоциональность способствует развитию мотивации достижения и общения. В игре осуществляется<br />
также обратная связь как необходимый компонент самоконтроля и рефлексии.<br />
Студенты, обсуждая рефераты товарищей, подготовленные по материалам зарубежных изданий, с повышенной активностью<br />
сопоставляют подходы в лечении болезней в зарубежной и отечественной медицинской практике. В ходе работы студентам<br />
предоставляется возможность осознать цель проведения таких форм учебной деятельности. Перед студентами ставятся задачи<br />
научиться деловому общению на иностранном языке, вести дискуссию на заданную тему, расширять на основе получаемых знаний<br />
профессиональный кругозор, находить самостоятельные решения в новых ситуациях общения.<br />
Эффективность проведения практических занятий зависит от активизации самостоятельной деятельности обучаемых, от<br />
правильной взаимосвязи индивидуальной и групповой форм работы. Студенты должны не только усваивать определенную сумму<br />
знаний, но и научиться самостоятельно их приобретать. Эти две стороны образовательного процесса тесно связаны. Познавательная<br />
самостоятельность развивается при глубоком и осмысленном усвоении обучаемыми основ наук, овладении навыками работы с<br />
книгой и применении полученных знаний в практической деятельности. Корректность высказываний, разумеется, зависит от<br />
прочности приобретенных студентами знаний по медицине на родном языке. При условии недостаточности знаний возникает необходимость<br />
самостоятельного восполнения знаний в профессиональной отрасли.<br />
Применение навыков самостоятельной работы на практике позволяет повысить эффективность обучения, так как позволяет<br />
студенту в удобное для него время осваивать учебный материал, помогает научиться пользоваться разнообразной учебной<br />
литературой и компьютерными технологиями для изучения иностранного языка. В конечном счете, приобретенные навыки самостоятельной<br />
учебной деятельности помогают обучаемому продолжать свое языковое образование в сфере профессиональной<br />
деятельности после окончания вуза.<br />
Литература:<br />
1. Колшанский Г.В. Лингвокоммуникативные аспекты речевого общения / Г. В. Колшанский // Иностранные языки<br />
в школе. - 1985. - №1. - С. 10 - 15.<br />
2. Образцов П.И. Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку на неязыковых факультетах вузов / П. И.<br />
Образцов, О. Ю.Иванова. - Орел: ОГУ, 2005. - 114 с.<br />
3. Рыбкина, А.А. Педагогические условия формирования профессиональных умений курсантов учебных заведений МВД в<br />
процессе обучения иностранному языку / А.А. Рыбкина. - Саратов: Саратовский юридический институт МВД России, 2005. -152 с.<br />
4. Щукин А.Н. Современные методы и технологии обучения иностранным языкам: Учебное пособие. - М.:<br />
Филоматис, 2008. - 188 с.<br />
ЗНАЧИМОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ КАЗАХСКОМУ ЯЗЫКУ<br />
Бейсенбекова Г.Т., канд. пед. наук, доцент<br />
Казахский национальный педагогический университет им. Абая, Казахстан<br />
Участник конференции<br />
Theory and methodology of training and education<br />
Становление и развитие современного информационного общества невозможно без всестороннего и активного использования<br />
информационных и телекоммуникационных технологий на всех уровнях образовательной системы. При этом информатизация<br />
жизни общества и широкое распространение средств компьютерной, телекоммуникационной техники оказывают заметное влияние<br />
не только на содержательную сторону образования, но и на формы и методы учебно-воспитательного процесса, где в их<br />
распоряжение будут представлены новые технические средства обучения, так называемые «новые информационные технологии<br />
обучения».<br />
Разрабатывая понятийный аппарат исследования, мы обратились к таким синонимичным терминологическим выражениям,<br />
тесно связанных с понятием «информационная технология обучения», как «новые информационные технологии в обучении», «современные<br />
информационные технологии обучения», «новые информационные технологии образования», «технологии компьютерного<br />
обучения», «электронно-коммуникативные системы, средства и технология обучения» и др.<br />
Термин «информационные технологии» впервые ввел В.М.Глушков, где он дает определение: «Информационные технологии –<br />
это процессы, связанные с переработкой информации»[1]. При таком подходе становится очевидным, что в учебном процессе информационные<br />
технологии использовались всегда, так как обучение является передачей информации от учителя к ученику. Каждая<br />
методическая система, будучи отделима от своего автора и воспроизведенная кем-то другим, превращается в технологию, ибо она<br />
описывает, как переработать и передать информацию, чтобы она была наилучшим образом усвоена учащимися.<br />
Согласно определению, предложенному К.К.Колиным, информационная технология – это представленная в проектной форме<br />
(то есть в формализованном виде, пригодном для практического использования) концентрированное выражение научных знаний и<br />
практического опыта, позволяющее рациональным образом организовать тот или иной достаточно часто повторяющийся процесс<br />
[2]. При этом достигается экономия затрат труда, энергии или материальных ресурсов, необходимых для реализации данного<br />
процесса. Цель информационной технологии – производство информации для ее анализа человеком и принятия на ее основе<br />
решения по выполнению какого-либо действия.<br />
Телекоммуникационная технология изучения казахского языка – это мощный инструмент, позволяющий объединить текстовую,<br />
графическую, видеоинформацию и мультипликацию. Он помогает лучше объяснить и передать структуру и сущность изучаемого<br />
материала на качественно новом уровне. Видеоинформация может быть представлена по разделам изучаемого предмета или как обобщающий<br />
материал.<br />
Однако это вовсе не значит, что любая задача при конструировании видео ряда учебной информации может быть решена изобразительным<br />
путем. Безусловно, ТВ – аудиовизуальное средство и экран телевизора несет большую смысловую нагрузку нашему<br />
зрению. Однако, логика учебного предмета, его дидактическая сущность, т.е. научность, обоснованность, доступность, прочность<br />
82
Pedagogical sciences<br />
знаний, наглядность не могут быть достигнуты с помощью зрения.<br />
А.А.Степанов очень точно определяет соотношение пикторального и вербального языков телепередачи: «Изображение несет<br />
основную информацию, оно направляет логический ход мыслей; слово ведет, а изображение иллюстрирует либо положение в<br />
целом, либо какую-то деталь: слово и изображение являются равноценными компонентами» [3]. Поэтому при конструировании<br />
учебной телеинформации на базе морфологического материала важным условием формирования у учащихся представления<br />
является сочетание слова и изображения, адекватного формируемым знаниям. Первоначально знания выступают как осознанно<br />
воспринятая и зафиксированная в памяти информация о действительности, усвоенная до уровня осознания ее внешних и<br />
внутренних связей, путей ее получения и готовности применить ее в сходных и новых, требующих творчества, ситуациях. Далее<br />
процесс познавательной деятельности идет по пути формирования понятий и оперирования этими понятиями – мышлению.<br />
Учебной телеинформацией в полном смысле этого понятия следует считать учебные кинофильмы и телевизионные передачи,<br />
так как они одновременно (исключая неозвученные фильмы) воздействуют как на слуховой, так и на зрительный анализатор<br />
человека. Важной особенностью этих средств является возможность не только насытить урок динамической и статической<br />
наглядностью, но и дать ее в большем объеме за более короткий срок. Но это возможно на основе оптимального конструирования<br />
учебной информации, т.е. на основе отбора учебно-языкового материала, создания, предъявления, использования на уроке и<br />
анализа восприятия и усвоения учащимися учебной информации.<br />
Важнейшими принципами реализации информатизации образования Казахстана являются системность, плановость, концептуальная<br />
обоснование и поэтапность работ, охватывающих основные направления деятельности в системе образования: обучение и<br />
воспитание, научные исследования, управление и системы.<br />
Результаты нашего исследования показывают, что в настоящее время многие школы Республики Казахстан находятся в начале<br />
внедрения информационную технологию на базе компьютерной и телекоммуникационной техники; правительством выделены<br />
много миллионные средства на закупки компьютерной и аудиовизуальной техники (мультимедийных классов, интерактивных<br />
досок) для школ, распространяется первый положительный опыт использования педагогических программных средств в контексте<br />
современных требований образовательной сферы; методически обосновывается применение программ; учителями осваивается<br />
компьютерная грамотность, появляется своего рода «синтетическая методика», т.е. измененная традиционная методика, вобравшая<br />
фрагменты создаваемой информационной технологии.<br />
Взаимодействие структурных и содержательных компонентов учебной телеинформации как системы средств обучения<br />
казахскому языку способствовало определению рациональной методической стратегии освоения морфологических категорий<br />
казахского языка, с введением новых элементов, отсутствующих в традиционном обучении.<br />
Обозначив телекомпонент как учебный телевизионный курс, а его структурную единицу как учебную телепередачу, или<br />
телеурок мы выдвигаем одно из положений в методике создания специальных учебных телепередач: телекурс является обязательной<br />
составной частью системы учебный процесс, а сочетание традиционных приемов обучения языку и новых позволит обеспечить<br />
более высокий уровень усвоения учебно-языкового материала.<br />
Литература:<br />
1. Глушков В.М. Конструирование технических средств обучения и разработка педагогических требований. – М.:<br />
Педагогика, 1987. – 211с<br />
2. Колин К.К. Процесс обучения в системе дистанционного образования //Экономика образования. - 1998., №4. - С.54-65.<br />
3. Степанов А.А. Психологические основы применения телевидения в обучении. – Л., 1983. – 314 с.<br />
PROFESSIONAL-PRACTICAL BLOCK OF THE LANGUAGE COMPETENCE DEVELOPMENT MODEL<br />
FOR FUTURE LINGUISTS<br />
Nyyazbekova K.S., Cand. of Pedagogy sciences, Senior Lecturer<br />
Kazakh National Pedagogical University named after Abay, Kazakhstan<br />
Conference participant<br />
The article examines language competence, professional and practical sub-competences of future linguists.<br />
Keywords: competence, competency, language competence, systematic thinking, analytical skill, innovation, practice-oriented activity.<br />
Radical changes occurring in the contemporary Kazakhstan in the spheres of economy, policy and social relations require<br />
cardinal transformations in the sphere of education as well. That is why, L.V.Lvov highlights that the most important<br />
direction of scientific works in the field of professional training under these conditions is the research of the professional<br />
competence development process at a higher educational institution as major component of the professional development,<br />
and as an essential approach and condition for tackling a challenge of providing readiness and ability to professional activity<br />
of future specialists. Analysis of the scientific literature (V.A.Bolotov, V.V.Serikov, Zh.Delor, I.A.Zimnyaya, L.V.Lvov, G.<br />
Raven, A.V.Hutorskoi, V.D.Shadrikov, etc.) on the theme under research reveals absence of a common opinion of scientists<br />
and researchers regarding the concepts of "competence" and "competency". In research works on the development of future<br />
linguists’ language competency, we examine competency as an integrated characteristics of set of outcome of mastering the<br />
competence system and application of competence system in practice. Sharing L.V.Lvov's opinion, we consider that the<br />
competence is diagnostic system of knowledge, skills, abilities and generalized approaches of professional actions essential<br />
for satisfactory performance of standard requirements and solution of typical problem situations in a professional activity in<br />
accordance with the provided authorities. Language competency is considered by us as the integrated characteristics of<br />
outcomes of mastering and successful application in practice of language units in all kinds of activity (speech, understanding<br />
of speech, reading and writing) in accordance with communication spheres (including profile-focused), speech experience<br />
and «feeling of a language». Application of the synthesis of cross-cultural, lingua-didactic and participative approaches has<br />
allowed to develop a pedagogical model of developing language competency of future linguists, which contains an<br />
interrelation of the goal and motivational-objective, contextual, organizational-technological and analytical – productive<br />
components. Immediate goal of the preparation process is developing language competence of future linguists which flows<br />
into a perspective goal – improving the quality of professional training of future linguists. The contextual component reveals<br />
83<br />
Theory and methodology of training and education
Pedagogical sciences<br />
Theory and methodology of training and education<br />
the essence of intercultural, socio-linguistic, language (linguistic) and professional-practical blocks which make an integrated<br />
structure of the language competency. We will describe in detail the professional-practical block below.<br />
Professional-practical block (competence) unites in itself professional and practical sub-competences. We share L.V.Lvov's<br />
opinion that professional sub-competence is a system professional knowledge, skills and generalized approaches of<br />
professional actions essential for efficient performance of standard requirements and solution of typical problem situations in<br />
a professional activity in accordance with the provided authorities. Here we imply professional knowledge and skills to be<br />
special linguistic knowledge and skills essential for successful work in various spheres as a specialist with the knowledge of<br />
foreign languages.<br />
Our understanding of the practical sub-competence is close to the structure of key competences which have been offered<br />
by T.N.Lobanova:<br />
- systematic thinking, vision of the process development: systematic and structured approach to the solution of problems; ability to<br />
systematize, standardize objectives and approaches, understanding priorities, analysis of alternatives and finding optimum versions of<br />
solutions; ability to bear responsibility for the decisions taken;<br />
- analytical skills: logic, order, careful in problem-solving, rationality, predictability, consideration of details; ability to connect judgments<br />
correctly, to think and act consistently; exact and regular analysis of the factors influencing the future of the company;<br />
innovative: ability to accept and offer something new, to demonstrate an initiative, to manage creativity; ability to perceive various ideas,<br />
views and suggestions without any internal resistance;<br />
- flexibility: readiness for changes; ability to react quickly and adequately to non-staff situations, to see and identify the problem, to find<br />
ways for its solution; to evaluate results;<br />
- directed at systematic development: readiness to get education, susceptibility to new methods and technologies, ability to apply new<br />
in practice; readiness for the analysis of own achievements and demerits, wise exploitation of other people’s experience;<br />
- organizational skills: ability to manage people, ability to organize himself and the team for the solution of problems: to identify and set<br />
priorities, to concentrate on the important matters, to plan, to supervise; ability to collect and direct effectively in the right direction the<br />
resources which are essential for the realization of plans; ability to conduct a rational conversation, telephone skills, to deal with business<br />
correspondence and documentation;<br />
- time management: ability to conduct situation analysis; to define and formulate goals; to conduct annual, monthly, weekly, and daily<br />
planning; to know principles of time management; ability to place priorities; compliance with the company schedules and everyday plans;<br />
ability to control achievement of the set goals; to analyze the results of the day;<br />
- work in a team: ability to build a team and work in it; to know characteristics of an effective team; ability to maintain a favourable<br />
atmosphere of cooperation, to comply with the rules of behavior and communication between team members, to make corrections to the<br />
undesirable behavior of team members; ability to hold effective discussions and problem-solving meetings; to know the rules of holding<br />
«brainstorming»;<br />
- business communication skills: ability to persist in own opinion and rights without destroying relations; ability to<br />
inspire with new ideas and plans; ability to pose correct questions and to define the level of knowledge and emotional status<br />
of a partner; ability to establish channels of two-way communication, to concentrate on the words of an interlocutor; ability<br />
to encourage effectively and criticize other people;<br />
- negotiation skills: ability to define the goal and objectives of a presentation, interests of an audience; ability to construct an effective<br />
introduction, binding phrases, the main part and concluding part of a presentation; to apply strategies of convincing and public speaking skills;<br />
ability to cope with difficult questions and make objections; to know technical aspects of a presentation (audio-video- and computer<br />
equipment, presentation programs); ability to define interests, to choose the best alternative; ability to conduct discussion in an ethical way;<br />
ability to discuss, offer and conduct bargains;<br />
- orientation to a client: to know the policy and standards in the field of work with clients; orientation to current and perspective needs<br />
of clients and partners; ability to behave correctly with different types of "difficult" clients and partners, to present services emphasizing their<br />
advantages and benefits; ability to advise and build partnership relations with clients.<br />
Thus, we consider professional-practical competence as a combination of general professional and professional knowledge,<br />
skills and general ways of professional actions essential for satisfactory compliance with standard requirements, solution of<br />
typical problem situations in a professional activity and providing professional mobility of a specialist. Including professional-practical<br />
block into the content of the model of developing language competence of future linguists is dictated by the<br />
increase of requirements to readiness of future specialists to professional work. The goal of the given block is to stimulate development<br />
of skills and practical application of knowledge in various situations, need in self-actualization and selfimprovement.<br />
Objectives of the given block are:<br />
- actualize practical application of knowledge and skills at work;<br />
- develop students’ initiative and independence;<br />
- create conditions for future professional communication.<br />
The given block contains knowledge on linguistic professions, system of knowledge and cognitive skills of the profession-oriented<br />
activity which form an individual, ability to strategically correctly build foreign language communication by<br />
demonstrating flexibility and maneuverability in the course of realization objectives, special linguistic knowledge and skills<br />
essential for successful work in various spheres as a specialist with knowledge of a foreign language, ability to think<br />
systematically and understand the development of processes, ability to analyze, innovative skills, knowledge and abilities of<br />
systematic development, organizational skills, time management skills, teamwork skills, business communication skills,<br />
negotiating skills, customer work skills.<br />
Thus, development of language competence of future linguists is a consciously organized and managed process of mastering and<br />
applying language (linguistic), socio-linguistic, intercultural and professional-practical competences of students as a result of the realized<br />
purposeful subject activity which will provide positive results of professional activity in the future and will lead to growth of professional<br />
mobility which is one of the goals of professional education.<br />
References:<br />
1. Lvov L.V. professional education: competence-contextual approach. // Teaching aid. – Chelyabinsk: CHSAM, 2007. – page 120.<br />
2. Lobanova T.N. Building a model of key competences. // Directory on human resource management. – 2002. – № 11. – pages 21-26<br />
3. Nyyazbekova K.S. Competency approach at high school. – Materials of XII international scientific-practical conference. – 14 April,<br />
2010. Novosibirsk. – pages 176-181<br />
84
СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАГЛЯДНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ КАЗАХСКОМУ ЯЗЫКУ<br />
Оразбаева Ф.Ш., д-р пед. наук, проф.<br />
Казахский национальный педагогический университет им. Абая, Казахстан<br />
Участник конференции<br />
Психологическое обоснование возможностей в обучении казахскому языку в национальной школе осуществляется<br />
с опорой на теорию речевой деятельности, развиваемую в трудах А.Н.Леонтьева, Б.В.Беляева, И.А.Зимней А.А.Артемова,<br />
Н.И.Жинкина, А.А.Алхазишвили.<br />
Известно, что одно из основных и важнейших положений современной теории речевой деятельности, требующее<br />
учить самому способу формирования и формулирования мысли, не может не предполагать при обучении устной или<br />
письменной формам речи использования средств, во-первых, адекватно отражающих саму специфику устного или<br />
письменного способа формирования и формулирования мысли, во-вторых, стимулирующих необходимую форму<br />
речевой деятельности.<br />
Согласно пониманию теории речевой деятельности, рассмотрим «общие и частные моменты» применения<br />
различных видов внешней формы наглядности при обучении чтению, говорению и письму, а также сферы целесообразного<br />
применения зрительной, зрительно-слуховой и слуховой наглядности в обучении каждому виду речевой деятельности.<br />
Наглядность в современной теории обучения рассматривается с двух точек зрения: а) наглядность как принцип обучения;<br />
б) наглядность как средство обучения, где первая подсистема определяет структуру и содержание второй.<br />
В первом случае речь идет о следовании на занятиях одному из ведущих принципов обучения – принципу<br />
наглядности. Во втором случае – о создании и методике применения пособий, реализующих в своей структуре дидактический<br />
принцип наглядности.<br />
Таким образом, с позиций системного подхода наглядность может трактоваться в виде двух подсистем, находящихся<br />
в тесной связи друг с другом.<br />
Первая подсистема, будучи системой более высокого порядка по отношению ко второй, определяет ее структуру и<br />
содержание. С другой стороны, система «наглядность как принцип обучения» является элементом системы «принципы<br />
обучения», в состав которой, помимо наглядности, входят также принципы сознательности, коммуникативной направленности<br />
обучения, учета влияния родного языка учащихся, стилистической дифференциации, синтаксической основы<br />
в изучении лексики и морфологии и др. В соответствии с дидактическим принципом наглядности обучение строится<br />
на конкретных образах, непосредственно воспринимаемых обучающимися.<br />
Применительно к обучению казахскому языку наглядность можно определить как специально организованный<br />
показ языкового и экстралингвистического материала с целью помочь учащимся в его понимании, усвоении и использовании<br />
в процессе речевой коммуникации.<br />
При исследовании этому принципу овладение языком осуществляется в результате широкого и систематического<br />
использования аудиовизуальных средств обучения, благодаря которым обеспечивается максимальная доступность<br />
объекта, передаваемого словом, чувственному восприятию и, как следствие этого, достигается образование правильных<br />
представлений и понятий об изучаемых явлениях и успешное развитие речевых навыков и умений.<br />
При практической направленности обучения языку этому направлению в использовании наглядности уделяется<br />
особое внимание. Наглядность здесь, будучи средством моделирования фрагментов объективной действительности,<br />
выступает в качестве основы, на которой строится речь, определяется ее содержание и условия протекания.<br />
Благодаря наличию такой основы, создаваемых с помощью образов восприятия и представления, учебный материал<br />
усваивается глубже и прочнее, а формирование соответствующих речевых навыков и умений протекает успешнее в<br />
сравнении с системой занятий, при которой наглядность не используется либо применяется в ограниченном объеме,<br />
не соответствующим целям, задачам и условиям обучения.<br />
Факт этот имеет следующее психологическое обоснование: известно, что чем больше анализаторов участвует в<br />
процессе восприятия, тем больше образуется в коре головного мозга временных нервных связей и тем прочнее<br />
запечатляется образ в памяти. Значит, следование принципу наглядности подразумевает применение всех видов<br />
наглядности: языковой, и неязыковой, внешней и внутренней, зрительной и слуховой, смешанной, мышечнодвигательной<br />
и даже вкусовой.<br />
На занятиях по казахскому языку первостепенное внимание уделяется языковой наглядности, которая реализуется<br />
в процессе непосредственного показа образцов устной и письменной речи. При этом языковая наглядность может<br />
быть использована: а) для моделирования фрагментов объективной действительности, однако в отличие от предметно-образной<br />
наглядности не художественно-изобразительными, а собственно языковыми, т.е. описательными средствами;<br />
б) для характеристики существенных признаков функционирования языкового явления в рамках языковой модели,<br />
реализуемой в форме конкретного речевого образца.<br />
Большое значение на занятиях по казахскому языку имеет также использование неязыковой (предметно-образной)<br />
наглядности, объектом которой являются различные речевые ситуации, моделируемые с помощью предметов и их<br />
изображений, диафильмов, кинофильмов и других средств наглядности. Названные виды наглядности могут быть<br />
реализованы в форме как внешней, так и внутренней наглядности, которая опирается на образы представления и воображения.<br />
Литература:<br />
1. Леонтьев А.Н. Психологические вопросы сознательности учения. – М.: Известия АПН РСФСР, 1989. – 98 с.<br />
2. Беляев Б.В. Очерки по психологии обучения иностранным языкам. – Москва, 1998. – 66 с.<br />
3. Зимняя И.А., Моль А. О слуховой и зрительной наглядности в обучении иностранному языку. – М.: УДН, 1996. – 200 с.<br />
85<br />
Pedagogical sciences<br />
Theory and methodology of training and education
Pedagogical sciences<br />
THE MOTIVATION FOR LEARNING OF THE FOREIGN LANGUAGE AND TEACHING MATERIALS<br />
Nuriyeva S.H., Dr. of philosophy, teaching of English language<br />
Azerbaijan State Maritime Academy, Azerbaijan<br />
Conference participant<br />
Appropriating this problem, this article deals with motivation of theory, as a point of view, which is fixed, as an understanding take into<br />
consideration to be guided by predisposition of fellow for everyone’s activity, as an education, across positive direction only. This activity<br />
arises mutual advantageous each time in the presence of two situations, outer, objective reality, surroundings which being to obtain complete<br />
satisfaction either this or that requirement and inner, subjective – one’s requirement which is obtained by one under certain conditions. In<br />
teaching process activity of subjective factor is the requirement of subject (fellow) knowledge, its desire to catch it, but objective factor is the<br />
teaching process, its methodical treatment of teaching material.<br />
Keywords: approaching to the problem of motivation, as a point of view, a theory of fixed, activity, mutual, education, subjective factors.<br />
Подходя к проблеме мотивации, в статье рассматриваются с позиции теории установки, как она сформулирована, включает<br />
в себя предрасположенность субъекта ориентировать свою деятельность, в том числе учебную, в определенном направлении.<br />
Эта деятельность возникает всякий раз при наличии и взаимодействии двух моментов; внешнего, объективного, т.е. среды, в<br />
которой должна удовлетворяться та или иная потребность, и внутреннего, субъективного – самой потребности, которая будет<br />
удовлетворяться в определенной среде. В учебной деятельности субъективным фактором является потребность субъекта в<br />
знаниях, желание получить их, объективным же фактором является учебный процесс, методически обработанный учебный<br />
материал.<br />
Ключевые слова: Подходя к проблеме мотивации, теории установки, деятельность, взаимодействии, образование,<br />
обоих факторов.<br />
Pedagogical sciences - оpen disciplinary section<br />
Dividing all the factors that determine the success of learning a foreign language, the methodology, general psychological and individualpsychological,<br />
the researchers believe the most important motivation for learning among the general psychological factors. According to the<br />
apt remark D.Diza, motivation is energizatorom behavior and guide in training.<br />
This problem has recently attracted the attention of more trainers of foreign language. However, when applied to the study of foreign<br />
languages at secondary school, the problem of motivation is far from being resolved. An indicator of this unresolved problem may be at least<br />
the fact,that the majority of respondents M.A.Kudashovoy students (69%) interest in a foreign language lesson.The fact that a very small<br />
number of students engaged in a foreign language is optional, as evidence of the unpopularity of the foreign language as a school discipline.<br />
To address the problem of motivation can go different ways. In this article we will address issues related to the role of educational<br />
materials to maintain motivation when learning a foreign language at school. We're talking about maintaining motivation, because,<br />
supposedly, the vast majority of students begin to study a foreign language with great enthusiasm and desire to succeed. For this fact provides<br />
a strong emotional charge, laying a solid motivation and a positive attitude towards foreign language as an academic discipline. But such an<br />
attitude towards the ultimate goal of education is not enough to guarantee success if students throughout the learning does not create an<br />
emotionally positive attitude to the process of mastering a foreign language, to the regular practice of this subject.<br />
We know that positive emotions, increasing the susceptibility of the analyzers and the excitability of the nerve centers in the cerebral<br />
cortex, have a beneficial effect on the absorption of any school subject. It seems, however, that the problem of emotional appeal of a foreign<br />
language training is particularly acute, that distinguishes this object from all other disciplines the school cycle. "The teacher of a foreign<br />
language - writes A.A.Leontev - more than any other teacher of the subject must actively intervene in the emotional atmosphere of the lesson<br />
and provide opportunities for the emergence of students' emotional states conducive to their learning activities."<br />
Note that recognition of the need to create a positive emotional atmosphere in the process of learning a foreign language has become such<br />
statements give rise to the Methodists, for example, the statement S.Kordera that students should want to learn a foreign language, because<br />
language learning - fun, not because what they need to know the language. It seems that in this statement for all its paradox and some shift in<br />
emphasis is an important grain of truth.<br />
In the overall structure of incentives usually are the main motive (or external motivation) and private motives (or intrinsic motivation). We<br />
are interested in private motives - motives that arise during the actual training activities, and according to researchers who have the highest<br />
level of educational activity. It should be noted that the emotional appeal of the educational process, promoting students' interest in episodic,<br />
of course, has a positive effect on the formation of a stable process to study a foreign language, making a positive emotional reaction to a stable<br />
tendency.Thus, if we agree with the fact that one of the most effective means of dealing with emotional hunger in the classroom foreign<br />
language teacher is to use a variety of educational materials, filled with positive emotional charge, the training materials, as a fully controllable<br />
factor (in terms of motivation ), have an impact on the subjective factor, thereby contributing to the emergence of the installation.<br />
Talking about the various training materials that can have a positive emotional impact on the learning process, we primarily have in mind<br />
the audio-visual teaching aids such as filmstrips voiced, kinokoltsovki, kinofragmenty and movies. Continued use of only one textbook, the<br />
same types of exercises, one way or another connected with the textbook, originally perceived as a new kind of educational activity, weakens<br />
the positive emotions, and often eliminates them as students gradually develop stereotypical reaction. As a result of incoming information and<br />
monotonously similar exercises of the students active participants in the learning process to become passive contemplators. This template<br />
presentation of information based on the wingless practicality, in the end, kills students' desire to accept and assimilate this information. It<br />
should help teachers and audio-visual teaching aids, especially as modern foreign language teaching is largely dependent on the training<br />
materials, which dictate the use of various methods of teaching.<br />
It is difficult to overestimate, in terms of motivation role of audiovisual teaching aids, which are not only helping to organize the field of<br />
perception (vision and hearing), but also give the student the freedom to interpret their own situations, depending on its overall level and<br />
degree of language acquisition.<br />
Thus, by using a variety of audiovisual training situation, making a fascinating educational activity, contribute not only to intensify the<br />
learning process, but also to maintain a high level of motivation.<br />
One of the reasons that the audio-visual training aids are not used in the practice of teaching foreign languages in school, is that their use<br />
is to some extent, is a violation of the customary course of the learning process: a student switches to a new kind of work is very different from<br />
all others. Many teachers believe that this is a very high price for the result, which in the end, it turns out. It seems that the proponents of this<br />
view ignore the positive impact that audiovisual training not only in the foreign language, but also on motivation. Before we address the use<br />
of audiovisual material, you need to convince the teacher that is a "violation" of the educational process is justified.<br />
Of all the wide range of issues arising out of this problem, we will focus on the use of voiced story filmstrips, and movies kinofragmentov<br />
to use students' acquired knowledge and skills. We address this issue because his negative attitude to the study of foreign language learners are<br />
86
often attributed to the fact that they see in the target language of practical value.<br />
The results of research psychologists have shown that by the interests of class V children are becoming more conscious and differential.<br />
Of great importance in the formation of interest in the subject is a subjective perception of the students the importance of the acquired values.<br />
One can presume that the education and educational effectiveness of the principle of relevance is determined by the number of objective and<br />
subjective reasons, which include: the authority of teachers, availability of promising lines, the practical application of acquired knowledge,<br />
the presence of the target set in the classroom and understand its significance. One of the main factors contributing to the formation of the<br />
importance of the principle of acquired knowledge and interest in learning a foreign language in high school, is probably the person and the<br />
teacher's authority, his ability to teach the subject interesting. This is confirmed by the first factor is well known to all teachers of foreign<br />
languages: decline of interest in studying foreign languages in VII - VIII high school, when the principle is the importance of knowledge<br />
acquired is less determined by the individual and the authority of the teacher, although in these classes, the influence of the latter on the<br />
pedagogical effectiveness of the principle can be quite substantial. At the same time increases the importance of such factors as the availability<br />
of promising lines and practical use of knowledge.<br />
The decline in interest in the study of foreign languages at the secondary level for several reasons, one of which is, in our opinion, to<br />
ignore these factors. We believe that the sooner the teacher will use them, the more efficient the process will proceed foreign language<br />
teaching. "Children aged 11-12 years can not understand the need for foreign language skills - rightly observes G. Rogoff. - The task of the<br />
teacher is to not only tell you how important foreign language for any educated person, but to be able to maintain an interest in language<br />
learning, to stimulate a desire to learn the language ... Students need to feel that the language they are studying, is a communication tool, a<br />
means of getting information when they listen, speak and read in that language. "<br />
Students need to explain where and how they can practically apply their knowledge. (Yes, and life gives them examples of how the future<br />
they will be able to use them.), But the benefits of such interviews will be small if the student himself, on his personal experience does not<br />
experience the satisfaction of the specific opportunities presented itself to him to apply their knowledge and skills . As rightly remarked by EA<br />
Vertogradsky, "function as a link motives, impelling and directing the activities will be intensified in the event that the needs will be available<br />
during training and during training."<br />
There is no doubt that one form of motivation - is the satisfaction that students are successfully mastering the knowledge, skills and<br />
abilities. If a student feels that the subject him to "give", he will teach him with even greater interest. However, we know: what is the success<br />
of one student may not be so for another. Excellent assessment, resulting in a well-learned material will be a success for many students, but<br />
close is not for everyone, for the complete satisfaction of students of all ages brings only the realization that the knowledge and skills can be<br />
immediately put into practice, as well as the opportunity to make it. "The teachers of a foreign language - writes B. Dutton - always jealous of<br />
faculty of exact and natural sciences, because these things at once attracted by his appearance, at least the boys are always under the spell of<br />
things real and concrete, while the poor are so few linguists lures (gimmicks ) for which they could rely on! The student must receive a<br />
tangible reality for the work, which he spent, he must feel that he goes to a goal, getting something that can be used immediately. " And<br />
speaking of putting into practice the knowledge obtained by a student, skills and abilities, B. Dutton believes that it should be a joyful,<br />
triumphant moment of free creativity, which have all been waiting so eagerly.<br />
We believe that the use of talking story filmstrips, kinokoltsovok, kinofragmentov and movies well corresponds to the festive nature of<br />
knowledge, of which B. Dutton said. In addition, with slide shows and voiced particular film, the language in the minds of students from an<br />
abstraction into a lively means of communication. Because students in the film feel a real need and opportunity to use the acquired knowledge,<br />
it gives them satisfaction and, consequently, increases the interest in learning a foreign language.<br />
An interesting experiment was conducted Polish teacher S. Yantsevich in high school. Faced with a complete lack of interest in learning a<br />
foreign language, S. Yantsevich through the use of educational films for a short time was able to radically change the attitude of students to the<br />
subject. We note here that the author of this article conducted an experimental study using a different audio-visual means - kinokoltsovok - in<br />
several Moscow schools have also demonstrated the growing interest of students to study a foreign language, especially in the so-called<br />
"average" students. This exercise also helped with the reception dramatization, finalizing kinokoltsovkami.<br />
Here we must focus on two aspects of motivation stemming from the fact that information comes to modern students by significantly<br />
large number of channels than ever before, and many of these channels are known to them from everyday life. Modern technical audio-visual<br />
teaching aids have historically outside the school before they become teaching aids, and this applies to the cinema more than any other<br />
textbook. This is the origin of the educational film makes some Methodists wary, and sometimes a negative attitude toward him. Thus, R.<br />
Lado in a lecture delivered by the Soviet teachers at Georgetown University in Washington, noting at the beginning of the movie is "a<br />
powerful visual aid," nevertheless stressed their opposition to the use of film to study foreign languages as one of the reasons described the<br />
following: "People used to the fact that the movie - entertainment, so students do not relate to the training film seriously." The point,<br />
apparently, is that when using the movie on foreign language lessons for school children may have two types of motivation: on the one hand,<br />
self-motivation, when the film is interesting in itself (as is well said S. Corder, «language or no language» ) and on the other hand, the<br />
motivation is due to the fact that the student can understand the language, which he studied and spoken by the characters in the film. This will<br />
give him a sense of satisfaction, inspire confidence in their abilities and desire for further improvement.<br />
In today's educational literature, the problem of psychological activity is often considered in two aspects: the so-called personal level (ie<br />
by motivation) and in terms of flow of the learning process (ie, from the student's mental activity). The successful organization of the<br />
educational process, the very methods and materials contribute to the formation of positive learning motivation. Nevertheless, students should<br />
begin as early as possible to apply their knowledge in practice, because if the motivation is based only on the fact that learning is interesting,<br />
then this is far from enough to solve the problem.<br />
The use of filmstrips and movies dubbed allows us to approach the problem of motivation in two ways simultaneously: on the one hand,<br />
the audio-visual teaching themselves laid motivation (they are interesting in themselves, and enliven the learning process), on the other hand,<br />
they are an area where Students can apply their knowledge and skills they obtained during the training, which also in turn supports the motivation.<br />
In conclusion I would like to note the importance of audio-visual material that contains elements of humor.<br />
The problem of the positive impact of humor as an emotional factor in the study of foreign languages is one of the least studied and<br />
methodical, and in psychological terms. I must say that this problem is quite extensive.<br />
It includes the important questions and fostering a sense of humor and use humor as a psycho-physiological relaxation factor, and as an<br />
added incentive that can help learning, memorization. However, the very recognition of that humor should be an integral part of learning a<br />
foreign language, is very rare. (As an exception may be to quote G. Horn, in which one of the four main qualities required of a foreign<br />
language teacher is the courage to work with good humor and pleasure.)<br />
It seems that the audio visual, tasteful, pedagogical tact and gentle humor, must contribute to the creation in the classroom a pleasant<br />
atmosphere, which, in turn, should create the mental attitude, which is essential to any beneficial work on mastering a foreign language. Of<br />
course, some teachers, as noted D. Flemming, might say: "How can I bring humor into the class, if I myself find it difficult?"<br />
In this case, in our opinion, to help the teacher should come Methodists involved in the creation of training materials, giving the teacher a<br />
87<br />
Pedagogical sciences<br />
Pedagogical sciences - оpen disciplinary section
Pedagogical sciences<br />
material in which the humor would have been its integral and natural part of, and thus would be an incentive not only for the class, but also an<br />
incentive for teachers to improve their lesson in this regard.<br />
However, this audio-visual materials to become such a stimulus, it is essential to their artistic side was at a high level, and their artistic taste<br />
is impeccable, because as soon as the cease to act in an element of novelty, the increasing role will belong to the quality of an educational<br />
material. Therefore, the external entertaining (of course, the inherent qualities of each allowance) must necessarily lead also to the education<br />
of good taste, to promote aesthetic education. All this, of course, should help solve the problem of motivation in learning a foreign language<br />
in high school.<br />
Abstract:<br />
Approaching the problem of motivation from the perspective of set theory, as formulated, includes the disposition of the subject to focus<br />
its activities, including training, in a certain direction. This activity occurs whenever the presence and interaction of two factors, the external,<br />
objective, ie environment in which to be satisfied or that the need for, and the internal, subjective - the requirements to be satisfied in a<br />
particular environment. In the study of the subjective factor is the need for subject knowledge, a desire to obtain them, the objective factor is<br />
the learning process, methodically crafted educational material. This psychological condition ultimately determines the success of the training.<br />
However, because the subjective factor is not fully controlled, we must try to ensure the coincidence of two factors, the most fully controlled<br />
using an objective factor.<br />
References:<br />
1. См. например, исследования Н.В.Витт, М.А.Кудашовой, Н.Н.Пимачковой и др.<br />
2. См. Кудошова М.А. К вопросу о мотивах изучения иностранного языка учащимися старших классов. – «Иностранные языки<br />
в школе», 1975, №5.<br />
3. Леонтьев А.А. Эмоционально-волевые процессы в овладении иностранным языком. – «Иностранные языки в<br />
школе», 1975, №6, с.96.<br />
4. См.: Вертоградская Э.А. Эмоции и проблема мотивации обучения. – В сб.: Психологические вопросы обучения иностранцев<br />
русскому языку. М., 1972; Витт Н.В. Роль мотивов и эмоций в успешности обучения иностранному языку. – В сб.: Методика<br />
преподавания иностранных языков в вузе, т.III, ч. I. М., 1973.<br />
5. Кудашова М.А. Указ. работа, с.48.<br />
6. См.: Fumadelles M. Motivation et enseignement des langues. – “Les Languese modernes”, 1971, n0 4.<br />
7. См.: Комков И.Ф. Активный метод обучения иностранным языкам в школе. Минск, 1970.<br />
8. Rogova G.V. Methods of Teaching English. M., 1970, p. 34.<br />
9. Вертоградская Э.А. Указ. работа, с.76<br />
10. См.: Rogova G.V. Ibid., p.38.<br />
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМ – ОДНА ИЗ ФОРМ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ<br />
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ<br />
Мусайбеков Р.К., магистр<br />
Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова, Казахстан<br />
Участник конференции,<br />
Национального первенства по научной аналитике,<br />
Открытого Европейско-Азиатского первенства по научной аналитике<br />
Pedagogical sciences - оpen disciplinary section<br />
Научить учащихся доказывать теоремы – очень ответственная и серьезная задача для учителя математики. Успех зависит от<br />
уровня подготовленности класса, от способностей и склонностей учащихся.<br />
Вопрос о том, как научить учащихся доказывать теоремы, встречается в трудах Александрова А.В., Столяра А.А., Далингера<br />
В.А., Кожабаева К.Г. и др..<br />
По словам Далингера В.А., определение эффективной методики организации учебного процесса отвечает идее гуманитаризации<br />
математического образования, которую истолковывают как усиление в обучении математике акцента на общее развитие учащихся,<br />
а именно развитие логического мышления, математической речи, пространственного воображения, интуиции и т.п., а также<br />
усиление взаимосвязи естественно – математического образования с гуманитарным [1, с.11].<br />
В своем исследовании Кожабаев К.Г. указывает, что одним из требований к методической компетентности, относящихся к<br />
вопросу языковой культуры, является то, что будущий учитель математики должен уметь владеть особенностями математической<br />
речи при доказательстве теорем [2, с.120].<br />
Уровень математической речи ученика учитель может выявить в его суждениях. Большинство сужденний в математике<br />
принимаются за истинные без доказательства, либо их истинность устанавливается посредством специального логического<br />
рассуждения. В первом случае суждения называются аксиомами, во втором – теоремами[2, с.68].<br />
Суждение может возникать в процессе особой мыслительной деятельности и называется умозаключением. Умозаключение –<br />
процесс получения нового суждения – вывода из одного или нескольких данных суждений[3, с.71].<br />
В умозаключениях исходные суждения называются посылками, а новое – выводом или заключением. Если вывод делается из<br />
одного суждения, то умозаключение называют простым; если из двух суждений, то умозаключение называют силлогизмом.<br />
Силлогизм имеет следующее строение<br />
Все М суть Р (большая посылка)<br />
S суть М (малая посылка)<br />
S – суть Р (вывод)<br />
На наш взгляд, использование силлогизмов позволяет вспомнить учащимся определения понятий, ранее изученные теоремы,<br />
встречающиеся в ходе доказательства данной теоремы.<br />
В качестве примера рассмотрим доказательство теоремы о диагоналях ромба:<br />
«Диагонали ромба пересекаются под прямым углом. Диагонали ромба являются биссектрисами его углов». Учащимся<br />
необходимо вспомнить определения ромба, равнобедренного треугольника, теоремы о диагоналях параллелограмма, о свойстве<br />
88
Pedagogical sciences<br />
медианы в равнобедренном тругольнике.<br />
Все сказанное используем в качестве силлогизмов.<br />
Дано:<br />
АBCD – ромб, ,<br />
AC, BD – диагонали<br />
Доказать: 1) BD – биссектриса<br />
2) ВД АС<br />
Доказательство:<br />
Силлогизм 1:<br />
БП: Параллелограмм, у которого все стороны равны, называется ромбом.<br />
МП: В параллелограмме АВСД стороны АВ=ВС = СД = АД<br />
Вывод: АВСД – ромб<br />
Силлогизм 2:<br />
БП: Треугольник, у которого две стороны равны, называется равнобедренным.<br />
МП: В треугольнике ВАД АВ=АД<br />
Вывод: ∆ВАД – равнобедренный.<br />
Так как определение ромба дается через параллелограмм, то ромб обладает его свойствами.<br />
Силлогизм 3:<br />
БП: Диагонали параллелограмма пересекаются и точкой пересечения делятся пополам.<br />
МП: В параллелограмме АВСД ВД – диагональ, О – точка пересечения.<br />
Вывод: ВО = ОД<br />
Отсюда, отрезок АО в ВАД является медианой.<br />
Силлогизм 4:<br />
БП: В равнобедренном треугольнике медиана, проведенная к основанию, является биссектрисой и высотой.<br />
МП: В треугольнике ВАД отрезок АО – медиана.<br />
Вывод: АО – высота и биссектриса.<br />
Так как АО является высотой, то АС ВД, так как АО является биссектрисой, то < ВАС= < ДАС<br />
Теорема доказана.<br />
Таким образом, доказательство теорем с применением силлогизмов позволяет выявить последовательность предложений,<br />
помогает в выделении посылок, т.е. фактов, определений, используемых при выводе [3,с.68,86].<br />
Изучив исследования многих ученых, убеждаемся в том, что почти все теоремы в школьнои курсе геометрии доказываются<br />
синтетическим методом, но этот метод «навязывает» ученику готовое доказательство. При синтетическом методе до самого<br />
завершения доказательства мотивы построения цепочки силлогизмов остаются для учащихся скрытыми и это приводит многих к<br />
мысли о том, что невозможно доказать теорему иначе, чем в школьном учебнике<br />
Для более глубокого уяснения смысла доказательства теоремы необходимо провести аналитическое рассуждение. Рассмотрим<br />
доказательство теоремы: «Диагонали прямоугольника равны».<br />
Доказательство:<br />
Аналитическое рассуждение<br />
1.Заметим, что диагонали прямоугольника АВСД<br />
АС и ВД являются гипотенузами прямоугольных тругольников СДА и ВАД, равенство которых мы должны доказать.<br />
2.В данных треугольниках углы ВАД и СДА прямые, АД – общий катет, катеты АВ и СД равны как противолежащие стороны<br />
параллелограмма.<br />
3.Значит согласно п.2, следует,что ∆ВАД= ∆CДА.<br />
4.В заключение нужно сказать,что утверждение теоремы следует из равенства треугольников СДА и ВАД, т.е. гипотенузы АС<br />
и ВД равны.<br />
После аналитического метода, позволившего найти путь доказательства, необходимо сделать обратный путь ( 4 – 3 – 2 – 1 ),<br />
после чего теорема будет доказана.<br />
В ходе доказательства мы убедились, что такие методы как анализ и синтез<br />
выступают в единстве, вследствие чего метод доказательства можно назвать аналитико-синтетическим.<br />
Использование рассмотренных способов позволяет закрепить доказываемую теорему, лучше понять ее, повышает кругозор и<br />
культуру математической речи.<br />
89<br />
Дано:<br />
Дано: АВСД - прямоугольник<br />
АС, ВД – диагонали прямоугольника<br />
Доказать: АC=ВД<br />
Pedagogical sciences - оpen disciplinary section
Pedagogical sciences<br />
Литература:<br />
1. Далингер В.А. Методика работы над формулировкой, доказательством и закреплением теоремы: Книга для учителя /<br />
ОмИПКРО. – Омск, 1995. – 196с.<br />
2. Кожабаев К.Г. Воспитательно-развивающее обучение математике и подготовка к ней будущего учителя: Учебное пособие /<br />
Кокшетау: Кокшетауский государственный университет имени Ш.Уалиханова, 2009 – 273с.<br />
3. Саранцев Г.И. Методика обучения математике в средней школе: Учеб. пособие для студентов мат.спец. пед.вузов и ун-тов /<br />
Г.И.Саранцев. – М.: Просвещение, 2002. – 224с.: ил.<br />
TOURISM AND EDUCATION MANAGEMENT STUDENTS’ CHARACTERISTICS FROM POINT<br />
OF SOCIONICS VIEW<br />
Zilite Ligita, Dr. of Management science, Lecturer<br />
Turiba University, Latvia<br />
Conference participant,<br />
National championship in scientific analytics,<br />
Open European and Asian research analytics championship<br />
Set out in the article, the aim of the study is to describe the student groups in tourism and education management study directions, on the<br />
basis of the sociotypes research to improve educators knowledge of the nature of students. So tourism students and education management<br />
students have statistically significant differing sociotype features. Therefore the research of the author proves that the sociotype structure of<br />
tourism educators corresponds to the sociotype structure of tourism students and it has a social orientation but sociotype of tertiary educators<br />
as a whole has a more humanitarian nature.<br />
Keywords: Socionics; sociotype; student; educator<br />
Pedagogical sciences - оpen disciplinary section<br />
I. Introduction<br />
The pedagogical proficiency of teaching staff is not only reflected by the individual’s pedagogical competence but also the understanding<br />
of interpersonal relationships [6]. But it can be seen from the results of the survey conducted among Latvian school directors and teachers on<br />
the preparedness of graduates for the job of teachers – one of the frequently mentioned conclusions is that the new teachers are well educated<br />
in the subjects but lack knowledge and skills in other areas, including understanding the personality of the learners [5]. The primary task of all<br />
education employees is to gather precise information about their learners [4].<br />
One of the aids that could provide information about students for successful decision-making in the education process is<br />
Socionics - the theory on individual sociotypes, their interrelationships and management of human potential development.<br />
Sociotype is the natural set of individual physic features that determine how the individual gets energy, perceives information,<br />
make decisions and structures his/her own life.<br />
At the end of the sixties and the beginning of seventies the 20th century, the Lithuanian scholar A. Augustinavichute (04.04.1927. –<br />
19.08.2005.) developed the theory on 16 psychological types based on the typology of C.G. Jung, as well as using the A. Kempinski concept<br />
of informative metabolism [11], and termed it as Socionics. Socionics is widely renowned in Russia and Ukraine. Socionics research was<br />
approved and appended by the other contemporary variant of C.G. Jung’s theory, an instrument widely known in the USA and Western Europe<br />
as Type theory – the application of MBTI (Myers Briggs Type Indicator). Socio¬nics as well as Type theory characterises individuals using 4<br />
dichotomies (Extroversion – internationally recognised designation with the letter E /Introversion (I), Intuition (N)/Sensing (S), Logic (T;<br />
Thinking in MBTI)/Ethics (F; feeling in MBTI), Rational (J; judging in MBTI/Irrational (P; perceiving in MBTI), and combining the poles<br />
results in 16 variants or 16 combinations of letter codes that refer to a definite sociotype. Certain intertype relationships are formed between<br />
definite types of individuals.<br />
The aim of the study is to research students groups in tourism and education management directions, to test the assumption that certain<br />
professions are attractive for individuals of certain sociotypes.<br />
II. Research metodology<br />
Several methods of determination of sociotypes can be applied depending on the goals. The visual-verbal method can be used for the<br />
precise determination of sociotype. The sociotype tendencies of social groups can be determined using tests as the incorrect reply of a<br />
respondent regarding dichotomy features is compensated with the same probability of incorrect reply of another respondent in the opposite<br />
direction and therefore the overall picture will reflect the real situation [12]. If the researcher is only interested in the overall result then the<br />
responses of each respondent are not reflected [7].<br />
Although several tests have been formulated in socionics none of them as acknowledged by socionic researchers<br />
themselves are qualitative enough as it is a relatively new field. Therefore the author, having investigated the works of more<br />
than one hundred (117) socionics researchers and more than a half hundred (61) type theory researchers, carrying out a<br />
comparative analysis of the dichotomy characteristics in the type theory and socionics as well as dichotomy features and<br />
other aspects that determine the work motivation factors, learning styles and the optimal fields of an individual’s activity<br />
came to conclusion that both specialists of type theory as well as socionics have the same opinions regarding these issues.<br />
Therefore the author in her research has used the discoveries of both type theory as well as socionic researchers. The MBTI<br />
test is copyrighted and it is expensive. The author upon empirically testing the Jung typology on-line Humanmetrics test in<br />
English found it well formulated and easily accessible. It provides respondents the opportunity to see their results – the<br />
sociotype letter combination and a description. Therefore the author organised the translation of the test in Latvian requesting<br />
the translator to focus on the transfer of the essence of the questions into the Latvian language as emphasised by the specialist<br />
M. Raščevska [9] on psychological tests and questionnaires. The test consists of 72 statements with just a “YES” or “NO”<br />
answer for each of the statements. The author added instructions to the test wherein she underlined that there are no incorrect,<br />
better or worse answers and that the evaluation of each respondent for the respective statement is the most important.<br />
Answering the test questions the respondents must be able to objectively analyse themselves. Some personality features<br />
should not be considered more valuable than others. Respondents have to also try to understand their subconscious behaviour<br />
and motivation for choices in different circumstances.<br />
The author provided tourism students the opportunity to complete the test in Latvian during the personnel management class while<br />
90
Pedagogical sciences<br />
discussing the topic “Personnel interaction” and the respondents could later filling the same answers for the English version on the Internet site<br />
www.humanmetrics.com/cgi-win/JTypes2.asp [8] get the results - the four letter sociotype combination and could get a description of their<br />
sociotype features developed by socionic researchers. If the students themselves deemed that the sociotype character 85%-100% corresponds<br />
to their own thinking they submitted the 4 letter combination to the author. If the students deemed that the sociotype character corresponds to<br />
their own thinking less than 85%, they changed the sociotype code by changing a letter and getting acquainted with the relevant sociotype<br />
features. The letter of the sociotype code that they were least sure of while answering the test questions was the one that they changed. For<br />
example if the student while answering the test in English got the result - „ISTJ” with a percentage 78:1:50:33, and reading the description<br />
admits that it did not fit his personality then probably his code was „INTJ”, and only the answers describing the sensory sociotype sounded<br />
attractive to him. If the student still could not recognise himself in the sociotype description the author applied the visual –verbal method<br />
asking additional questions that helped the student to understand one’s sociotype. As shown by the practical testing the test measurements led<br />
to consistent results.<br />
In order to test and compare accessible tests of different socionic authors and Jung typology test results the author carried out 2<br />
experimental studies and concluded that using 4 different sociotype determination tests the best results in both the cases including the<br />
correspondence of students’ self evaluation were results got from Jung typology test and consequently the test was used for further research.<br />
During the one semester of the academic year the author gave the final Latvian variant of the Jung test to students in September and<br />
November. The sociotype determined with the help of Jung test for 76% of the students in September was the same as in November. As the<br />
students had also carried out independent studies and an in depth study of their type descriptions there is justifiable grounds to consider the<br />
results reliable.<br />
Research has been carried out worldwide in several study fields and it is concluded that a definite type of individual is more or less<br />
connected with the field. No such research has been published in Latvia. As the author in her day to day activities has more contact with<br />
tourism management students, students of these study disciplines were basically involved in further research. There were four stages of the<br />
practical research. The first two stages were carried out to ascertain whether individuals with a certain sociotype were attracted to a certain<br />
study discipline. 448 students of tourism study programme of a Latvian Higher Educational Institution (herein after referred to as the HEI)<br />
were respondents in the 1st research stage and 264 tourism students and 46 students of education management study programme of 7 other<br />
Latvian HEIs were respondents during the 2nd research stage. At the same time the author evaluated the conformity of theoretical concepts of<br />
socionics in practice and their application possibilities in academic management.<br />
The 3rd research stage goal is to ascertain the dominant sociotype of educational management students and the 4th research stage goal is<br />
to ascertain the dominant sociotype of educators. Comparing the educators’ and students’ sociotype structure the possible problems in<br />
interrelationship during the pedagogical process can be ascertained. All educators from one HEI and tourism course educators from 4 HEIs<br />
were selected as respondents.<br />
III. Results analysis<br />
Comparing the results of the 1 st and 2 nd stage (Fig. 1) it could be concluded that there is similarity in the sociotype structure.<br />
Figure 1. Comparison of sociotype of tourism students in Latvian Higher Educational Institutions<br />
(comparison of 1st and 2nd stage research results)<br />
In order to ascertain the average result of statistical significance the author proposed a statistical hypothesis for the dichotomy features SF,<br />
ST, NF and NT of each professional discipline group and tested it with the Mann-Whitney test. The critical limits of test values are not<br />
exceeded at probability of 95%, and level of significance 0.936>0.05, which indicates that the distribution for SF for tourism students of one<br />
HEI who determined their sociotype complementing their sociotype description acquired as result of the test with their own evaluation and<br />
tourism students of seven other HEIs who just determined their sociotype in accordance to C.G. Jung’s test are similar. The NF (significance<br />
level 0.065>0.05) and NT (significance level 0.969>0.05) features have the same distribution in both groups.<br />
Only the distribution of ST features (significance level 0.027
Pedagogical sciences<br />
Pedagogical sciences - оpen disciplinary section<br />
Figure 2. Comparison of sociotypes of education management and tourism students<br />
A statistical hypothesis was proposed and tested with the Mann-Whitney test for comparing the average research results. The critical<br />
limits of Mann-Whitney test values were exceeded at probability of 95%, for SF feature (significance level (alpha) 0.018
Pedagogical sciences<br />
nature and motivation is involved e.g. psychology, human resources, pedagogy, research in the aforementioned fields, writing etc. Educators<br />
of a certain sociotype apply a certain typical for such types influencing, persuasion, stimulation methods as well as a communication style that<br />
is characteristic for this type [13].<br />
Figure 3. Distribution (%) of tertiary educators as a whole, tourism subject educators and tourism students in accordance<br />
to their fields of professional activity<br />
These results could be compared to the results of the 3nd research stage analysed before regarding sociotype structure of education<br />
management postgraduate students as the students parallel to their studies also carry out pedagogical activity at various education levels in<br />
schools (Fig.4.).<br />
Figure 4. Comparison of sociotype of education management students and tertiary educators<br />
In both cases the NF sociotype was most common among respondents, and the most rare – ST sociotype. Statistical calculations also<br />
prove that. The distribution of sociotype features of education management students and tertiary educators are the same (SF – 0.838; ST –<br />
0.980; NF – 0.843; NT – 0.992).<br />
Among tourism educators and tourism students however the social group sociotype dominates, i.e. sensory and ethical: 53% and 51%<br />
respectively. These are people whose optimal fields of activity are fields where it is necessary to practically assist and serve people.<br />
Summing up the case study, carried out on the basis of theoretical concepts and in three stages on student and educators groups confirmed<br />
the assumption that certain professions are attractive to individuals of certain socio-types. Tourism students and education management<br />
students have statistically significant differing sociotype features. The research of the author proves that the sociotype structure of tourism<br />
educators corresponds to the sociotype structure of tourism students and it has a social orientation but sociotype of tertiary educators as a<br />
whole has a more humanitarian nature.<br />
Researches in the field of socionics may contribute to successful decision-making in the process of educational management. Differences<br />
in sociotype of educators of general subjects and students can lead to interrelationship problems as the participants may lack the understanding<br />
of the features and different needs of one another. On the basis of the theory on individual socio-types and their interrelationships and<br />
management of human potential development, socionics may provide the information favouring the understanding of the personality of<br />
learners. The forecasting ability of socionics is of great importance as it provides the opportunity to foresee what the interests of the individual<br />
in the educational process are. It is recommended to study the sociotype structure dominant in student groups. It would allow the educator to<br />
foresee the students’ working habits and skills, build rapport with the students, motivate them towards academic excellence and enrich the<br />
students’ education process.<br />
The socionic concepts based on C.G. Jung’s psychological type theory could be used in the creation of professiogram and psychogram,<br />
for consulting in the choice of study disciplines and for student career consultations.<br />
References:<br />
1. Augstākās izglītības pamatrādītāji. [Basic indicators of higher education]. (Key Data on Higher Education in Europe – 2007 Edition.<br />
Eurydice Brussels: Eurydice, 2007. – 252 p.)<br />
2. Augstāko un profesionālo mācību iestāžu absolventu profesionālā darbība pēc mācību beigšanas. [Professional activity of graduates<br />
93<br />
Pedagogical sciences - оpen disciplinary section
Pedagogical sciences<br />
of higher and professional education institutions after completion]. (Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālā programma „Darba tirgus<br />
pētījumi”). LU: Rīga, 2007, XIV + 241 lpp.<br />
3. Brown L.H. Using personality type to predict student success in a technology-rich classroom environment. Full Citation & Abstract.<br />
EdD. North Carolina State University, 2006. 102 p. http://wwwlib.umi.com/dissertations/fullcit/3223113. [12.09.2007.]<br />
4. Fjelds S.E. No parlamenta līdz klasei. [From parliament to class].– R.: Rīgas pilsētas skolu valde, 1998. – 74 lpp.<br />
5. Koķe T. Pieaugušo izglītības attīstība: raksturīgākās iezīmes. [The characteristics of the development of adult education]. R., SIA<br />
„Mācību apgāds NT”, 1999. – 102 lpp.<br />
6. Garleja R. Links Between pedagogy and Socio-economic Sciences in Education.//Humanities and social sciences. Latvia. University<br />
of Latvia. 2 23//99. p. 137 – 146.<br />
7. Geske A., Grīnfelds A. Izglītības pētniecība. [Education Research].LU Akadēmiskais apgāds, 2006 – 261 lpp.<br />
8. Humanmetrics. Jung Typology Test. Online test based on Jung-Myers-Briggs Typology. www.humanmetrics.com/cgiwin/JTypes2.asp.[12.03.2012]<br />
9. Raščevska M. Psiholoģisko testu un aptauju konstruēšana un adaptācija. RaKa, 2005. – 281 lpp.<br />
10. Zīlīte L. “ Possibilities of use of Socionics information in the management of education process in Latvia” ./Synopsis of doctoral thesis<br />
(latv., eng.) Rīga, 2011 – 74 p. ISBN 978-9984-49-1000-8<br />
11. Букалов А.В. Соционика, ментология и психология личности. [Socionics, mentology and personality psychology] //<br />
Международныий институт соционики. № 1, 1995. /электронический ресурсс/. www.socionics.ibc.com.ua/t/as195.html [10.05.2005].<br />
12. Гуленко В.В. Структурно-функциональная соционика.: Разработка метода комбинаторики полярностей./ - К.: Транспорт<br />
Украiни, 1999. – Ч.1 – 187 с.<br />
13. Румянцева Е. А. На пути к взаимопониманию.[On the road to mutual understanding]. - М.: "Армада-пресс", 2002. - 250 с.<br />
УДК 377.015.3:159.954<br />
ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ФАХІВЦІВ З ПЕРУКРСЬКОГО МИСТЕЦТВА<br />
ТА ДЕКОРАТИВНОЇ КОСМЕТИКИ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА<br />
Одинець О.А., аспірант<br />
Луганського національного університету ім. Т. Шевченка, Україна<br />
Учасник конференції<br />
В статті розглянуто психолого-педагогічного дослідження розвитку творчого потенціалу студентів галузі «Мистецтво»<br />
ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. Проведено аналіз етапів творчої діяльності, характеристик творчої обдарованої особистості та<br />
умови формування творчої особистості в умовах ВНЗ І-ІІ рівня акредитації<br />
Ключові слова: творчість, творча особистість, здібності, творча професійна діяльність, формування творчої особистості.<br />
In the article it is considered psikhologo-pedagogical research development of creative potential for students of industry «Art»<br />
INSTITUTE of higher I-II levels accreditation. The analysis of the stages creative activity, descriptions the creative gifted personality and<br />
condition of forming creative personality, is conducted in the conditions of INSTITUTE higher I-II level of accreditation.<br />
Keywords: creation, creative personality, capabilities, creative professional activity, forming of creative personality.<br />
Pedagogical sciences - оpen disciplinary section<br />
Актуальність і складність психолого-педагогічного дослідження розвитку творчого потенціалу фахівців з перукарського<br />
мистецтва полягає у тому, що прямого шляху научіння творчості немає, оскільки ні знання, ні вміння і навички, навіть досвід<br />
творчої діяльності не гарантують відповідної якості освіти і формування готовності фахівців до творчої професійної діяльності.<br />
В останні роки бурхливі дискусії розгортаються навколо питання здібностей особистості та їх структури. Здібності поділяються<br />
на види передусім за змістом і характером діяльності, в якій вони виявляються. Науковці вирізняють такі рівні здібностей:<br />
репродуктивний (забезпечує високе вміння засвоювати знання, оволодівати прийомами діяльності) і творчий (забезпечує уміння<br />
створювати нове, нестандартне, оригінальне). Під творчими здібностями ми розуміємо такий структурний рівень організації<br />
здібностей і провідних властивостей особистості, які уможливлюють орієнтацію мислення індивіда на нові вимоги, пошуки<br />
шляхів, форм створення нового, того що не було в його особистому досвіді.<br />
Основою для розробки широкого питання розвитку здібностей стали такі методологічні положення:<br />
– на розвиток здібностей впливають соціальні умови, вони ж визначають їх витребуваність суспільством;<br />
– здібності розвиваються і динамічно змінюються у процесі самостійної діяльності;<br />
– аналіз здібностей необхідно проводити з позицій цілісного підходу (враховувати соціальні умови, систему організації<br />
навчання і виховання, активність особистості, її бажання розвивати та вдосконалювати здібності).<br />
Вони розглядалися працях вчених: Б. Ананьєва, Д. Богоявленської, Дж. Гілфорда, В. Дружиніна, О. Ковальова, В. Крутецького,<br />
М. Лейтеса, О. Леонтьєва, В. Моляко, В. М’ясищева, К. Платонова, С. Рубінштейна, Б. Теплова, В. Чудновського, В. Юркевича та<br />
інших. Основні висновки щодо узагальнення теоретичних та експериментальних результатів досліджень вчених можна представити<br />
у вигляді наступних положень:<br />
- властивості особистості розвиваються в активній взаємодії з оточуючим середовищем, визначаються якістю самостійної<br />
діяльності та утворюють складні конструкції (особистісно-діяльнісний підхід) [17, с. 87–95];<br />
- розвиток здібностей не можна зводити до засвоєння системи знань, умінь і навичок [9,с. 9–10];<br />
- успішне виконання будь-якої діяльності не може бути забезпечено однією здібністю, а тільки поєднанням комплексу здібностей<br />
і властивостей особистості [11,с. 223–226];<br />
- процес розвитку здібностей пов’язаний не стільки з їх кількісним збільшенням, скільки з якісною перебудовою самої<br />
структури здібностей [7, с. 12];<br />
- здібності тісно пов’язані з загальною спрямованістю особистості; співвідношення спрямованості особистості й рівня розвитку<br />
здібностей неоднозначне, але високий рівень здібностей суттєво впливає на стиль діяльності та подальше становлення особистості<br />
[17, с.87].<br />
Метою даної статті є науковий аналіз наукової психолого-педагогічної та методичної літератури, спрямований на формування<br />
розвитку здібностей і провідних властивостей особистості іахівця, які забезпечують успіх у творчій професійній діяльності.<br />
94
Аналіз наукової психолого-педагогічної та методичної літератури показав, що вирішити проблему розвитку творчих здібностей<br />
у рамках традиційної системи навчання дуже складно, майже неможливо. Необхідний цілісний підхід до організації навчальновиховного<br />
процесу, пошук суттєвих, стійких зв’язків між характером педагогічної взаємодії та процесом становлення творчої<br />
спрямованості особистості. Переосмисленню й удосконаленню підлягають зміст, форми, методи, прийоми та засоби навчання. Слід<br />
враховувати, що ефективне розв’язання цієї проблеми залежить від багатьох чинників: розуміння природи явища творчості,<br />
структури організації, особливостей формування і розвитку механізму творчої діяльності, використання всіх складових навчальновиховного<br />
процесу для розширення цивілізаційних компетенцій суб’єктів навчання; реалізації управління процесом формування<br />
творчої особистості упродовж терміну отримання освіти.<br />
У психологічній та педагогічній літературі використовується ще один підхід до розв’язання проблеми розвитку<br />
творчих здібностей. А саме, пропонується процес творчої діяльності розглядати не як один із видів діяльності, а як<br />
особливий зміст різних видів діяльності, певний якісний стан діяльності [17, c. 87]. Наукове трактування такого виду<br />
діяльності вимагає від суб’єкта достатньо високого рівня умінь узагальнювати, варіювати зміст діяльності, шукати<br />
оптимальні шляхи. Однак, за такого підходу проблема розвитку здібностей розчиняється у проблемі психології<br />
особистості. Щоб цього не сталося пропонується розглядати особистість як суб’єкт творчої діяльності, тобто<br />
наголошується на необхідності самостійного вироблення творчого стилю діяльності [12, с. 5]. Одним із можливих<br />
шляхів педагогічного управління процесом становлення творчої діяльності фахівців вважається розвиток стилю<br />
діяльності як стійкої єдності засобів і способів діяльності, яка забезпечує її творчий характер, цілісність та наявність<br />
відповідних їй особистісних кореляторів. Творчий стиль діяльності пропонується розглядати як складну багатовимірну<br />
систему, що інтегровано поєднує в собі мотиваційний, інтелектуальний та емоційно-вольовий компоненти. Аналіз<br />
однієї з таких підструктур, що об’єднує стиль творчої діяльності та інтелектуальні властивості особистості, дозволяє<br />
виокремити сукупність таких елементів як здібність до бачення і розуміння проблеми, самостійність мислення, діалектичність,<br />
критичність мислення, творча активність, легкість генерування ідей, антиконформізм особистості,<br />
здатність до оцінних дій тощо [12, с. 81].<br />
Перші спроби створення теорії творчості були зроблені психологами на межі ХІХ та ХХ століть. Одним з перших дослідників<br />
творчості був С. Грузенберг [6]. Подальші спроби пояснити та систематизувати процеси науково-технічної творчості були зроблені<br />
М. Блохом [2], П. Енгельмейєром [19], П. Якобсоном [20 ] та іншими.<br />
У наш час поняття „творчість” є категорією різних наук: філософії, психології, педагогіки тощо, тому і викристалізувалися<br />
різні аспекти її дослідження: педагогічний, психологічний. Творчість визначають як продуктивну людську<br />
діяльність, у результаті якої створюються нові матеріальні та духовні цінності [10, с. 513]. П. Горностай вважає, що<br />
творчістю можна назвати будь-яку діяльність, під час якої індивід відкриває для себе нове, розв’язує задачу, яку він<br />
ніколи не розв’язував [5, с. 18.]. С. Рубінштейн визначає, що „...творчою є будь-яка діяльність, яка створює дещо нове,<br />
оригінальне, що при цьому входить в історію розвитку не тільки самого творця, а й науки, мистецтва тощо” [14, с.<br />
478]. Такої ж думки дотримується Л. Виготський [3, с. 3]. Підсумовуючи, робимо висновок, все що створено людством<br />
і характеризує прогресивний розвиток суспільства, стало можливим завдяки творчій діяльності людей. Дуже цікавий<br />
підхід до визначення творчості пропонує М. Амосов. Вчений вважає творчістю процес створення нових моделей та<br />
реалізацію їх у матеріальні речі через функціональну активність [1, с. 158]. Український психолог В. Роменець<br />
вважав, що „...діяльність людини може бути визнана творчою, коли в її результаті виникає новий продукт, нова<br />
ситуація, вирішується проблема... Розуміння творчості як механізму продуктивного розвитку, вказує на те, що її треба<br />
шукати там, де є рух від нижчого до вищого” [13, с. 7], від простого до надскладного. Закономірним на основі аналізу<br />
цих визначень є висновок про те, що творчість завжди пов’язують з діяльністю людини. Ця діяльність особлива<br />
метою, якістю виконання, способами здійснення, формами представлення. Вона є важливою умовою культурного<br />
прогресу суспільства і виховання людини.<br />
Психологічний аспект творчості включає особистісну і процесуальну сторони. В особистісному – вона вимагає сформованого у<br />
людини певного рівня інтелекту (розумових здібностей, здібності бачити і розуміти проблему, гнучкості мислення, уміння<br />
орієнтуватися в навколишньому середовищі, адекватно його відображати та перетворювати, навчатися розв’язувати проблемні<br />
завдання, розумно діяти, передбачати, прогнозувати, приймати самостійні рішення), особистісних властивостей, мотивів, необхідних<br />
для ризикованої діяльності й створення нового [11, с. 222–228].<br />
В іншому процесуальному аспекті – творчість розглядають як процес, в якому головну роль відводять надсвідомому,<br />
наголошуючи на важливості неусвідомлених компонентів розумової активності, інтуїції, творчої уяви, а також потреби особистості<br />
у самоактуалізації, у розширенні своїх можливостей діяти неординарно.<br />
Творчий процес відбувається поетапно. На нашу думку, найбільш чітко представив і охарактеризував зміст етапів творчої<br />
діяльності (процесуальна складова психологічного аспекту творчості) Я. Пономарьов [11, с. 118]. Він вважає, що процес творчої<br />
діяльності проходить чотири стадії:<br />
– підготовка – попередня пошукова робота думки, створення необхідного рівня знань – базального рівня (свідома діяльність);<br />
– дозрівання – інтенсивні розумові дії, які відбуваються з використанням базального рівня знань й спрямовані на розв’язання<br />
проблеми, відкриття невідомого (неусвідомлена робота над проблемою, інкубаційний період);<br />
– інсайт – незвичайний стан осяяння, емоційного піднесення, у якому концентруються всі можливості особистості й<br />
спрямовуються на досягнення мети – створення нового, такого, що не було в його особистому досвіді. Як правило, суб’єкт творчої<br />
діяльності бачить кінцевий варіант розв’язку проблеми (перехід неусвідомленого у свідоме);<br />
– розвиток ідеї, її перевірка, аналіз, поціновування соціальної значущості, оригінальності (свідома діяльність).<br />
Виявлення творчості не залежить від того, яким є вид діяльності людини: розумовим або фізичним. Найбільш характерною її<br />
ознакою є ставлення до праці: індивід отримує задоволення від процесу роботи, а не її позитивного результату. Творче ставлення до<br />
праці – ознака того, що в процесі її виконання відбулися органічні зміни в самій особистості, сформувалися нові якості, уміння, що<br />
в подальшому будуть визначати форми творчої діяльності. При переході від однієї форми діяльності до іншої спостерігається<br />
фасилітація творчого процесу, змінюються сили, що її реалізують.<br />
Зазначимо, що для педагогів, які виховують творчу особистість, не настільки важливим є створення молоддю „нового, того,<br />
чого не було в її попередньому досвіді, нестандартного”, наскільки сам процес творчої діяльності, в ході якого відбувається<br />
розвиток суб’єкта діяльності. Як зазначав С. Рубінштейн, „процес... створення людиною предметного світу – це і є разом із тим<br />
розвиток нею своєї власної природи” [15, с. 223].<br />
Аналіз практичного досвіду фахової підготовки у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації засвідчив, що в процесі навчання основну увагу<br />
звертають на розвиток формально-інтелектуальних умінь; меншою мірою – на формування структури особистості, рівні її<br />
організації, залишаючи поза увагою механізми розвитку творчої діяльності. Збільшують обсяг оперативної пам’яті, вдосконалюють<br />
процеси мислення, підвищують інтерес, сприйнятливість до засвоєння знань, використовуючи традиційний підхід – удосконалення<br />
95<br />
Pedagogical sciences<br />
Pedagogical sciences - оpen disciplinary section
Pedagogical sciences<br />
Pedagogical sciences - оpen disciplinary section<br />
логічного апарату, за допомогою якого досягається нове знання. Отримане таким чином знання не є творчим, хоча і вимагає<br />
сформованості спеціальних умінь. Шлях до принципово нових творчих результатів лежить через формування творчого стилю<br />
професійної діяльності, в якому присутній інтуїтивний пошук, можливе відхилення від встановленої логіки, має місце ризик.<br />
Виходячи з цього навчально-виховний процес у ВНЗ І- ІІ рівня акредитації повинен будуватися так, щоб були створені всі необхідні<br />
умови для формування у студентів творчого стилю професійної діяльності.<br />
Відомий український психолог В. Клименко, розглядаючи механізми розвитку творчості, зауважує, що „освітній<br />
процес, його засоби мають спрямовуватися на найголовніше в людині – основне, визначальне, таке, що зумовлене глибинними,<br />
необхідними зв’язками з оточуючим людину середовищем і тенденцією розвитку механізмів творчості” [8,<br />
с. 36]. Вчений акцентує на необхідності шукати те, що „слід просвітлювати” в людині, щоб воно, стаючи розвиненим,<br />
набуло бажаних властивостей, чим „просвітлювати, як формувати, створювати, виховувати із прихованого природою”.<br />
Він стверджує, що механізм творчості можна розвивати, побудувавши відповідним чином структуру мети і складові<br />
освітнього процесу (зміст освіти, засоби освіти, за допомогою яких досягається мета, організаційні засади, матеріальне<br />
забезпечення).<br />
За такого підходу виховання творчої особистості перетворюється у суто творче завдання для викладача. Його креативність<br />
визначає можливості використання механізмів розвитку творчості студентів. Ним створюється поле взаємодії, у якому стимулюється<br />
діяльність, спрямована на отримання нових знань, об’єднуються поодинокі „сплески” і „виверження” студентської творчості в<br />
єдине ціле і спрямовуються на досягнення нових форм розвитку, корегується напрям нестандартного розв’язання проблеми (за<br />
допомогою уяви і фантазії) для подальшого її надсвідомого вирішення. У цій взаємодії все закономірно і обумовлено. Методами<br />
педагогічної діагностики можна встановити упорядкованість рівнів, відносно автономної структури особистості, так як у середині<br />
них створюється нове: росте інтенсивність діяльності, змінюються мотиви, активізуються сили, формуються якості творчої особистості.<br />
У сучасній психолого-педагогічній літературі представлена низка моделей творчої особистості, що включають у себе різноманітні<br />
структурні компоненти: від розвитку загальних психологічних властивостей і процесів, інтелектуального потенціалу до спеціальних<br />
здібностей (Ю. Гільбух [4], Дж. Гілфорд [21], В. Моляко [9], Б. Теплов [16], Е. Торренс [22] тощо).<br />
Слід зазначити, що модель творчої особистості постійно вдосконалюється і розвивається, набуває цілісності, комплексності.<br />
В ній виокремлюються творчі здібності як потенційні можливості людини до саморозвитку. Творчі<br />
здібності об’єднують: дивергентність мислення, його гнучкість та швидкість, розвинену інтуїцію, багатство уяви, її<br />
активність, креативність, неоднозначне сприймання речей [12, с. 7–8], дискурсивність мислення, здатність до ризику.<br />
Творчі здібності певною мірою залежать від характеристики уваги. Чим більша сталість, обсяг, розподілюваність і<br />
концентрація уваги, тим яскравішим буде творчий потенціал фахівця. З пам’яттю пов’язаний процес запам’ятовування,<br />
зберігання і відтворення інформації. Продуктивність пам’яті характеризується обсягом та швидкістю запам’ятовування<br />
матеріалу, тривалістю його зберігання, готовністю до відтворення і точністю.<br />
В науковій літературі має місце ще одне припущення, згідно з яким творчість є механізмом розвитку особистості.<br />
Такий підхід до розкриття суті творчості дозволив відійти від розуміння творчості як виду діяльності й розглянути<br />
процес творчості як форму реалізації механізму розвитку. Такий механізм був запропонований Я. Пономарьовим [11,<br />
с. 263–265]. Він являє собою послідовність етапів розвитку особистості, які перетворюються в структурні рівні її<br />
організації й у майбутньому стають основою для подальшої продуктивної діяльності, визначають рівні готовності до<br />
творчої діяльності. Вченим він представлений наступним чином (подається згідно оригіналу):<br />
1) формування потреби у нових знаннях, створенні нового, такого, що не було в особистому досвіді людини (вона формується<br />
тільки при наявності відповідних рівнів організації структури особистості);<br />
2)пошуки засобів задоволення потреби, напружена інтелектуальна діяльність, спроби використати відоме для створення нового<br />
(вимагають відповідного базального рівня знань);<br />
3)використання знайдених на базальному рівні засобів у нових формах діяльності, при цьому відбувається рекомбінація<br />
попереднього досвіду особистості з надсвідомим, у процесі якої здійснюється якісний стрибок, формується новоутворення, яке в<br />
змозі задовольнити потребу.<br />
Проведений нами методологічний та історико-теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури дозволив чітко сформулювати<br />
ознаки творчої особистості:<br />
творча спрямованість;<br />
висока мотивація досягнень;<br />
розвинений інтелект (IQ > 120);<br />
сформовані творчі здібності: серед яких головними є: дивергентність мислення, його гнучкість, швидкість, самостійність<br />
мислення; готовність пам’яті, здатність бачити проблему, кмітливість, висока пізнавальна активність, швидкість і точність виконання<br />
розумових дій, стійкість уваги, оперативна пам’ять, сформованість логічного мислення, багатство активного словника, швидкість і<br />
оригінальність вербальних асоціацій, установка на творче виконання завдань, усвідомлення моменту істини. Також розвинена<br />
інтуїція, фантазія, багатство уяви;<br />
сформовані вміння: здійснювати ретельний аналіз завдання; усвідомлювати момент розуміння вимог завдання, поціновувати<br />
свої можливості для його розв’язання; самостійно планувати основу наступних дій; будувати образ „майбутнього” як цілі діяльності;<br />
відстоювати, обґрунтовувати свою думку, позицію;<br />
сформовані особистісні властивості: самостійність; активність, наполегливість, незалежність суджень; уміння приймати рішення<br />
і нести відповідальність; висока працездатність; здатність до ризику; вироблений творчий стиль діяльності.<br />
Це дало можливість на основі розуміння механізмів розвитку творчості теоретично здійснити педагогічне проектування творчої<br />
особистості.<br />
Використання методу педагогічного проектування творчої особистості передбачає послідовність дій викладача. На підставі<br />
наукового аналізу результатів педагогічної діагностики встановлюється актуальний рівень розвитку особистості (сформованість<br />
особистісних властивостей, інтелекту, сфери пізнавальних і творчих здібностей). Виявляються найбільш імовірні тенденції розвитку<br />
в системі відносин особистості з навколишньою дійсністю, обираються основні, найбільш визначальні на етапі досягнення рівня<br />
зони найближчого розвитку. Проектується зона найближчого розвитку з урахуванням можливостей стимуляції майбутніх станів<br />
(майбутніх досягнень). Досліджуються суперечності, виявлені в процесі діагностики, що можуть бути рушійними силами<br />
подальшого розвитку. Обираються механізми, проектуються найбільш доцільні і перспективні методи і способи організації навчально-пізнавальної<br />
взаємодії. Здійснюється допомога у розробці адекватних індивідуальних програм саморозвитку творчої<br />
особистості.<br />
Формуючи творчу особистість в умовах ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, на нашу думку, слід відмовитися від практики вдосконалення<br />
технологій розвитку суто формально-інтелектуальних умінь і підійти до розв’язання проблеми комплексно з використанням си-<br />
96
стемно-структурного підходу. Головну увагу доречно звернути на навички самопроектування та саморозвитоку творчої спрямованості<br />
особистості студентів, формування творчого стилю діяльності.<br />
Для цього необхідні:<br />
– цілеспрямоване вивчення особистості та виявлення її потенційних можливостей, здібностей, необхідних для<br />
творчої діяльності;<br />
– вивчення особливостей впливу організованого навчання і виховання на розвиток цілісної структури особистості, її творчих<br />
якостей;<br />
– вивчення динаміки розвитку творчого мислення як основної психологічної ланки творчої діяльності;<br />
– визначення оптимальних умов формування готовності до творчої діяльності;<br />
– вироблення навичок рефлексії, проектування наступних навчальних досягнень;<br />
– врахування особливостей розвитку механізмів творчої діяльності.<br />
Треба також здійснити педагогічне проектування і організацію змісту навчання і виховання відповідно до мети розвитку інтелектуальних<br />
здібностей, пізнавальних можливостей, творчих здібностей студентів, серед яких найбільш значущими є:<br />
– здібність до бачення і розуміння проблеми, готовність пам’яті, здібність до побудови плану наступних дій, узагальнення,<br />
широкого перенесення, гнучкість, швидкість, дискурсивність мислення, творча уява, дар передбачення, інтуїція;<br />
– формування цілісної структури особистості, наголосивши на таких вольових якостях: самостійність, настирність, працелюбність,<br />
рішучість, уміння приймати рішення і нести відповідальність за них, стійкість, неприйняття групового тиску, здатність до ризику,<br />
ініціативність.<br />
Особливу увагу слід приділити добору засобів, методів і форм організації навчально-пізнавальної діяльності фахівців,<br />
формуванню мотиваційних аспектів їхньої діяльності. Адже в процесі регульованої взаємодії формується структура особистості,<br />
рівні її організації, які зумовлюють здатність до творчості.<br />
Підсумовуючи можна зробити такі висновки:<br />
Модель творчої особистості постійно вдосконалюється і розвивається, набуває цілісності, комплексності. В ній виокремлюються<br />
творчі здібності як потенційні можливості людини до саморозвитку. Оскільки найважливішим компонентом творчої спрямованості<br />
студента є орієнтація його на саморозвиток, а рушійною силою останнього слугує система усвідомлених особистістю суперечностей<br />
у навчальній діяльності, спілкуванні тощо, тому необхідно створювати у навчальному процесі такі ситуації, в яких би могли<br />
виявляти ці суперечності. Невідповідність власних ціннісних орієнтацій вимогам професійної і суспільної діяльності фахівець<br />
може виявити тільки на основі самопізнання.<br />
Найбільш ефективним з точки зору становлення творчої спрямованості особистості є такий характер взаємодії „викладач –<br />
студент” як співробітництво.<br />
Звідси випливає необхідність не просто допомагати у навчанні, а й коригувати стиль діяльності у навчальному процесі,<br />
спонукати до усвідомлення навчальних і життєвих цілей, виявлення своїх можливостей, здібностей, стимулювати до саморозвитку.<br />
Для цього необхідно в системі цілей навчання передбачати формування позитивного самосприйняття особистості студента,<br />
підвищення рівня його самооцінки, стимулювання процесів самоствердження, у тому числі через поліпшення соціального статусу<br />
особистості в студентському колективі.<br />
Ці, найбільш загальні висновки, що витікають із змістовного аналізу природи і механізмів творчої діяльності, нами будуть<br />
втілюватися в конкретній технології навчально-виховного процесу.<br />
Література:<br />
1. Амосов Н. М. Алгоритмы разума / Н. М. Амосов. – К. : Наукова думка, 1979. – 221 с.<br />
2. Блох М. А. Творчество в науке и технике / М. А. Блох. – Пг., 1920. – 65 с.<br />
3. Выготский Л. С. Педагогическая психология / Л. С. Выготский. – М. : Педагогика, 1991. – 480 с.<br />
4. Гільбух Ю. З. Розумово обдарована дитина: Психологія, діагностика, педагогіка / Ю. З. Гільбух. – К. : РОВ<br />
„Укрвузполітграф”, 1992. – 84 с.<br />
5. Горностай П. П. Личность и время: творчество как переживание / П. П. Горностай // Психодрама и современная психотерапия.<br />
– 2003. – № 4 (5). – С. 18–26.<br />
6. Грузенберг С. О. Психология творчества / С. О. Грузенберг. – Минск : Белтрестпечать, 1923. – 138 с.<br />
7. Дружинин В. Н. Психология общих способностей : учебное пособие / В. Н. Дружинин. – [3-е изд.]. – СПб. : Питер, 2000. – 368<br />
с. – (Серия „Мастера психологии”)<br />
8. Клименко В. В. Как воспитать вундеркинда / В. В. Клименко. – Харьков : Фолио, 1996. – 463 с.<br />
9. Моляко В. А. Творческая одаренность детей : методические рекомендации / Моляко В. А., Кульчицкая Е. И., Литвинова Н. И.<br />
– К. : Знание, 1991. – 29 с.<br />
10. Новий тлумачний словник української мови у 3-ох томах / [уклад. В. Яременко, О. Сліпушко]. – К. : Аконіт,<br />
2005. – т. 3. – 864 с.<br />
11. Пономарев Я. А. Психология творчества и педагогика / Я. А. Пономарев. – М. : Педагогика, 1976. – 280 с., с. 223–226];<br />
12. Посталюк Н. Ю. Творческий стиль деятельности: педагогический аспект / Н. Ю. Посталюк. – Казань : КУ, 1989. – 205 с.<br />
13. Роменець В. А. Психологія творчості : [навч. посібник для студ. вищих навч. закладів] / В. А. Роменець. – [2-ге вид.]. – К. :<br />
Либідь, 2001. – 288 с.<br />
14. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – СПб. : Питер, 2000. – 720 с. – (Серия<br />
„Мастера психологии”).<br />
15. Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – М. : Педагогика, 1973. – 424 с.<br />
16. Теплов Б. М. Проблемы индивидуальных различий / Б. М. Теплов. – М. : Педагогика, 1961. – 535 с.<br />
17. Чудновский В. Э. Актуальне проблемы способностей / В. Э. Чудновский // Вопросы психологии. – 1986. – № 3. – С. 87–95.<br />
18. Чудновский В. Э. Воспитание способностей и формирование личности / В. Э. Чудновский. – М. : Знание, 1986. – 79 с.<br />
19. Энгельмейер П. К. Теория творчества / П. К. Энгельмейер. – СПб., 1910. – 208 с.<br />
20. Якобсон П. М. Процесс творческой работы изобретателя / П. М. Якобсон. – М., 1934. – 135 с.<br />
21. Gulford J.P. Creativity // American Psychologist, 1950. – V. 5. – P. 444–454.<br />
22. Torrance E. P. The nature of creativity as manifest in its testing. The blazing drive. The creative personality. – Buffolo,<br />
NY : Bearly Limited, 1987. – 98 p.<br />
97<br />
Pedagogical sciences<br />
Pedagogical sciences - оpen disciplinary section
Pedagogical sciences<br />
УДК 771(075)<br />
ЧТО НЕОБХОДИМО ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ ДЛЯ УСПЕШНОГО ПОДЪЕМА УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ (ЧАСТЬ 2)<br />
Травников Е.Н., канд. техн. наук, доцент<br />
Киевский политехнический институт, Украина<br />
Участник конференции<br />
«В преподавании лекций демонстрация,<br />
Это теории хорошая идентификация»<br />
ЕНИТ. Конструктор.<br />
В статье рассматривается улучшение преподавания многих предметов, теории лекций с использованием как известных<br />
наглядных пособий, так и созданных самостоятельно студентами – планшетами, плакатами и др. Это поднимает уровень<br />
успеваемости и расширяет научно-технический диапазон читаемых дисциплин.<br />
Ключевые слова: Лекция, демонстрация опытов, поднятие успеваемости, расширение диапазона знаний.<br />
Keywords : Lecture, demonstration experiments, raising uspevemosti, expanding the range of knowledge<br />
Автор продолжает поднятую тему «Что необходимо высшей школе для успешного подъема уровня образования», опубликованной<br />
в статье от 24-28 ноября 2011г. стр.140-142, за которую получил диплом (1).<br />
Так в творческой жизни автора получилось, что он с поднятой темой столкнулся в далекой юности, работая ещё в КВИАВУ<br />
(Киевское высшее инженерно-авиационное военное училище) ВВС на кафедре физики (1957-1960 годы) в должности зав.отделением<br />
старшим лабовождались всевозможными демонстрациями, автор по заданию зав. кафедрой ДФМН профессор Потапенко И.Р.<br />
начал изготовлять (покупных тогда не было) самостоятельно макеты по курсу физики (механика, электромагнетизм, оптика,<br />
теплота и др.) . Профессора читали лекции , а автор демонстрировал слушателям (военные студенты-рядовые и офицеры) где надо<br />
было различные эксперименты (опыты). Один из примеров демонстрационных макетов приведен на рис.1, где показывалось взаимодействие<br />
различной формы электропроводников (плоских и круглых), создающих вокруг себя магнитной поле. Таким образом,<br />
ко всем лекциям по читаемому курсу физики, автор изготовил множество демонстрационных макетов и за ряд из них (25) защитил<br />
как рацпредложения и получил вознаграждения (по 150-250 руб. за каждый), см. рис.2. Автор тогда был студентом вечернего<br />
факультета КПИ второго курса.<br />
Pedagogical sciences - оpen disciplinary section<br />
98
Pedagogical sciences<br />
Кроме того, организацией «Учтехприбор» СССР было создано множество учебных узкопленочных (16мм) кинофильмов по<br />
механике, станкостроению, автомобилям, электротехнике и другим направлениям, которые можно было получить на прокат (до<br />
семи дней) для демонстрации в заинтересованных организациях и ВУЗах. По демонстрационным макетам была выпущена в<br />
КВИАВУ ВВС профессором И.И. Биленко небольшая книга с фотографиями, но автора всех макетов не было упомянуто. Это был<br />
первая дискреминация генератора, тем более они все были защищены рацпредложениями (свидетельствами).<br />
Автору, как бывшему киномеханику второй категории (см. рис.3), зав. кафедрой поручил возглавить и демонстрацию учебных<br />
кинофильмов по физике на его кафедре. Прокат кинофильмом тогда стоит гроши, училище это оплачивало, построили в большом<br />
лекционном зале кинобудку и автор расширил демонстрационную часть читаемых лекций и за все неординарные заслуги о нем<br />
была статья и фотография, опубликованная в газете «За нашу Советскую Родину», №1 от 1 сентября 1959г (2) и фото которой<br />
опубликовано в материалах ХVII международной конференции (Лондон, январь 19-23.2012 г., стр.151), Одесса-Киев.<br />
Перейдя в 1960 г. на работу в п/я231 (потом открытое с 1966 г. название НИИ электромеханических приборов) и проработав там<br />
конструктором свыше 30 лет, автору, как ответственному за техническую учебу в конструкторском отделении (общественная<br />
нагрузка)пришлось опять вспомнить свою первую в жизни работу киномеханика и продолжить демонстрирование учебных<br />
узкопленочных кинофильмов на приобретенной киноустановке «Украина-6».<br />
Возврат к демонстрационной части на более высоком уровне произошла после развала Союза, когда автор, имея диплом канд.<br />
технических наук перешел на работу на кафедру «Звукотехника и регистрация информации» (ЗТ и РИ) КПИ в качестве доцента.<br />
Теперь мне самому пришлось читать лекции, проводить практические занятия и др. Читаемым мною курсов было пять:<br />
«Материаловедение в технике регистрации информации (ТРИ), «Прикладная механика в ТРИ», «Движущие механизмы ТРИ»,<br />
«Запись и воспроизведение изображений в ТРИ» и «Конструирование и технология производства ТРИ». По этим мною и<br />
студентами 2-4 курсов были созданы (нет подобных) демонстрационные планшеты и плакаты по 20 штук по каждому курсу.<br />
Pedagogical sciences - оpen disciplinary section<br />
99
Pedagogical sciences<br />
Демонстрационные планшеты представляют собой (рис.4) лист оргстекла (бесцветного, но лучше и красивее из цветногожелтого,<br />
синего, зеленого и др.) толщиной 5-10мм и размерами с стандартный лист бумаги 420х210 мм (А3) (рис.4,а) или<br />
увеличенного (рис.4,б) с двумя боковыми стенками, которые крепятся к основному деревянными уголками<br />
Pedagogical sciences - оpen disciplinary section<br />
В первом варианте (рис.4,а) лист оргстекла устанавливается вертикально в пазах двух опорных деревянных брусков и устойчиво<br />
располагается на столе перед партами.<br />
100
Pedagogical sciences<br />
На листе оргстекла размещаются вверху бумажные наклейки (лучше на клее «Глобус») с названием курса названия лекции и<br />
номера читаемой по учебной программе лекции. По всем местам листа оргстекла размещаются узлы и детали от механизмов и<br />
приборов по теме лекции. Внизу слева имеется надпись «ФИО преподавателя», а справа - «ФИО студента, его группа, время<br />
изготовления». Такое же построение увеличенного планшета, но на нем можно расположить больше узлов и деталей, а кроме того<br />
он не имеет опорных брусков за счет того, что боковые части расположены под углом к основному листу под углом 30- 450 и<br />
поэтому боковые части хорошо фиксируют планшет в вертикальном положении. Демонстрационные планшеты по некоторым<br />
темам приведены на рис. 5, 6, 7, 8. Лет пять тому назад демонстрационные плакаты автора заинтересовали Киевское телевидение ,<br />
снимало их и показывало их в тот же вечер, коллеги мои рассказывали, но я не видел, так как прежний зав. кафедрой меня почемуто<br />
не пригласил, хотя все координаты мои у него имелись, таким образом генератор этих новаций был мягко говоря устранен от популяризации<br />
своих идей, пусть это будет у его (В.Г.Абакумова) на совести! Это второй случай, когда профессор устранил автора<br />
идей от признания его приоритета и заслуг в работе!<br />
Кроме того, автор для улучшения преподавания и потери времени на рисования на доске применил учебные демонстрационные<br />
плакаты (рис.9,10,11) (только простейшее можно рисовать), где на стандартном А1 листе ватмана рисуются различные детали,<br />
узлы, сборки и так же в верхнем правом и нижнем правом ФИО преподавателя и студента. Лист плаката сверху и снизу по<br />
горизонтали обкладываются двумя деревянными брусками толщиной 10-15мм и схватываются между собой гвоздями. На верхнем<br />
бруске укрепляется текстильный шнурок диаметром 1,5-2,5 мм. для подвеса их на доске в аудитории.<br />
К демонстрационным планшетам и плакатам полагается краткая пояснительная записка, показывающая что на них расположено<br />
и как они взаимодействуют. Это позволяет не зависимо от того, кто сейчас или позже будет вести эти курсы, освещать заложенные<br />
основателем учебные знания студентам. Такое сочетание учебных пособий и пояснительной записки отлично вписывается в оценку<br />
их как курсового проекта и засчитываться студентам.<br />
Сделанные студентами учебные демонстрационные планшеты и плакаты использовались и для практических занятий по<br />
читаемым курсам, обычно уже на следующий учебный год, кроме того, учебные планшеты можно рассмотреть на практике со всех<br />
сторон, потрогать и понять больше, чем со стороны на лекциях.<br />
Мне могут сказать, а зачем делать демонстрационные планшеты и плакаты, когда сейчас есть множество учебных дисков<br />
Pedagogical sciences - оpen disciplinary section<br />
101
Pedagogical sciences<br />
DVD?. Да, есть множество вместо учебных кинофильмов, но не по всем направлениям преподаваемых дисциплин (3). По моим<br />
курсам ничего похожего и нет. Да и я даю исходные материалы для планшетов и плакатов, а студенты изготовляют – и мне полезно,<br />
сам я никогда такую работу не охвачу, а они получат зачеты, больше разберутся, занимаясь изготовлением. Взаимная польза. Кроме<br />
того, автор в развитие улучшения преподавания написал с помощью студентов электронные варианты всех своих читаемых пяти<br />
курсов (рис.12), имеются на кафедре их распечатки и оптические диски.<br />
В начале чтения курса я выдаю студентам диск, они его копируют и потом на каждую лекцию приносят сокращенную лекцию<br />
и слушая меня, заглядывают в свои распечатки, не занимаясь чистописанием конспектов. На практических занятиях я тоже<br />
приношу им распечатки механизмов и узлов, они их снимают на ксероксе (в любом ВУЗе они есть) и наклеивают в тетради для<br />
практики, а на самой практике смотрят, трогают и изучают то, что у них уже будет потом в тетради. Так выполняется преподавание<br />
в США в ведущих вузах, одноклассник моей дочери выиграл грант, там занимается и рассказал об этом.<br />
Выводы:<br />
1. Каждый преподаватель ВУЗа может для своего направления создать ряд демонстрационных планшетов и плакатов,<br />
электронных курсов ,если нет по ним литературы и улучшать процесс познания студентами.<br />
2. Студенты с большим удовольствием занимались тем, что я им давал, больше вникая и разбираясь при изготовлении и получая<br />
за это зачеты (экзамены).<br />
3. Пока не вижу из практики более эффективного поднятия уровня преподавания читаемых дисциплин.<br />
4. Необходимо всегда стремиться внести что-то лучшее (не только в преподавании), несмотря на негативное отношение<br />
недалеких руководителей «Против таланта мысли яркой стоят неравно, шепот восхищения и зависть отчуждения!», которые на себе<br />
автор в творческой жизни ощутил и привел несколько примеров здесь.<br />
Литература:<br />
1. Травников Е.Н. Что необходимо высшей школе для успешного подъема уровня образования. Materials digest of X1V th<br />
International Scientific and Practical Conference. Kiev-London. November 24-28/ 2011.стр. 140-143.<br />
2. Перышкин О.В.,Родина Н.О. Физика для 8 класса средней школы. К. «Радянська школа», 1990г.<br />
3. Аннотированный каталог учебных видеофильмов. Киевский национальный университет технологий и дизайна (КНУТД).<br />
Учебные видеофильмы. Http/www.ru.knutd.com/ua/students/educating video.<br />
4. Газета «За нашу Советскую Родину», №1, сентябрь, 1959 г. стр.1,2.<br />
Open specialized section<br />
102
PHILOLOGICAL SCIENCES<br />
О НЕКОТОРЫХ АНТРОПОМОРФИЧЕСКИХ МЕТАФОРАХ<br />
(на материале русского, азербайджанского и английского языков)<br />
Магеррамова С.А., д-р филол. наук, проф.<br />
Бакинский Государственный Университет, Азербайджан<br />
Участник конференции<br />
В статье на основе материала русского, азербайджанского и английского языков анализируются антропоморфические<br />
метафоры (перенос названий частей человеческого тела – соматонимов – на неодушевлённые предметы), являющиеся<br />
семантическими универсалиями и составляющими древнейшее ядро лексики. Сравнительное исследование этих<br />
метафор показывает, что в разных языках большинство таких слов имеет одинаковые внутренние формы.<br />
Отмечается также, что в разносистемных языках встречаются специфические показатели производной номинации.<br />
Русским и английским конструкциям с формой родительного падежа посессора (ножка стола) (the face of the watch)<br />
в азербайджанском языке соответствует изафет с обязательной препозицией посессора и аффиксом принадлежности<br />
третьему лицу (dağın döşü «букв. горы грудь» - склон горы и т.д.)<br />
Ключевые слова: антропоморфические метафоры, соматонимы, тело, универсалии, номинация<br />
The article deals with anthropomorphic metaphors – names of the parts of human body (somatonyms) that are transfered on inanimate<br />
subjects – on the material of the Russian, Azerbaijanian and English languages. Such metaphors are semantic universals and form the most<br />
ancient core of vocabulary. Comparative research of these metaphors shows that most of such words have the same inherent form. It is<br />
emphasized that there are different indicators of derivative nomination in the different system languages. Russian an English constructions<br />
with Possessive Case (the leg of the table, the face of the watch) correspond to izafet constructions in the Azerbaijanian language (mountain’s<br />
breast «mountainside» etc.).<br />
Keywords: anthropomorphic metaphors, somatonyms, body, universals, nomination<br />
В последнее время наблюдается повышенный интерес к антропоцентрическому направлению в лингвистике, которое акцентирует<br />
внимание на системном изучении человеческого фактора в языке. Картина мира, как основа жизнедеятельности человека,<br />
представляет собой систему знаний, образов и представлений о мире, «она определяет жизненные принципы людей и их<br />
ценностные ориентации, задает нормы поведения. Картина мира находит отражение в языке, формируя языковую картину мира» [1,<br />
230].<br />
Каждый народ по-своему расчленяет многообразие мира и называет его фрагменты. Своеобразие конструируемой картины<br />
мира определяется тем, что «в ней опредмечивается индивидуальный, групповой и национальный (этнический) вербальный и невербальный<br />
опыт» [5, 6].<br />
При антропоцентрическом подходе к изучению языка в центре внимания оказывается язык не сам по себе, а сквозь призму человеческого<br />
восприятия. Как верно отмечает В. фон Гумбольдт, «язык – знаковая система, непосредственно отражающая<br />
национально – культурное понимание окружающего мира отдельным народом, а также оказывающая непосредственное влияние на<br />
поведение и деятельность представителей отдельных народов» [3, 6].<br />
В этом плане большой интерес представляют антропоморфические метафоры, являющиеся семантическими универсалиями.<br />
Семантические универсалии могут быть диахроническими и синхроническими. В разных языках наблюдается<br />
тенденция к метафорическому переносу значений слов. Одной из таких тенденций и является антропоцентрическая<br />
метафора, т.е. перенос названий частей человеческого тела (соматонимов), а также названий человеческих чувств и<br />
страстей на неодушевленные предметы, ср.: в русском языке: игольное ушко, горлышко бутылки; в азербайджанском<br />
языке: dağ döşü – букв. грудь горы – склон горы, ağacın başı – букв. голова дерева-верхушка дерева; в английском<br />
языке: the heart of the city – букв. сердце города – центр города и др.<br />
Известно, что во всех языках, в том числе и в русском, азербайджанском, английском названия частей человеческого<br />
тела – соматонимы – составляют древнейшее ядро лексики. Их своеобразие неоднократно выделялось в лингвистической<br />
литературе [4, 7]. В первую очередь они вызывали большой интерес как классические примеры семантических<br />
сдвигов. Весьма интересную мысль по поводу исследования соматической лексики на материале неродственных<br />
языков высказал Е.М.Сендровиц: «При сравнении образной стороны названий частей человеческого тела в неродственных<br />
языках обнаруживаем, что большинство таких слов имеет в отдельных языках одинаковые внутренние формы.<br />
Группировка языков с указанной точки зрения носит произвольный характер, причём по отношению к разным частям<br />
тела могут объединяться в данном плане разные языке» [6, 13].<br />
С этой точки зрения, русский, азербайджанский и английский языки могут предоставить весьма интересный материал для исследования.<br />
Казалось бы нет более конкретных слов, чем названия частей человеческого тела, однако детальное определение их<br />
смысловой структуры показывает, насколько сложно организовано их смысловое содержание.<br />
Как справедливо отмечает В.Г.Гак, «метафора и метонимия универсальны в том смысле, что они наблюдаются во всех языках…<br />
Но их универсальность не значит, что они совершенно одинаково проявляют себя в разных языках» [2, 113].<br />
Действительно, слова с одним и тем же семантическим ядром могут обладать различными переносными значениями. С другой<br />
же стороны, в ономасиологическом аспекте одно и то же понятие может иметь в одном языке прямое наименования а в другом – метафорическое<br />
/ метонимическое. Кроме того, удельный вес метафорических образований в разных языках может быть различен. В<br />
разных языках может наблюдаться и разная степень стёртости однотипных переносных значений.<br />
Как известно, в основе метафоры лежит сравнение. Человек может сравнивать неизвестное с известным, и в этом проявляется<br />
его отношение к объективной реальности. Испокон веков метафоризации подвергались прежде всего слова, обозначающие<br />
наиболее известные понятия и предметы из ближайшего окружения человека.<br />
«Первобытный человек не мог полностью разграничивать объект и субъект. В его представлении внешний мир и его «я»<br />
составляли одно целое. Он как бы «очеловечивал» природу, наделяя предметы окружающего мира человеческими свойствами и<br />
качествами. Это и обусловило создание метафор типа dağın döşü (букв. грудь горы), bulağın gözü (букв. глаз родника), qayanın ayağı<br />
(букв. нога скалы), dərənin ağzı (букв. рот ущелья) и др.» [8, 152].<br />
Как уже указывалось выше, в разных языках наблюдается тенденция к метафорическому переносу значений слов, и эти<br />
переходы значений подчиняются общим тенденциям. Одной из таких тенденций и являются антропоморфические метафоры.<br />
Поскольку в рамках одной статьи рассмотреть все примеры невозможно, приведем лишь некоторые из них.<br />
103<br />
Comparative and historical, typological and correlative linguistics
Philological sciences<br />
1. Голова – baş - head<br />
в русском языке: в уменьшительно-ласкательной форме: головка сыру, головка чеснока, головка винта, маковая головка;<br />
голова поезда и др.<br />
в азербайджанском языке: dağın başı «вершина горы», ağacın başı «верхушка дерева», tarlanın başı «начало поля», bulağın başı<br />
«исток родника», çayın başı «верховье реки» и др.<br />
в английском языке: the head of cabbage «кочан капусты», the head of the flower «головка цветка», the head of the mountain<br />
«вершина горы», the head of the river «исток реки», the head of the nail «шляпка гвоздя» и др.<br />
Как видно из примеров, во всех трёх языках метафоры обозначают понятия «верх;передняя часть; что-либо, напоминающее по<br />
форме голову». В азербайджанском языке в последнем значении употребляется соматоним kəllə «череп, голова». Ср.: iki kəllə<br />
pendir – две головки сыру; Bir kəllə qənd – головка сахару. Кроме того, в азербайджанском языке слово kəllə употребляется также в<br />
значении «верхняя часть, верхушка, макушка чего-либо: divarın kəlləsi» - верхняя часть стенны» и др.<br />
2. Нога – ayaq – foot<br />
Во всех трёх языках: опора, нижний конец (мебели, утвари, механизмов), стойка; основание, опора: ножка стула /стола/ кровати<br />
– masanın ayağı – the foot of the chair /table/ bed; at the foot of the bed «в ногах кровати».<br />
ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОПОЗИЦИОНАЛЬНО-ФРЕЙМОВЫЙ СЛОВАРЬ:<br />
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ, ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СЛОВАРНЫХ СТАТЕЙ,<br />
ПРАГМАТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ<br />
Араева Л. А., д-р филол. наук, проф.<br />
Кемеровский государственный университет, Россия<br />
Участник конференции,<br />
Национального первенства по научной аналитике,<br />
Открытого Европейско-Азиатского первенства по научной аналитике<br />
В статье представлено понимание естественной категоризации мира, находящееся в основе создания электронного пропозиционально-фреймового<br />
многоязычного словаря; представлены на примере взаимосвязанных фреймов ассоциативные связи,<br />
производимые обыденным сознанием жителей Придонья; представлена практическая значимость словаря для пользователей.<br />
Ключевые слова: логическая категория, естественная категория, фрейм, пропозициональная структура, пропозиция.<br />
Understanding of the natural world categorization, which is a basis for the creation of the electronic propositional-frame multilanguage<br />
dictionary is provided in the article; associative links, carried out by the ordinary people of the Don region, are presented through the example<br />
of interrelated frames; practical significance of the dictionary for users is represented.<br />
Keywords: logical category, natural category, frame, propositional structure, proposition.<br />
Comparative and historical, typological and correlative linguistics<br />
Глобализация открыла границы для сотрудничества людей разных стран. Отличительная черта ХХI века – возможности<br />
межкультурной коммуникации как на уровне делового, так и обыденного общения. Люди различных национальностей, говорящие<br />
на разных языках, характеризующиеся различными культурными ценностями, различными формами вербального и невербального<br />
этикета, в силу, прежде всего, экономической потребности, взаимодействуют между собой. Необходимость взаимопонимания<br />
обусловлена и международным туризмом. Различного рода переговоры достигают положительного результата в том случае, если<br />
люди понимают друг друга, проявляя толерантность в общении. Как представляется, толерантность – это не только и не просто<br />
терпимость к сложившимся стереотипам поведения людей разных культур, это еще и понимание стереотипов, знание которых<br />
необходимо для эффективного общения.<br />
Как выявить особенные и общие черты различных наций, как понять друг друга, что для этого необходимо сделать?<br />
Естественный ответ на данный вопрос – выучить язык. Легче всего это сделать, уехав в чужую страну, окунуться в языковую<br />
атмосферу, слышать, видеть, ощущать аромат иной жизни. А как быть, если такой возможности нет? Между тем появляются<br />
перспективы научного, делового сотрудничества. И язык необходимо выучить в достаточно короткий срок. В настоящее время в<br />
России достаточно много фирм, в которых преподается иностранный язык с использованием новых методик. Анализ этих методик<br />
выявляет, что преподавание ориентировано на изучение языка в границах определенных тем, изложенных в предельно упрощенной<br />
форме. Это тексты, в которых содержатся диалоги: вопрос и примерный ответ на поставленный вопрос; в скобках кириллицей (для<br />
русскоговорящих) написано произношение иностранного слова. Примерно таким же образом устроены и разговорники для<br />
туристов. В современных двуязычных словарях обнаруживается стремление авторов давать рядом с основным словом значительное<br />
число однокоренной лексики с указанием значений и приведением контекстов. И все-таки изучать язык с использованием<br />
имеющейся сегодня учебной и лексикографической литературы достаточно сложно и неэффективно, о чем свидетельствует выбор<br />
в настоящее время гуманитарными факультетами вузов в качестве тестов при поступлении, где есть право выбора, не иностранного<br />
языка, а истории. Негативную роль при изучении языка играют также тесты, используемые в школах в качестве подготовки к ЕГЭ.<br />
В результате школьники знают написание слов, которые далеко не всегда могут правильно произнести.<br />
Недостатком преподавания иностранного языка является то, что оно ориентировано на достаточно жесткие постулаты структурно-системной<br />
лингвистики. В настоящее время изменилась точка зрения на изучение языка. Если традиционная лингвистика<br />
взяла на вооружение основные положения своего идеолога Ф. де Соссюра, изучая только внутрисистемные связи в языке, в<br />
отвлечении от человека, то современная, антропоцентричная лингвистика выявляет особенности связи языка с мыслительной деятельностью<br />
человека. По сути дела, так рассматривался язык со времен Древней Греции, к когнитивному анализу языковых фактов<br />
лингвисты России обратились в конце 19 – начале ХХ века (А. А. Потебня, Кассирер, Бодуэн де Куртенэ, Н.В. Крушевский, Г. Г.<br />
Шпет и др.), время, которое В. И. Вернадский обозначил как третий взрыв в науке планетарного масштаба. Но, к сожалению,<br />
исследование языка в данном направлении быстро закончилось: в СССР во всех вузах и школах преподавание русского языка<br />
велось в структурно-системной парадигме, с этих же позиций он описывался учеными. Исследования языка за границей, в силу<br />
«железного занавеса», большей части русистов были неизвестны. Только в конце ХХ века лингвисты России вновь вернулись к антропоцентрическому<br />
анализу языка, анализу языка через человека. Стала актуальной фраза Потебни: язык – это человек.<br />
Не менее актуальным стало обращение к тому, как человек познает мир. В свое время Потебня (а до него Кондельяк, еще<br />
раньше – Платон в диалоге «Кратил») отметил, что, познавая мир, человек постоянно сравнивает один предмет с другим, об-<br />
104
наруживая при этом сходство либо различие познаваемых предметов. Предмет без его связи с другими, похожими или<br />
различными предметами, познать в принципе невозможно. В этом проявляется такая черта мыслительной деятельности<br />
человека, как дискурсивность, на что обратили внимание философы эллинской эпохи. Ученые в различных сферах научного<br />
знания, равно как и философы, более двух тысячелетий работали в рамках логических категорий Аристотеля, которые,<br />
несомненно, значимы как в точных науках, так и в жизненных ситуациях. Но, тем не менее, обычный человек мыслит преимущественно<br />
в рамках других категорий, о чем писали авторы Грамматики Пор-Рояля, Гумбольдт, Потебня, Выготский.<br />
Наиболее четко естественные категории научно обосновал Л. Витгенштейн [Лакофф 2004]. Человек на основании какоголибо,<br />
иногда достаточно далекого сходства, объединяет вещи в одну категорию. Данное сходство Витгенштейн обозначил<br />
как фамильное. Таким образом, слово, именующее вещь, может входить в разные категории. Например, когда человек<br />
говорит о завтраке, у него в голове связываются такие вещи, как стол, стул, кухня, вилка, нож, ложка, кофе, каша, бутерброд,<br />
стакан, чашка, бокал, кухонное полотенце и т.д. Ассоциативный ряд может быть продолжен в зависимости от того, что<br />
человек поглощает за завтракам, с помощью чего, на чем, где, в чем готовит пищу и т.д. В зависимости от употребления<br />
постоянно одного продукта выявляется ядерный элемент такой категории. Для одних это будет кофе (и все ассоциации,<br />
связанные с данным напитком), для других – чай (и соответствующие ассоциации), для третьих - бутерброд, для четвертых<br />
– каша. Таким образом, естественная категория подвижна, связана с особенностями жизнедеятельности индивидуума,<br />
члены категории соединяются между собой по принципу «фамильного сходства». Прототипичным для категории оказывается<br />
наиболее употребляемый предмет, обозначенный в языке конкретным словом. Для русского сознания завтрак ассоциируется,<br />
прежде всего, с кофе, чаем, бутербродом, кашей. Остальные члены категории вариативны. Члены данной категории могут<br />
входить в иные категории. Например, кофе может входить в категорию не только потребления, но и произрастания,<br />
изготовления, продажи данного продукта, равно как и чай. Стол, за которым завтракают, может входить в категорию мебели;<br />
вилки, ножи, чашки, стаканы, блюдца – в категорию посуды и т.д. То есть границы естественных категорий размыты. В<br />
разных языках эти категории могут наполняться разными смыслами, но принцип связи именуемых вещей для всего<br />
человечества един – пропозиционально-фреймовый. Данный подход и кладется в основу словаря нового типа.<br />
Двуязычные и имеющиеся многоязычные словари, несомненно, совершенствуются, но, тем не менее, они пока мало чем<br />
отличаются от словарей, изданных в ХХ веке. Словари – результат практического применения положений действующей в<br />
лингвистике научной парадигмы. Предлагаемый словарь построен по принципу работы мозга человека, с учетом актуализации<br />
пропозициональных структур, единых для современной цивилизации. Учет действия пропозиций в границах пропозициональных<br />
структур выявляет специфику их реализации в каждом языке, что позволяет конструктивно решать коммуникативные задачи любой<br />
сложности. С помощью данного словаря можно одновременно изучить столько языков, сколько человеку необходимо для работы в<br />
разных общественных сферах. В словаре помимо озвученных высказываний предполагается наличие видеоклипов той ситуации,<br />
которая представлена вербально. Цель видеозаписей – войти в языковую и культурную реальность, определить специфику<br />
невербальных компонентов общения.<br />
Покажем вербальную пропозиционально обусловленную связь в пределах фреймов на материале русских донских говоров на<br />
уровне обыденного сознания, с тем, чтобы наглядно представить данную связь. В качестве исходного возьмем фрейм «корова»,<br />
который есть в каждой стране. Приведем свои рассуждения. Каждый, кого заинтересует рассматриваемая проблема, может<br />
изложить анализируемый материал на своем языке (английском, китайском, французском и т.д.). Представленное описание в<br />
совокупности позволит выявить, как реализованы слова в пределах рассматриваемой категории, какими формами они выражены. В<br />
результате можно определить особенности мировидения людей разных национальностей, показать часть языковой картины мира и<br />
оформить данный материал в качестве словарных статей пропозиционально-фреймового словаря.<br />
Основным подспорьем в жизни жителей села является корова, которая дает основной продукт питания – молоко. Коров, как и<br />
других домашних животных, необходимо содержать в помещении (так же, как и остальных домашних животных); для них<br />
существуют пастбища; люди, которые ухаживают за коровами (работники, пастухи); для них готовится пища. Трудовые действия<br />
определяются временем, в течение которого работают люди с перерывом на отдых. Детеныши коров ассоциативно связаны в<br />
памяти человека с детенышами других животных. Таким образом, фреймы оказываются взаимно связанными, проявляя при этом в<br />
языке типизированный характер. По сути дела, фреймы, пересекаясь, являют собой узлы ассоциаций, позволяющие в совокупности<br />
представить оязыковленную картину мира.<br />
Наглядно изложенное выше можно представить следующим образом.<br />
Фрейм «корова»<br />
Корова по количеству молока называется молочницей. Молочница – это корова, дающая большое количество молока.<br />
Значимым является и возможность отела. Если корова не телится, ее называют холостой, жеребой; корову, которая телится<br />
часто, именуют плодовитой.<br />
Яловую корову, которая доится второй сезон, называют передойкой. Передойка не телится, а доится.<br />
Наименования действий коровы, связанных с отелом, проявляют наблюдательность жителей сел: починать – состояние коровы<br />
перед отелом; пропочинать – находиться в состоянии, непосредственно предшествующем отелу. По времени отела – летошница.<br />
Отмечены названия коров, кормящих молоком своих детенышей. Подсосая, подсоска – кормящая молоком. Корову телок<br />
сосет, она и подсосая.<br />
По степени упитанности корова, теленок (равно как и человек) называются худоба.<br />
Любая породистая скотина именуется как породная.<br />
Скотина, любящая гулять, блуждать именуется пригульной, гулевой.<br />
Старая корова называется постарелая.<br />
Имена коров по месяцу рождения: Майка, Маечка, Октябрина.<br />
Быки используются в сельскохозяйственных работах. Подручный бык=цабэ – бык в упряжке слева. Подручным быком<br />
называли того, что идет по непаханому полю, еще его цабэ называли.<br />
Фрейм «молоко»<br />
В рамках пропозициональной структуры (ПС) «результат – действие – время» реализуется пропозиция «молоко, получаемое от<br />
коровы в определенное время суток». Данная пропозиция прототипична для обыденного сознания. В результате появляются такие<br />
номинации, как: утреннее, утрешнее, утренник; обедное, обедник, обедочник, обедечник; полдневое молоко: В полдень сдоили – это<br />
полдневное молоко, вечерошное, вечернее, вечерошник.<br />
ПС «средство по внутренней характеристике» объективируется в пропозиции «молоко по степени жирности» – каймачное.<br />
Данный продукт хранят в емкости из определенного материала – порточное молоко: Для сцеживания молоко выливали в сумки.<br />
Сумки делали из портков. Туда выцеживали молоко, и портошное молоко получалось, а также в определенной посуде – кадушечное<br />
молоко.<br />
Различается молоко по способу приготовления – откидное. В сумочку откинешь, стекёть, откидное молоко<br />
105<br />
Philological sciences<br />
Comparative and historical, typological and correlative linguistics
Philological sciences<br />
Comparative and historical, typological and correlative linguistics<br />
пореже, чем творог; сбирочное молоко: Квасют, а потом в сумку откидывают и слаживают на зиму в кадушечку<br />
или в горшок, ето и сбирочное молоко. Таким образом, в сознании жителей порточное, кадушечное, откидное,<br />
сбирочное молоко – это одно и то же молоко, которое в зависимости от ситуации, цели коммуникации называется либо<br />
по способу приготовления (сбирочное, откидное), либо по месту хранения (порточное, кадушечное). Словообразовательно-пропозициональная<br />
синонимия [Араева, Катышев 2000, Араева 2009, Шумилова 2010, Фаломкина 2012], используемая<br />
в речи, позволяет в нужной ситуации выделить необходимые качества продукта. Порточное молоко – это<br />
также сюзьма, творожная масса. Из молока делают масло, которое по способу приготовления называют сколотянным<br />
маслом (масло, сделанное вручную); сбирочным маслом (из топленой сметаны). Масло изготовляют также из<br />
растений: свирепное масло – из сурепицы. Вручную делается сбирочный творог.<br />
Молоко есть и у других животных, что обусловливает такие названия, как козье, кобылье молоко, каждое из которых имеет<br />
особую ценность для человека. Используется и такое название, как гадючье молоко «сок одуванчика» (сок одуванчика по цвету<br />
напоминает молоко, по вкусу – горькое, как яд у гадюки).<br />
Пополашное молоко – смешанное с водой для продажи. Сним – молоко на сним – молоко, оставленное для снятия сливок.<br />
Названия посуды, средств для кипячение молока, изготовления масла: топленик – широкий горшок для кипячения молока;<br />
течка – желоб для сливания масла.<br />
Остатки после того, как масло изготовят, называют сколотиной. Масло собьем, сколотина остается, свиней ей кормим.<br />
Фрейм «пища для скота»<br />
Пища для скота: трушанка – смесь соломы и сена для скота; поспа – мука, заваренная кипятком. Поспой кормят<br />
маленьких телят.<br />
Фрейм «болезни коров и других животных»<br />
Болезни коров и других животных – перелоги – 1) боли в животе у животных; 2) болезнь у коров, когда перестают<br />
действовать задние ноги; подсед – болезнь желудка животного. Поножная – болезнь ног (у рогатого скота).<br />
Фрейм «детеныши коров и других животных»<br />
Название детенышей коровы входит в ряд именований детенышей животных:<br />
по взрослому животному: козельчик, куренок, курчонок – оперившийся цыпленок, соменок, лошонок;<br />
по времени рождения: летнух – поросенок; летница – теленок;<br />
по временному признаку: потёлка – телка от 1 года до 2 лет; зеленая телка;<br />
по посуде, в которой готовится мясо детеныша – сковородничек – поросенок;<br />
по призывным словам: цуник, цуцок – щенок; теля-теля – теленок;<br />
по размерам: малюн – ягненок;<br />
по внешнему виду: куцынёнок – щенок;<br />
по сходству с формой какого-либо предмета: шарёнок, кубёнок - щенок;<br />
по сходству с другим животным: волчок – бычок, тюлень – бычок на втором году жизни; курушата – индюшата;<br />
по характеру: бешеная тёлка;<br />
по издаваемым звукам – пискляк, писклок – цыпленок. Пискляк все орет – исть хочет.<br />
Фрейм «призывы животных»<br />
В донских говорах отмечен ряд слов, с помощью которых призывают либо отгоняют животных.<br />
Подзывают животных:<br />
кось-кось – для лошадей;<br />
козя-козя, кызя-кызя – для коз;<br />
кеть-кеть, кытя-кытя, веч-веч – для овец;<br />
кузю-кузю – для поросят;<br />
кега-кега – для гусей;<br />
Отгоняют животных:<br />
кизи-кизи, кызы-кызы, кизь-кизь, кырь-кырь, кыть-кыть – для коз и овец;<br />
цобе-цобе – для быков – налево;<br />
цоп-цоп – для быков – направо.<br />
Фрейм «пастухи»<br />
Пастухи именуются:<br />
по объекту пастьбы: скотинячий, овечный, овчарух, овчарник, бычатник; кайдальник (кайдал – стадо на откорм);<br />
месту: отводчик (отвод – место, где пасутся казённые лошади);<br />
действию: погоныч, погонеч, погоныш;<br />
Орудие пастуха: подсекальник – кнут.<br />
Действие: попас – пастьба. Пастуху за попас кто деньгами платил, кто зерном.<br />
Фрейм «работники, ухаживающие за животными»<br />
Работники, ухаживающие за животными, представлены номинациями: индюшатница, воловница – скотница,<br />
валовник, овчарка.<br />
Фрейм «помещение для животных и других нужд»<br />
Отмечена группа помещений как для животных, так и для других нужд жителей сел:<br />
по животному, для которого предназначено помещение: курыш - курятник, свинух, свинятник, скотник, птичник,<br />
коровник, телятник;<br />
по сельхозпродуктам: сенница, соломник, мякинник, хлебник, закупной сарай – для закупаемого зерна, запасный<br />
магазин – амбар для хранения запасов общего станичного хлеба, половник-половень-половня - амбар для половы, бахчевник;<br />
по средству обогревания: угольник – для угля и дров;<br />
по сельскохозяйственному инвентарю: каретник: Закатник или каретник, туда все закатывали на зиму: косилку,<br />
веялку; возовый сарай, повозочный сарай – для повозок и с/х инвентаря;<br />
по субъекту: доярница, доярня – помещение для дойки коров в поле;<br />
по действию: закатный, вкатной, подкатной, подлетный сарай, закатник = каретник: Закатник или каретник, туда все<br />
закатывали на зиму: косилку, веялку. Подкатной сарай, подлетный сарай – трехстенный сарай или навес. В подлетный сарай<br />
можно подкатывать воз и бахчу сложить;<br />
по месту расположения: подсарай – там брички, арбы, косарки;<br />
по времени использования: зимник - теплый скотный двор и изба при нем в поле.<br />
106
Фрейм «земельные участки для выпаса скота»<br />
Немаловажное значение для жителей села имеют именования земельных участков для выпаса скота:<br />
поскотина – место отдыха скота;<br />
толока – пастбище. Толока – ето выбитая земля. На ней пасут скот, чтобы удобрить землю. Пасут 2-3 года;<br />
торовище – место для стоянки скота; место, на котором лежало животное;<br />
толочный пай – толока одного хозяина;<br />
пригул – участок земли для откорма скота;<br />
тырло – место отдыха и водопоя скота в поле;<br />
полевщина – место в поле для отдыха скота;<br />
расход – пастбище;<br />
попас – место, отведенное для временной пастьбы скота;<br />
попасная трава – трава, посеянная для скота.<br />
Фрейм «время работы и отдыха»<br />
Работа и отдых (чаще во время сельскохозяйственных работ, но в одном случае и в связи с кормлением телят, что проявляет<br />
размытость границ естественных категорий) сопряжены со временем.<br />
Одно из распространенных и видных издалека деревьев Придонья является дуб, описанный в мифах, в устном народном<br />
творчестве и художественной литературе. В анализируемых языковых формах проявляется сближение человека с природой и самодеятельного<br />
развертывания своих внутренних ощущений «в той мере, в какой его духовные силы дифференцируются, вступая<br />
между собой в разнообразные соотношения» [Гумбольдт 1984: 104], запечатлевающиеся в языкотворчестве. Время определяется<br />
жителями Дона через соотношение движения солнца по небосводу и степенью видимости солнца по соотношению с дубом,<br />
которая меняется в зависимости от положения солнца на небосклоне. В этом способе исчисления времени суток проявляется<br />
способность жителей сел определять время по природному ритму, который, прежде всего, связан с прохождением солнца по<br />
небосводу, и выделять объект, на котором отражается это прохождение. На солнце смотреть сложно, оно слепит глаза, а дуб – метка,<br />
косвенным образом указывающая на место нахождения солнца на небе. Знание времени необходимо для определения времени<br />
подъема после сна, начала и конца работы.<br />
По соотношению дуба с солнцем определяется время полдника.<br />
Время в дуб – 10-11 часов. Время в дуб, значить пора полдничать.<br />
Солнце в дуб - 1. Положение солнца над горизонтом при восходе или закате. Солнца, кода садится или взошло невысока, то<br />
говорять: солнца в дуб.2. положение солнца на небе в поддень. Солнца в дуб стала в полудня,када самая жара наступаеть днем.<br />
Одним и тем же словосочетанием солнце в дуб обозначается восход и закат (энантиосемия в пределах одного лексико-семантического<br />
варианта); этим же словосочетанием обозначается полдень. Устойчивое в донских говорах словосочетание Солнце в дуб многозначно,<br />
включает следующие лексико-семантические варианты:<br />
1. Положение солнца над горизонтом при восходе или закате. Солнца, кода садится или взошло невысока, то<br />
говорять: солнца в дуб;<br />
2. Положение солнца на небе в полдень. Солнца в дуб стала в полудня, када самая жара наступаеть днем.<br />
В многозначности устойчивого выражения проявляется многомерность семантического пространства, сопряженного с<br />
реализацией пересекающихся пропозициональных структур: субъект – действие – место; субъект – действие – время. Данные ПС<br />
актуализованы в контекстах, но формально в словосочетании солнце в дуб представлена ПС «субъект – действие (имплицитно) –<br />
объект». То есть в обыденном языковом сознании жителей Дона за явленной формой, укороченной ввиду имплицитности действия<br />
(что характерно для русского языкового сознания в целом), на уровне бессознательного имеют место указанные выше ПС, которые<br />
эксплицируются в речевом контексте. Это то потенциальное, которое всегда имеет место в языке и при необходимости реализуется<br />
в речи, направляемое жизненным опытом и пропозициями, синтезирующими жизненный опыт. Выявленное наслоение проявляет<br />
специфику ментальности описываемого этноса.<br />
Употребления одного и того же выражения даже без контекста снимает двусмысленность, если оно произнесено в определенное<br />
время (восход, закат, полдень). В данном случае срабатывает жизненный опыт, ставшие стереотипными ассоциативные связи.<br />
Достаточно в полдень сказать «солнце в дуб», чтобы люди остановили работу и пошли отдыхать. Этому способствует ситуация:<br />
жара, в которую работать трудно. Чтобы легче перенести ее, лучше отдохнуть в тени, перекусить, с тем, чтобы потом, когда жара<br />
спадет, можно было работать более продуктивно. Когда человек вспоминает событие из своей жизни или говорит о времени как о<br />
факте, то в его речи всегда есть конкретизаторы: солнце в дуб – взошло невысоко, садится; стало в полудня. ССовмещение в одном<br />
устойчивом словосочетании разных ассоциаций, связанных с прохождением солнца по небосводу, проявляет экономию речевых<br />
усилий и специфику пропозициональной связанности именуемых явлений в обыденном сознании.<br />
Жителями Дона отмечается градация восхода и заката солнца словосочетанием солнце в полдуба.<br />
Солнце в полдуба - 1. Положение солнца на восходе или закате, более близкое к горизонту, чем «в дуб». Солнца в полдуба,<br />
значить ешо невысоко поднялось; 2. Солнце на небе, близкое к положению в полдень. Уже солнца в полдуба: пора кофеек пить. То<br />
есть в полдень – время обеда, а время, близкое к полудню, – это полдник. Таким образом, солнце в дуб и солнце в полдуба<br />
различаются значимой для жителей Дона градацией восхода и захода солнца (вероятно, что солнце в полдуба – означает более<br />
низкое положение при восходе солнца и более высокое при его заходе по сравнению с выражением солнце в дуб). Солнце в дуб во<br />
втором значении означает полдень, а солнце в полдуба – время, близкое к полудню. И тогда, когда солнце в полдуба, люди<br />
полдничают, а когда солнце в дуб – обедают. То есть эти разграничения имеют прагматическую значимость.<br />
Солнце у дуба - Положение солнца, близкое к закату. И поехал бы говорить, да солнце у дуба, перед вечером уж дела.<br />
Солнце за дуб - Заход солнца. Солнца за дуб – ета солнцы заката, восемь часов; его не видна за дубом.<br />
Проявляется удивительное чувство семантики предлога: солнце в дуб (см. значение выше), солнце у дуба - это еще не закат, а<br />
время, близкое к закату (еще можно работать); солнце за дуб – закат солнца (прекращение работы).<br />
Время обозначается также по приему пищи людьми либо животными.<br />
Ранние завтраки – раннее утро, время восхода солнца<br />
Поздние завтраки – позднее утро, часов 9-10 утра. Солнышко поднималось в ранние завтраки, а потом в поздние пошло.<br />
В свининый, в свинячий полдень - В 9-10 часов утра (первоначальное время кормления свиней). Вот долго спала, в свинячьи<br />
полдни встала.<br />
Телячья пора – утреннее прохладное время. Телячье время до жары, по холодку пасется,а как чуть припечет, он<br />
сразу бегит в закуток.<br />
Телячье время – ранний вечер. Раньше в телячье время и ребята и девчата домой приходили.<br />
В полдни, в полудни, в полудень,в полуднях, в полднях – в 3-4 часа дня.<br />
Время суток определяется через соотношение солнца со временем приема пищи между работой. Если в приведенных выше<br />
107<br />
Philological sciences<br />
Comparative and historical, typological and correlative linguistics
Philological sciences<br />
Comparative and historical, typological and correlative linguistics<br />
словосочетаниях прием пищи имплицирован, то в данных ниже словосочетаниях он эксплицирован.<br />
Солнышко в завтраки – положение солнца в 7-9 часов утра. Солнышко в завтраки – это восемь часов.<br />
Солнце в завтраках. Положение солнца в 8-9 часов утра. Восемь-девять часов, солнце уж в завтриках.<br />
Солнце в полдни/ Солнце в полднях - Солнце в 3-4 часа дня. Солнца уже в полднях, часа 4 дня.<br />
Солнце с полден. Солнце после полудня. Солнце уже с полден – пора полудновать.<br />
Солнце в обедах, в обеды. О положении солнца в 12 часов дня.солнцеп в обедах,будем кушать.<br />
Солнце с обед. Положение солнца после полудня. Уже солнци с обед пошла, часа три будеть.<br />
Таким образом, определение времени через соотношение солнца с дубом и через соотношение солнца с приемом пищи в<br />
определенной мере пересекаются, образуя пропозиционально обусловленные синонимичные отношения.<br />
Отмечено несколько названий вечернего времени.<br />
Подвечерок – предвечернее время.<br />
Ранние подвечерки – 3-4 дня. Пообедали в 12 часов,а подвечерки ранние в три часа.<br />
Поздние подвечерки – 6-7 часов вечера. С обеда начнет светать – это уж ранние подвечерки, а потом – поздние подвечерки.<br />
Солнце в подвечерках, в подвечерки – положение солнца на небе после полудня. Подвечерки солнце свернули.<br />
Полдень - 12-2 часа дня.<br />
Рабочее время суток определяется также по времени работы, называемом упругом.<br />
Упруг - период, состоящий из нескольких часов сельскохозяйственных работ без перерыва.<br />
Первый упруг – первый период работы с утра до полудня. Первый упруг – ето рабочий день с 8 до 12 часов дня.<br />
Второй упруг = обеденный упруг – период работы от завтрака до обеда. Во втором упруге хорошо работали, потом обедали. Он<br />
же обеденный упруг – период работы до обеда. Утром запрягали пахать быков, до обеда пашем, упруг обеденный.<br />
Третий упруг – время работы от обеда до вечера. Я отработала уже третий упруг, темнеет уже.<br />
Упряжка = упруг:<br />
Первая упряжка – с утра до обеда;<br />
Вторая упряжка – с обеда до окончания работы.<br />
Приведенные устойчивые выражения взаимно дополняют друг друга, обозначая начало, окончание работы, перерывы на прием<br />
пищи. Синонимичные устойчивые выражения репрезентируют пропозиции, в одной из которых объективируется очередность<br />
работы, в другой – прием пищи: второй упруг = обеденный упруг; либо – время суток: третий упруг = вечерний упруг. Все вместе<br />
они создают образную языковую картину мира, связанную с временной организацией летних сельскохозяйственных работ.<br />
Закат солнца обусловливает определение времени по звездам. Одна и та же звезда в зависимости от времени суток называется<br />
вечерней либо утренней.<br />
Вечерняя звезда (зарница,заря) – Венера. Чуть солнца упадеть, она будеть видна, вечерняя звезда.<br />
Утренняя (утрешняя) звезда (зарница, заря). Сегодня я проснулся и увидел утреннюю звезду.<br />
Ночное и раннее утреннее время определяется по крику петухов (кочетов), которые, по народным поверьям, приветствуют<br />
восход солнца, а ночью своим криком отгоняют нечистую силу. Если дневное время в сознании жителей Дона соотносится с<br />
работой, то ночное время связано с гуляньем, а раннее утреннее время – с подъемом на работу.<br />
До кочетов – до глубокой ночи, до пения первых петухов.<br />
С кочетами – поздно (ложиться спать); очень рано (вставать).<br />
Перед кочетами – до рассвета, перед петухами (вставать).<br />
Первые кочета – о полночи (как факт).<br />
С первыми кочетами – в полночь (вставать).<br />
До вторых кочетов – очень долго, за полночь (прогулять).<br />
Со вторыми кочетами – очень рано, до рассвета (вставать).<br />
До третьих кочетов - до рассвета (встать до рассвета).<br />
Третьи кочета – о наступлении рассвета (идти домой).<br />
С третьими кочетами – на рассвете (вставать).<br />
Ночью время определяется по звездам. Звезды называются по сходству с прототипичными для сельских жителей предметами:<br />
Колодец – созвездие Большой Медведицы. Четыре звездочки – колодец.<br />
Повозка – созвездие Большая медведица, похожее на воз.<br />
Фрейм «цветовая гамма»<br />
Широко в донских говорах представлена цветовая гамма, в том числе и названия коров и телят по цвету:<br />
по цвету овощей – кабаковый, бурячный, капустный, тыкальныйжелтый,цвета тыквы, тыквенный;<br />
по цвету цветов – маковый;<br />
по цвету посуды – бутылочный,бутыльный;<br />
по цвету травы – заблеклый, половый – цвета половы: Половая овца кричит. Салатовая – о шали;<br />
по цвету огня - пламенный, жаровой;<br />
по цвету драгоценных металлов – золотный;<br />
по цвету неба – небесный;<br />
по цвету золы – зольный, золовый;<br />
по цвету тела – телешовый, тельный – телесный;<br />
по цвету песка - песковатый – песочного цвета. Песковатый цвет маркий;<br />
по цвету кожи коров и телят: рябчатый (о теленке) с белыми и черными пятнами; белобокенькая – о тёлушке; буренка – корова<br />
бурого цвета.<br />
Описание можно проводить дальше. Один фрейм оказывается сопряженным с другим, и так до бесконечности. Представленность<br />
материала в пропозиционально-фреймовом словаре проявляет лексику, обозначающую связанные с точки зрения человека реалии<br />
действительности. Отчасти таким образом построен Толковый словарь великорусского языка В. И. Даля. В данной статье показана<br />
ассоциативная нить пересечений, прагматически значимых для обыденного сознания. Выявляется то, что актуально для каждого<br />
русского человека, занимающегося животноводством, в частности содержанием коров: помещения, работники, корм для скота. В то<br />
же время сами лексические единицы порой оказываются специфичными. Например, временной цикл суток, сложившийся в<br />
языковом сознании жителей Дона, являет собой целостный, упорядоченный фрагмент картины мира, который органично входит в<br />
состав общей картины мира описываемого этноса, высвечивает особенности его жизненного уклада, укоренившиеся стереотипы.<br />
Резюме<br />
Научные конференции в России с приглашением иностранных ученых, поездки российских ученых за границу, участие<br />
бизнесменов в международных экономических проектах, создание единого образовательного пространства в рамках Болонского<br />
108
соглашения между странами Евросоюза обусловливают необходимость владения в современном мире несколькими языками.<br />
Когнитивная лингвистика, учитывающая особенности работы мозга и реализацию этих процессов в языке, дает возможность<br />
более естественного изучения различных языков. Мир познается человеком посредством языка, с помощью языка человек<br />
устанавливает связи именуемых вещей в пределах категорий, на что в свое время обратил внимание Аристотель, выделив<br />
логические категории. Однако далеко не всегда человек с обыденным сознанием познает мир посредством логических категорий.<br />
Как отмечал А. А. Потебня, человеку свойственно в большей мере ассоциативное мышление, или, используя терминологию Э. де<br />
Боно, - латеральное.<br />
В. фон Гумбольдт, задолго до Л. Витгенштейна, обратил внимание на то, что в языках (не только древних, но и в современных)<br />
слова объединяются говорящими в единую категорию на основе какого-либо одного общего признака, который значительно позже<br />
Витгенштейн назвал «фамильным», а сами категории – естественными, характерными для обыденного сознания.<br />
В основе любого языка находятся одни и те же пропозициональные структуры. Являясь едиными для всего человечества, они,<br />
проявляя дискурсивность мышления, оказываются в плену той языковой системы, в которой реализуются в виде пропозиций. Как<br />
правило, фреймы имеют радиальный характер связи пропозиций, что является свидетельством латерального, творческого,<br />
ассоциативного мышления, именуемого явления бытия по принципу «фамильного сходства» с известными ранее явлениями, то<br />
есть с опорой на жизненный опыт. Таким образом, можно констатировать, что познание мира осуществляется на основе<br />
естественной языковой категоризации мира, которая, по Лакоффу, аналогична когнитивной естественной категоризации, научно обоснованной<br />
Л. Витгенштейном.<br />
Категории характеризуются полевым устройством, имеют размытые границы, что обусловливает их пересечение с другими категориями,<br />
существующими в языке.<br />
Идея такого словаря основывается на уже имеющихся ассоциативных словарях, изданных в разное время А. А. Леонтьевым и<br />
Ю. Н. Карауловым. Но эти словари, имея научную значимость, непонятны обычному пользователю.<br />
Предлагаемый словарь ориентирован на обычного потребителя, желающего знать другой язык. Каким образом должен быть<br />
устроен этот словарь? Выделяется фрейм и все метонимические, метафорические пропозициональные ассоциации, которые его репрезентируют.<br />
Например: корова – место содержания – пастбище – корм – время кормления, дойки - работники – молоко – детеныши –<br />
продукты из молока и мяса коровы и т.п.<br />
Каждое слово снабжено меткой, нажатие на которую позволяет прочесть (со звуковым оформлением фраз) все, что касается той<br />
или иной ассоциации. Человек, изучающий язык, может посмотреть, как именуются, например, детеныши других животных, какие<br />
поведенческие особенности этих животных выделяются в том или ином языке и т.п.<br />
Фреймы сопровождаются видеопоказом описываемых фрагментов действительности с целью использования визуальных возможностей<br />
человека, изучающего язык, и видения им невербальных компонентов, которые применяются в речевой ситуации<br />
людьми разных стран.<br />
Достоинство такого словаря в том, что в нем используются механизмы познания мира, свойственные представителям<br />
современной цивилизации. Сравнение дает возможность видения общих и дифференциальных фонетических, лексических, грамматических<br />
реализаций в каждом из языков.<br />
В силу того, что данный словарь является электронным, он может пополняться новыми, актуальными концептами с реализацией<br />
их концептосферы.<br />
Связанные между собой фреймы представлены в виде кругов с названиями фреймов, в каждом из которых заложена<br />
информация на разных языках, которая извлекается нажатием курсора<br />
Работы для исследователей много. Приглашаю к сотрудничеству любого, кого заинтересовала идея создания нового типа<br />
словаря в электронной версии, который окажет неоценимую помощь в межкультурной коммуникации и изучении иностранных<br />
языков..<br />
Литература:<br />
1. Араева Л. А. Словообразовательный тип. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 272с.<br />
2. Араева Л.А., Катышев П.А. Представление о годовом цикле в системе отыменных суффиксальных существительных<br />
печатный // Актуальные проблемы русистики. – Томск: Изд-во ТГУ, 2000. – С.203-208.<br />
3. Гумбольдт, В. фон. Избранные труды по языкознанию. - М.: Прогресс, 1984. – 396с.<br />
4. Лакофф Дж. Женщины, огонь и опасные вещи. М.: Языки славянской культуры, 2004. – 792 с.<br />
5. Словарь русских донских говоров. – В 3-х томах. – Ростов-на-Дону: Издательство Ростовского университета, 1976.<br />
6. Фаломкина И. П. Пропозиционально-фреймовое моделирование словообразовательной ниши с формантом –н/я/ (на материале<br />
русских народных говоров): Дисс… канд.филол.наук. – Кемерово, 2012. – 260 с.<br />
7. Шумилова А. А. Синонимия как ментально-языковая категория (на материале лексической и словообразовательной синонимии<br />
русского языка). – Кемерово: КемГУ, 2010. – 199 с.<br />
109<br />
Philological sciences<br />
Comparative and historical, typological and correlative linguistics
Philological sciences<br />
ВЛИЯНИЕ ТРАДИЦИЙ НЕМЕЦКОЙ НАУЧНОЙ МЫСЛИ НА ФОРМИРОВАНИЕ<br />
РУССКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ<br />
Олехнович О.Г., канд. филол. наук, доцент<br />
Уральская государственная медицинская академия, Россия<br />
Участник конференции<br />
Русско-немецкие медицинские связи начали зарождаться в период XVII века. Деятельность приглашённых в Россию немецких<br />
врачей повлияла на создание медицинской науки в России. В этот период в России активно внедряется медицинская лексика на<br />
латинском языке. Эту традицию немцы тщательным образом сохраняли.<br />
По этой причине исконных немецких заимствований в русской и международной номенклатуре сравнительно немного.<br />
Активное внедрение слов немецкого происхождения отмечается лишь с конца XIX в., когда активизируются научные исследования<br />
в медицине и использование латинского языка стало менее обязательным. Немецкие слова представлены в основном в терминологии,<br />
относящейся к медицинской технике, диагностическим и оперативным приёмам и значительно реже встречаются в номенклатуре<br />
болезней. Большую часть медицинской терминологии, связанной с немецким влиянием составляют эпонимические термины, в<br />
состав которых входят фамилии известных немецких учёных, исследователей, врачей, первооткрывателей.<br />
Ключевые слова: медицинская терминология, немецкие термины<br />
Russian-German medical relations started to arise in the 17th century. Activity of the German doctors invited to Russia affected creation<br />
of medical science in Russia. That time Latin medical vocabulary is actively adopted in Russia. Germans carefully kept this tradition.<br />
For this reason original German loanwords in Russian and international nomenclature are not numerous. Active introduction of words of<br />
German origin is observed only since the end of the 19th century when scientific research in medicine becomes more active and use of Latin<br />
becomes less compulsory. German words are presented generally in the terminology relating to medical technology, diagnostic and operative<br />
technique while they are significantly scarce in disease nomenclature. A big part of the medical terminology connected with German influence<br />
consists of eponymous terms whose structure includes surnames of famous German scientists, researchers, doctors, and discoverers.<br />
Keywords: medical terminology, German terms<br />
Comparative and historical, typological and correlative linguistics<br />
Русско-немецкие медицинские связи начали зарождаться в период XVII века, когда в России не было своих врачей, и<br />
специалистов приглашали из-за границы. Многие врачи не знали русского языка, поэтому их постоянно сопровождали переводчики.<br />
Поскольку содержание доктора обходилось казне достаточно дорого, принимались лишь опытные специалисты. Сначала приезжали<br />
доктора из Италии, Англии, Голландии, затем из Германии. Но только немцы надолго задерживались в России – «Врачи немецкого<br />
происхождения в очень короткое время так прочно утвердились в России, что конкуренция с ними сделалась невозможной даже<br />
англичанам и голландцам, появившимся в России раньше их», – отмечал М.Лахтин.<br />
В одном из основных документов XVII в., имеющих отношение к медицине, – «Делах Аптекарского Приказа» упоминаются<br />
наиболее известные доктора медицины, работавшие в России – Г. Граман, который работал при царе Михаиле Фёдоровиче (годы<br />
правления 1613-1645), и его сын (1673-1675 гг.), Лаврентий Алфёрович Блюментрост (1619-1705 гг.), Михайло Граманъ, Яганъ<br />
Розенбургъ (1667-1676 гг.) работали при царе Алексее Михайловиче (годы правления 1645-1676) при царе Алексее Михайловиче<br />
(годы правления 1645-1676) 1668-1677 гг.<br />
Почти все приглашённые в Россию были высококлассными специалистами, удачливыми врачами-практиками. Их деятельность<br />
положила начало традиционно высокому уровню лечебной работы в России.<br />
Именно в этот период в России активно внедряется медицинская лексика, особенно фармацевтическая, так как из-за границы<br />
вывозилось огромное количество лекарств.<br />
Немецкие, как и другие западноевропейские слова в языке медицины практически не использовались. Причиной тому являлась<br />
традиция – использовать термины на латинском языке, которую немцы тщательным образом сохраняли.<br />
По этой причине исконных немецких заимствований в русской и международной номенклатуре сравнительно немного.<br />
Активное внедрение слов немецкого происхождения отмечается лишь с конца XIX в. и особенно в XX в, когда активизируются<br />
научные исследования в медицине и использование латинского языка становится менее обязательным. Немецкие слова представлены<br />
в основном в терминологии, относящейся к медицинской технике, диагностическим и оперативным приёмам и значительно реже<br />
встречаются в номенклатуре болезней. Примерами таких заимствований могут служить известные медицинские термины, вошедшие<br />
в общий лексический фонд русского языка – аптека (нем. Apotheke < греч. apothēkē склад, хранилище); бинт (нем. Binde повязка,<br />
бинт); клапан (нем. Klappe) ан. заслонка, затвор в сердце и венах); курорт (нем. Kurort, от Kur лечение + Ort место); линза (нем.<br />
Linse); фельдшер (нем. Feldscher) – медицинский работник со средним специальным образованием, работающий самостоятельно<br />
или под руководством врача; шприц (нем. Spritze).<br />
Отметим узкоспециальные медицинские термины, где намечается несколько групп:<br />
1. Термины, относящиеся к медицинской технике – зуботехнические термины – бор (нем. Bohrer) (режущий инструмент);<br />
бюгель (нем. Bügel) (винтовой зажим, используемый в ортопедии); каппа (нем. Карре шапка, колпачок) (колпачки для исправления<br />
положения зубов); кламмер (нем. Klammer скобка) (скобка для укрепления зубного протеза); штихель (нем. Stichel) (зуботехнический<br />
инструмент в виде долота или для обработки съемных протезов); штопфер (нем. Stopfer) (металлический стержень для уплотнения<br />
пломбировочного материала в кариозной полости); хирургические инструменты – клемма для кровеносных сосудов (нем. Klemme<br />
зажим); ланцет (нем. Lanzette
человека как совокупность целостных психических структур («гештальтов»), формирующихся независимо от объективной<br />
реальности), пфропфшизофрения (pfropfschizophrenia; нем. Pfropfung прививка + шизофрения син.: олигошизофрения, пфропфгебефрения,<br />
шизофрения привитая) (шизофрения, развивающаяся у олигофрена), райцтерапия (истор.; нем. Reiz возбуждение, раздражение +<br />
терапия) (общее название лечебных мероприятий, применявшихся с целью повышения защитно-приспособительных реакций<br />
организма при ареактивных формах хронических болезней), рауш-наркоз (нем. Rausch + наркоз опьянение; син. наркоз оглушением)<br />
– кратковременный неглубокий наркоз, вызванный вдыханием воздуха с высокой концентрацией паров эфира или хлорэтила; лекарственные<br />
препараты: Vaselinum (вазелин) (нем. Wasser «вода» и греч. eleiron «масло»), Vitaminum Н (витамин Н) (лат. Vita и amin<br />
нем. Haut «кожа»).<br />
Большую часть медицинской терминологии, связанной с немецким влиянием составляют эпонимические термины, или<br />
эпонимы, т.е. термины, в состав которых входят фамилии известных немецких учёных, исследователей, врачей, первооткрывателей.<br />
Исключительно высок процент эпонимов в некоторых разделах клинической терминологии: так в неврологии эпонимы составляют<br />
около 30 % всего терминологического фонда, значительное количество занимают термины, связанные с именами немецких учёных.<br />
Рост эпонимов в современной терминологии объясняется не только желанием увековечить авторство первооткрывателя, но и в<br />
связи со сложностью сразу образовать или отыскать более краткий и точный термин, чтобы адекватно отобразить нужный предмет,<br />
признак или качество. Среди эпонимов выделяются следующие группы –<br />
1. Анатомические термины – В XIX в. открытия в области анатомии обозначились в терминах именами немецких анатомов и<br />
физиологов – Гиса пучок (W. His, 1831-1904), Гиса треугольная складка, Гиса угол, Людвига ганглий (K.F.W. Ludwig, 1816-1895.),<br />
Краузе круг (К.F.Т. Krause, 1797-1868), Краузе область, Краузе луковицы (W.J.F. Krause, 1833-1910), Лангендорффа клетки (O.<br />
Langendorff, 1853-1908, син. клетки коллоидные) Циннова связка (J.G. Zinn, 1727-1759). В настоящее время эти термины не<br />
используются. Именно в анатомических эпонимах в сконцентрированной форме отразились основные этапы развития науки и о<br />
строении и функциональных особенностях органов человеческого тела, становление научного миропонимания человека и его<br />
места в живой природе.<br />
2. Методы исследования – Немецкие врачи открыли немало методов исследования, при назывании используя ключевые<br />
термины – проба, реакция, метод, опыт: Шеллонга проба (F. Schellong, 1891-1953, нем. врач) (функциональная проба при<br />
исследовании кровообращения), Яффе реакция (М. Jaffe, 1841-1911, немецкий врач) (метод определения креатинина в моче и<br />
сыворотке крови). Некоторые названия методов исследования имеют синонимы с ключевыми терминами – Шмидта реакция (A.<br />
Schmidt, 1865-1918, немецкий терапевт; син. Шмидта сулемовая проба) (метод обнаружения стеркобилина в кале). Немецкие оториноларингологи<br />
открыли способы диагностики заболеваний уха, носа, гортани – Бернштейна метод (W. Börnstein, совр.) (метод<br />
исследования обонятельной функции); Швабаха опыт (D. Schwabach, 1846-1920) (метод дифференциальной диагностики поражений<br />
слухового аппарата).<br />
3. Названия болезней – В названии болезней встречаются фамилии немецких врачей. В таких названиях часто ключевым<br />
термином является слово «болезнь», реже – название конкретного заболевания. Такие термины практически редко используются,<br />
часто заменяются на синонимы. В названии болезней нервной системы запечатлены имена немецких врачей: невропатологов и<br />
психиатров – Альцгеймера болезнь (A. Aizheimer, 1864-1915), Крейтцфельдта-Якоба болезнь (Н.G. Creutzfeldt, 1885-1964, A. Jakob,<br />
1884-1931), терапевтов – Рейтера болезнь (H.C.J. Reiter, 1881-1969; син.: Рейтера синдром, Рейтера триада, синдром уретроокулосиновиальный)<br />
(инфекционно-аллергическая болезнь); гинекологов – Шультце параметрит (В.S. Schultze, 1827-1919); врачей<br />
других специальностей – Беста болезнь (F. Best, 1878-1920; син. дегенерация желтого пятна детская), Штиккера опухоль (G.<br />
Sticker, 1860-1960) (син. саркома венерическая).<br />
4. Названия симптомов болезней – Немецкие врачи оториноларингологи – Авеллиса синдром (G. Avellis, 1864-1916) (сочетание<br />
паралича мягкого нёба и голосовой мышцы); невропатологи – Бергера парестезия (O. Berger, 1844-1885, (приступообразная<br />
парестезия в ногах); Гоффманна рефлекс (J.H. Hoffmann, 1857-1919) (патологический рефлекс: сгибание и приведение I пальца<br />
кисти и сгибание остальных пальцев); терапевты – Эбштейна аномалия (W. Ebstein, 1836-1912) (врожденный порок сердца, характеризующийся<br />
смещением створок правого предсердно-желудочкового (трехстворчатого) клапана); дерматологи Ядассона-<br />
Левандовского синдром (J. Jadassohn, 1863-1936; F. Levandowsky, 1879-1921 син.: пахионихия врожденная; невропатологи – J.A.<br />
Barre, 1880-1967) – син. рефлекс двуглавой мышцы бедра; Липманна феномен (Н.С. Liepmann; син. Липманна интеллектуальные<br />
иллюзии, Липманна симптом) – появление зрительных галлюцинаций.<br />
5. Названия хирургических операций – На основе общих терминов «операция» и «пластика» создавались эпонимы с именами<br />
немецкие хирургов – Брунса операция (P.E. Bruns, 1846-1916) (операция удаления фибромы); Бергманна операция (E. Bergmann,<br />
1836-1907) (операция иссечения собственной оболочки яичка); Брандта операция (G.B. Brandt, р. 1895 г.) (поднадкостничная<br />
остеотомия большеберцовой кости); Брунса пластика губы (V. Bruns, 1823-1883) (операция восстановления верхней губы); Ривуара<br />
операция (J.R. Rivoir) (замещение обширного дефекта мочеиспускательного канал.<br />
5. Названия медицинских инструментов и приборов<br />
Фамилии немецких офтальмологов фигурируют в названии инструментов для глазных операций – Аксенфельда блефаростат<br />
(K.Th. Axenfeld, 1867-1930); Аксенфельда крючок, Аксенфельда ложка, Аксенфельда ранорасширитель; Бунге ложка (P. Bunge, 1853-<br />
1926), Вальдау-Грефе пинцет (A. Graefe, 1828-1870), Грефе катарактальный нож (A. Graefe; син. нож катарактальный линейный),<br />
Грефе пинцет (A. Graefe); Егера крючок (W. Jaeger, р. 1917 г.).<br />
6. Названия родов бактерий, образованных от фамилий исследователей – Фамилии немецких бактериологов использованы в<br />
названии бактерий – клебсиелла(-ы) (Klebsiella, Ber; Е. Klebs, 1834-1913) > клебсиеллёз (klebsiellosis) (инфекционная болезнь), Коха<br />
палочка (R. Koch, 1843-1910) (возбудитель туберкулёза), нейссерия (Nesseria, М. Neisser, 1869-1938), Гертнера палочка (Salmonella<br />
enteritidis, Ber; A. Gärtner, 1848-1934, нем. бактериолог) – бактерия рода Salmonella, семейства Enterobacteriaceae, подвижная грамотрицательная<br />
палочка с закругленными концами; возбудитель пищевых токсикоинфекций у человека; Пфейффера палочка<br />
(Haemophilus influenzae, Ber; R. F.J. Pfeiffer, 1858—1945, нем. бактериолог; син.: палочка инфлюэнцы, Пфейффера — Афанасьева<br />
палочка) – вид бактерий рода Haemophilus; неподвижная грам-отрицательная полиморфная палочка.<br />
Некоторые эпонимические термины образуют целый словообразовательный ряд –<br />
Огромное количество производных терминов образует эпоним Рентген (по имени нем. физика Рентгена (1845-1923). > где<br />
рентген- является составной частью сложных слов и означает «относящийся к рентгенологии, к рентгеновскому излучению».:<br />
авторентген, рентгенограмма, рентгенография, рентгенодиагностика, рентгенолог, рентгенология, рентгеноскопия, рентгенотерапия,<br />
рентгеноанатомия, рентгеновская трубка, рентгеновские аппараты, рентгеновский снимок, рентгеновское излучение рентгеновский<br />
растр и т.п.)<br />
Базедова болезнь (morbus Basedowi; К. А. von Basedow, нем. врач, 1799-1854) син. зоб диффузный токсический. Базедовизм<br />
(basedowismus; K.A. von Basedow) легкая форма течения Базедовой болезни. Базедовификация (basedowificatio; morbus Basedowi +<br />
лат. facio делать) (появление клинических и морфологических признаков базедовой болезни.<br />
Нельзя не отметить влияние известных немецких врачей на введение терминов в научный оборот: гемофилия<br />
111<br />
Philological sciences<br />
Comparative and historical, typological and correlative linguistics
Philological sciences<br />
название болезни (из греч.) было предложено нем. клиницистом И.Л. Шейнлейном в 1820 г.; авидет (от лат. aviditas<br />
«жидкость» термин предложил нем. химик и биохимик, один из основоположников химиотерапии Пауль Эрлих<br />
(Ehrlich Paul, 1854-1915) для определения различных модификаций дифтерийного токсина: токсоида, токсина. токсона;<br />
аккомодация (лат. accomodatio приспособление) термин в физиологию ввёл в 1908 г. нем. физико-химик, один из основоположников<br />
современной физической химии Вальтер Нернст (Nernst Water H., 1864-1941); алексин нем. врач,<br />
бактериолог, иммунолог, гигиенист Ганс Бухнер (Duchner Hans, 1850-1902) и бельг. Иммунолог; нейрон – в1891 г.<br />
термин (от греч. neuron) предложил нем. анатом и гистолог Генрих Вльгельм Вальдейер и др.<br />
Немецкая традиция в медицинской терминологии оказала огромное влияние на формирование и развитие русской медицинской<br />
терминологии.<br />
Литература:<br />
1. Лахтин М.Ю. Краткий биографический словарь знаменитых врачей всех времён СПб, 1902.<br />
2. Латинско-русский словарь медицинской терминологии. – Москва, 2006 г.<br />
3. Медицинский словар. Русско-немецкий. Немецко-русский. – Москва, 2002 г.<br />
ПРОЕКТ ПОСОБИЯ «АЛЕКСАНДР КУПРИН И МИР ВОСТОКА»<br />
Хинчагашвили Н., д-р филол. наук, проф.<br />
Горийский учебный университет, Грузия<br />
Марзие Я., канд. филол. наук, проф.<br />
Тегеранский университет, Иран<br />
Участники конференции<br />
Совместный проект представляет собой создание учебного пособия по истории русской литературы «Александр Куприн и<br />
мир Востока», предназначенного для работы со студентами гуманитарного факультета, обучающимися дисциплинам<br />
филологического профиля, для которых русская литература является иностранной. В Пособие войдут оригинальные тексты произведений<br />
писателя, справочные материалы в виде таблиц, словников и другие необходимые сведения по проблематике, а также<br />
комментарии и задания.<br />
Ключевые слова: восточные корни, духовные ценности, этико – эстетический хронотоп.<br />
The joint project is a kind of textbook in the history of the Russian literature “Aleksandr Kuprin and the East World”<br />
designed for students who are studying philological disciplines at the faculty of humanities and the Russian literature is<br />
foreign for them. The textbook consists of writer’s original texts, comments, exercises, references in the form of dictionary<br />
and charts and other useful information around the given issues.<br />
Keywords: оriental roots, spiritual values, ethical and aestheticchronotop<br />
Foreign literature (with the indication of the definite literature)<br />
В современном тысячелетии одной из ведущих тенденций является глобализация мирового сообщества. Этот<br />
процесс затрагивает все сферы жизни общества: культуру, науку, технику, экономику, политику. В соответствии с требованиями<br />
времени претерпевает большие изменения и общая парадигма образования: важнейшей целью преподавания<br />
сегодня является изменение вектора направленности обучения студентов вузов в сторону выработки свободной<br />
ориентации в огромной информационной сфере, вписывания в общий контекст культурного развития. Проблема соотношения<br />
языка и культуры, видов и способов подачи культурного компонента как никогда остро встала перед<br />
многими странами. Именно этот фактор явился предпосылкой осуществления совместного проекта преподавателей<br />
истории русской литературы Тегеранского и Горийского университетов. Кстати, очное знакомство соавторов произошло<br />
на V международном симпозиуме в 2011 году в Грузии (Тбилиси). Взаимный интерес к представленным докладам («<br />
Восточные легенды в контексте творчества А.И.Куприна» Н.Хинчагашвили и «Мифология в «Шахнаме» Фирдоуси и<br />
ее влияние на русскую литературу» М.Яхьяпур) перерос в сотрудничество. Пособие станет продолжением серии<br />
научных трудов М.Яхьяпур – автора книг«Михаил Лермонтов и мир Востока», «Александр Пушкин и мир Востока»,<br />
«Иван Бунин и мир Востока», изданных в Иране.<br />
Пособие будет основано на исследовании восточной тематики в творчестве А.И.Куприна, выявлении отдельных<br />
«мусульманских» элементов в произведениях писателя в неразрывной связи с проблематикой межкультурной коммуникации.<br />
Однако взаимодействие русской и исламской культуры мы рассматриваем не как простую передачу<br />
культурной тематики, а как возможность внесения изменений в мировоззрение писателя, как способ обогащения и<br />
развития национальной (русской) литературы переводными произведениями. Пытаясь провести целостное исследование<br />
восточных традиций в творческом восприятии А.И.Куприна, авторы Пособия ставят следующие цели:<br />
выяснить истоки причин, побудивших Куприна обратиться к миру Востока (философских, этических, эстетических,<br />
биографических);<br />
ознакомить студентов с художественными произведениями писателя, содержащими смысл и символику мусульманских<br />
имен, терминов, понятий, топонимов, выявить восточные темы и мотивы;<br />
исследовать тему на материале не только художественного творчества писателя, но и с привлечением публицистики,<br />
дневниковых записей, писем, материалов книг, статей современников о писателе, воспоминаний его родных и близких;<br />
выработать у студентов навыки филологического анализа.<br />
Структура Пособия определена поставленными целями. Каждая из четырех глав Пособия двухчастна. Первая теоретическая<br />
часть несет информативную нагрузку. Теоретические знания закрепляются во второй части каждой главы,<br />
в которой предполагается значительное количество практических заданий. Т.о., текст из первой части главы будет<br />
являться исходным материалом для выполнения предлагаемых заданий творческого характера с разными вариантами<br />
решений (эссе, выводы с аргументацией своего мнения, краткое резюме, сообщение, доклад на заданную тему на<br />
основе предложенного материала, составление плана, рецензия, аннотация, сбор информации на определенную тему,<br />
реферат, информационный обзор и т.д.), которые будут поступательно усложняться.<br />
112
Наличие в первой части главы текста-источника, к которому студенты будут обращаться в процессе выполнения<br />
заданий, комментариев, справок, разъяснений сделает возможным самостоятельное выполнение студентами большей<br />
части домашних заданий, что не исключает, конечно, руководство, контроль и консультации преподавателя.<br />
Первая глава Пособия «Восточные корни А.И.Куприна» знакомит студентов с внутренними и внешними<br />
факторами особого интереса писателя к мусульманскому Востоку, исламу, мифологии, во многом определивших направление<br />
его ориентальной мысли. К таковым мы относим мусульманские корни происхождения Куприна и явление<br />
«евроцентризма» - осознанная невозможность строить концепции с опорой на духовные ценности только Европы.<br />
Главная причина влечения Куприна к Востоку, не раз с гордостью отмечалавшаяся самим писателем – его<br />
мусульманское происхождение. Исходя из этого, биографическому аспекту обращения Куприна к восточной теме<br />
будет уделено особое внимание.<br />
При всем том, что проблеме темы Востока в творчестве Куприна посвящено много исследований (исследователей,<br />
в основном, интересовало влияние на стилевые искания, сюжетный и образный ряд произведений писателя), биографический<br />
аспект как отдельный предмет исследования изучен недостаточно, что затрудняет проникновение в глубины<br />
творческого наследия, понимание писательского мироощущения. В этой связи, на наш взгляд, студентам-иностранцам<br />
будет интересно ознакомиться с выдержками высказываний самого писателя о своих мусульманских корнях,<br />
иллюстрациями и фотографиями на тему (Пособие предположительно будет иллюстрировано), откорректированной<br />
нами таблицей генеалогического древа Кулунчаковых (материнская линия писателя) и Куприных, биографическими<br />
сведениями о матери писателя, отношения с которой оставили определенный отпечаток на судьбе и творчестве Куприна.<br />
Беседуя со студентами о внешних факторах проявления острого интереса Куприна к Востоку, мы очень коротко,<br />
насколько это возможно, ознакомим их с комплексом исторических, философских, этических и эстетических ценностей,<br />
именуемых «восточными», нашедших отражение в творчестве выдающихся деятелей культуры «серебряного века»,<br />
для которых Восток был категорией не столько географической, сколько духовной.<br />
Мифы и легенды восточной мифологической системы в прозе Куприна представлены во второй главе Пособия -<br />
«Восточные легенды и их воплощение в прозе А.И.Куприна». Обращение писателя к восточному фольклору на<br />
рубеже веков не являлось только данью литературной моде. Писателя искренне тревожило наступление «смутного<br />
времени, в котором стерлась черта простой нравственности», «…густого тумана, который опутал не только Россию,<br />
но и весь мир». 1 [Куприн 1973,9:157]Поиски идеала, спасение от бездуховности, решение вопросов духовного существования<br />
человека привели писателя к древнему Востоку, привлекавшему его своим величием, мудростью, таинственностью,<br />
духовным богатством. Первый рассказ на восточную тему «Аль-Исса» был опубликован Куприным в<br />
1894 году под названием «Альза (Легенда)». Далее последовали «Демир-Кая» (1906), «Кисмет» / «Судьба» (1923). Использование<br />
в этих произведениях мотивов, имен, понятий, генетически связанных с исламом и мусульманской<br />
культурой: Аллах, Коран, имам, путь, странничество, прозрение бытия, поэт-пророк, «судьба», «демон», «чудесное<br />
прозрение», грехопадение, динамика в пространстве, ситуация «свой среди чужих, чужой среди своих», духовный<br />
поиск, мистицизм, возвращение, любовь и смерть, грех и его искупление, человек и рок; аллегорический уровень<br />
текста, единство интонации, образ возлюбленной, реализованной через «растительный код» (роза, пальма) - важны<br />
для освещения темы Востока в произведениях Куприна и являются попыткой проникновения в культуру и ментальность<br />
ислама.<br />
В первой части данной главы будут представлены оригинальные тексты вышеуказанных легенд, на материале<br />
которых студентам будут предложены практические задания на определение художественно-изобразительных средств,<br />
жанровых традиций, идейно-тематических, сюжетно-композиционных и персонажных решений писателя, нахождение<br />
в текстах подтверждения влечения писателя к тем духовным ценностям, которые могут быть осмыслены в общечеловеческом<br />
плане, а не в конкретной историко-культурной ситуации (любовь и уважение друг к другу, почитание<br />
старших и т.д.).<br />
В третьей главе «А.И.Куприн в воспоминаниях современников» будут приведены отрывки из воспоминаний<br />
близких и родных писателя на тему. Так, например, близко знавшие Куприна В.Муромцева-Бунина, Н.Рощин,<br />
К.Чуковский, М.Куприна-Иорданская , К. Куприна, Н.Тэффи и другие современники писателя оставили много<br />
интересных воспоминаний о татарской крови писателя, восточной внешности, любви к лошадям, благоговейного<br />
отношения к поэзии О.Хайяма, горячем восточном нраве, гордости за княжеское (со стороны матери) происхождение,<br />
ощущение мира на чувственном уровне ( вкус, запах, цвет, звук, чувство юмора), что сам писатель также относил на<br />
счет своего происхождения. Несомненно, этот нетрадиционно преподанный живой материал только усугубит интерес<br />
студентов к личности писателя.<br />
Наконец, в последней четвертой главе (условно – «Тексты») мы предлагаем студентам небольшие отрывки из автобиографических<br />
произведений Куприна («Юнкера», «Изумруд», «Пегие лошади», «Последние рыцари», «Беглецы»,<br />
«Святая ложь»,Звезда Соломона). Ключевые слова – мурза, князь, культура Востока, ислам, мусульманская вера,<br />
восточная внешность, татарское происхождение. хан, Аллах, имам. Итогом работы над Пособием для студентоврусистов<br />
должно явиться обеспечение возможностью использования предлагаемых текстов для самостоятельного филологического<br />
анализа.<br />
В заключение нам хотелось бы выразить надежду на то, что наше Пособие окажется интересным широкому кругу<br />
студентов; будет способствовать повышению эффективности обучения вопросам межкультурного диалога на русском<br />
языке, общей эрудиции и активизации творческого потенциала студентов; сформирует у студентов целостное<br />
восприятие связей русской литературы с культурой Востока; приблизит и сделает «своим» большого русского<br />
писателя, для которого «чарующий мир Востока», «аромат Востока», «утонченное искусство», «магия» Востока,<br />
«сказочный Восток» были сознательной установкой, близкой по духу.<br />
Литература:<br />
1. Куприн А.И. Фольклор и литература. Собр.соч.: В 9 тт., М., т.9, с.157<br />
2. Хинчагашвили Н.Восточные легенды в контексте творчества А.И. Куприна. V международный симпозиум «Современные<br />
проблемы литературоведения», Литературный Институт Грузии, Тбилисский государственный университет им. И.Джавахишвили,<br />
Тб.,2011<br />
3. Яхьяпур М. "Иван Бунин и мир Востока", Тегеран, 2007<br />
113<br />
Philological sciences<br />
Foreign literature (with the indication of the definite literature)
Philological sciences<br />
ГЕРОИЧЕСКАЯ ДРАМА «ГЕРОЙ-ХРИСТИАНИН» В ТВОРЧЕСТВЕ ДЖОРДЖА ЛИЛЛО<br />
Галлямова М.С., канд. филол. наук, доцент<br />
Магнитогорский государственный университет, Россия<br />
Участник конференции<br />
В статье рассматривается жанр героической драмы как особая нарративная стра-тегия в литературе эпохи Просвещения.<br />
Точкой отсчета для автора статьи является творчество Джорджа Лилло как драматурга, стоящего на заре англий¬ского<br />
Просвещения и являющего собой ранний этап героической мысли Великобритании.<br />
Ключевые слова: героическая драма, эпоха Просвещения, Джордж Лилло, постановка спектакля, критика, свобода,<br />
философский конфликт.<br />
The article deals with the genre of heroic drama as a special narrative strategy in the literature of the Enlightenment. The starting point<br />
for the article’s author is George Lillo’s works as a dramatist, standing at the dawn of the English Enlightenment and representing the earliest<br />
stage of heroic thought in the UK.<br />
Keywords: heroic drama, the age of Enlightenment, George Lillo, production, criticism, liberty, philosophical conflict.<br />
Foreign literature (with the indication of the definite literature)<br />
История создания и постановок героических пьес на английской сцене занимает не одно десятилетие. Анализ данных<br />
произведений проводится литературоведами в различных направлениях. Прежде всего, выясняется генезис жанра, его источники и<br />
влияние, рассматривается художественное своеобразие, политическая направленность и интеллектуальное содержание пьес, идеи<br />
и концепции, воплощенные в них.<br />
Мнения исследователей об истоках этих произведений чрезвычайно разнообразны. Одни критики считают основой жанра<br />
английских героических пьес французские романы, другие литературоведы находят в них элементы испанской «драмы чести»,<br />
третьи отмечают значительное влияние произведений Френсиса Бомонта и Джона Флетчера, четвертые говорят о безусловном<br />
воздействии титанических характеров трагедий Кристофера Марло. Однако постоянно отмечается значительная роль Джона<br />
Драйдена в становлении жанра.<br />
Героическая драма представляла собой переходную форму трагедии, утвердившуюся в Англии в период Реставрации. Ее<br />
содержание составляли могучие страсти, необычные конфликты, несколько отрешенные от реальных жизненных интересов и<br />
связанные с аристократическими понятиями о чести и достоинстве. Они были насыщены действием, мелодраматическими<br />
эффектами, страстными поэтическими монологами, которые чередовались нравоучительными сентенциями. Сюжеты обычно<br />
были заимствованы либо из английской истории, либо у предшественников.<br />
В пьесе «Герой-христианин» («The Christian Hero», 1735) английский драматург Джордж Лилло отступает от традиции<br />
написания своих произведений в жанре мещанской трагедии. Д. Ф. Берджес говорит об этом следующее: «Лилло демонстративно<br />
отошёл от буржуазной среды и реалистического изображения среднего класса, которое мы все наблюдали в пьесе «Лондонский<br />
купец» («The London Merchant», 1732) [2, 11]. Критик обвиняет драматурга и в отказе от нравственных порицаний и наставлений в<br />
пьесе. Такой упрёк кажется не совсем обоснованным. Томас Дейвис называет эту точку зрения «субъективной враждебной<br />
критикой» [3, 10], которая появилась в свете только после смерти Джорджа Лилло через тринадцать лет.<br />
Звучали довольно часто и обвинения драматурга в плагиате. В литературных подделках Лилло подозревали многие. Например,<br />
Джин Хэмерд предполагает, что Джордж Лилло взял за основу своего произведения сюжет пьесы Джона Хьюиса «Осада Дамаска»<br />
(«Siege of Damascus», 1720). Томас Дейвис также находит некое сходство между ними. Бейкер совместно с Фредериком Боасом<br />
утверждают, что существуют подобные мотивы и в издании пьесы Томаса Уинкопа «Скандерберг», но не надо забывать, что данная<br />
работа появилась только в 1747 году. Очевидно, что использование идентичного персонажа в повествовании ещё не является доказательством<br />
тому, что это плагиат, тем более, произведение было написано через двенадцать лет после издания «Героя-христианина»<br />
Джорджа Лилло. Например, даже намного позже в «Рассказах придорожной гостиницы» («Tales of a Wayside Inn», 1863) Генри<br />
Уодсворт Лонгфелло также обращается к данному имени.<br />
Печатный вариант пьесы в различных изданиях всегда предварял пролог «Краткое жизнеописание Георга Кастриоти,<br />
национального героя Албании, обычно называемого Скандербегом».<br />
Сюжет «Героя-Христианина» простой до примитивности. Пьеса имеет очень четкое и рационально продуманное композиционное<br />
построение. Следуя образцам героической драмы, местом действия трагедии Джордж Лилло избирает восточную страну. Елена,<br />
турецкая принцесса и дочь правителя Амурата, влюблена в Скандерберга, героя, взятого отцом в заложники. Предатель Амази<br />
любит Елену. Он ненавидит Скандерберга и жаждет мести. А Скандерберг, в свою очередь, испытывает нежные чувства к Алфее,<br />
дочери своего союзника Арантиса.<br />
Известная предсказуемость действия, а также однолинейность в изображении аристократических персонажей, отсутствие у<br />
них индивидуальных черт, резкое деление героев на положительных и отрицательных, т. е. особенности типизации - это черты<br />
поэтики героической драмы.<br />
Развязка кажется предсказуемой. Однако действие совершает на первый взгляд неожиданный поворот, на самом деле<br />
соответствующий логике героической пьесы. Алфею и её отца турки захватывают в плен. Магомета, сына Амурата, охваченного<br />
страстью, терзает ревность при виде красавицы Алфеи. Он хочет обладать ею, во что бы то ни стало. Таким образом, главный герой<br />
Скандерберг оказывается перед дилеммой, - необходимостью выбора между личными устремлениями и соображениями чести.<br />
К кульминации приводит получающая драматическое развитие сюжетная линия Елены, безнадежно любящей Скандерберга.<br />
Чтобы спасти его, она, переодевшись в мужское платье приходит к нему. Елена хочет предупредить любимого о предательском<br />
поступке Амази.<br />
Героический характер пьесы не вызывает сомнений: ее главные действующие лица воплощают архетипы нарративной стратегии<br />
данного жанра. Так, Скандерберг - сверхгерой, а Амази - типичный соперник, создающий выгодный фон для героя. Красавица<br />
Алфея представляет тип добродетельной возлюбленной главного персонажа, ради которой он совершает подвиги.<br />
Пьеса полна увлекательных коллизий, бурных романических страстей. Типичный сюжет, хронологическая неопределенность<br />
действия, экзотический колорит - все это служит главной задачей Джорджа Лилло как автора героической драмы - вызвать чувство<br />
восхищения. Кроме того, персонажи «Героя-христианина» выражаются языком, отличающимся грациозной торжественностью,<br />
часто произносят тирады, используют героическую лексику. Это ещё одно доказательство жанровой характеристики пьесы.<br />
Но в конечном итоге, все заканчивается благополучно, и добро побеждает зло. Амурат погибает. Алфея с отцом освобождены<br />
из плена благодаря героизму Скандерберга.<br />
Обычно главным героем таких пьес является человек с непреклонной волей, сильными страстями, с широкими замыслами. Он<br />
ставится в положение, что его сердечные, душевные желания и страсти сталкиваются с нравственным долгом или другими непре-<br />
114
одолимыми препятствиями. Персонажами героической драмы являются люди, одаренные настолько сильной духовной природой,<br />
что вступают в борьбу с окружающими. Скандерберг явный тому пример. Томас Дейвис сравнивает его с Тамерланом из<br />
одноименной пьесы Николаса Роу («Tamerlane», 1702). Как и все протагонисты героических драм, Скандерберг честолюбив,<br />
благороден, всегда поступает по совести, придерживается моральных принципов, способен на многое ради друзей.<br />
«Герой-христианин» оставался в театральном репертуаре Англии только несколько дней. Премьера состоялась в театре Друри-<br />
Лейн 13 января 1735 года. За ней последовало ещё три спектакля с 14 по 16 января, а затем пьеса была просто вычеркнута из<br />
репертуара театра.<br />
Героическая драма написана в высокопарной стихотворной форме. Её автор выбрал, как наиболее яркую и запоминающуюся.<br />
Драматургу было сорок четыре года, когда он сочинял «Героя-христианина» и это был его первый поэтический опыт. Несмотря на<br />
то, что его стихи понятны и просты, Дж. Хэмерд называет их «банальными», а Дж. Лоссак утверждает, что «…конечно, Джордж<br />
Лилло пытался оттачивать мастерство поэта, но, к сожалению, в те дни плохие стихи – это не редкость» [6, 66].<br />
В качестве примера рассмотрим подстрочный перевод эпизода, когда Скандерберг декламирует страстный и долгий монолог,<br />
включающий в себя в целом 39 строк. После прочтения станет понятно, что можно отнести к сильным или слабым сторонам<br />
поэтического таланта английского драматурга эпохи Просвещения.<br />
Can all your kingdoms bribe the voice of truth?<br />
Which, while you speak, pleads for me in your breast;<br />
Or rage efface the mem’ry of your guilt,<br />
More than ten thousand witnesses against thee?<br />
But slander, like the loathsome leper’s breath,<br />
Infects the healthful with its poisonous streams.<br />
Могут ли все ваши королевства подкупить голос правды?<br />
Который, в то время как ты говоришь, заступается за меня в твоей груди;<br />
Или ярость уничтожит осознание твоей вины,<br />
Более десяти тысяч свидетелей против тебя?<br />
Но злословие, как отвратительное прокаженное дыхание,<br />
Заражает здоровых своими ядовитыми потоками (здесь и далее собственный перевод) [8].<br />
Такой возвышенный стиль должен был вызывать у слушателя сильные эмоции. Он как никакой другой близок к понятиям «торжественный»,<br />
«героический». Далее стилистические фигуры речи намеренно преувеличены, с целью усиления выразительности.<br />
Речь героя становится страстной, когда Скандерберг вспоминает тех, кого убил Амурат.<br />
Whenever I think about thy monstrous crimes -<br />
Reposito! Stanissa! Constantine!<br />
My slaughtered brothers, whose blood still cries<br />
Aloud to Heaven: - our wrongs shall find redress.<br />
Justice defer’d, deals forth the heavier blow.<br />
Всякий раз, когда я думаю о твоих чудовищных преступлениях –<br />
Репосито! Стэниса! Константин!<br />
Мои убитые братья, чья кровь по-прежнему плачет,<br />
Взывая в голос к Небесам - ваши пороки должны найти удовлетворение.<br />
Справедливость, впредь нанесёт тяжелый удар.<br />
Тема свободы является ведущим мотивом многих драматических произведений Джорджа Лилло. Пожалуй, нет человека,<br />
который не согласился бы с тем, что эта тема традиционно была одной из самых острых проблем в литературе. И нет такого<br />
писателя, поэта или драматурга, который не считал бы свободу для каждого человека столь же необходимой, как воздух, пища,<br />
любовь.<br />
По мнению Джорджа Лилло, свободным в широком смысле слова может быть лишь тот, кто чист душой и способен выдержать<br />
проверку, которую устроил в пьесе людям Амурат. И тогда свобода - это награда за те трудности и лишения, которые тот или иной<br />
персонаж перенес в жизни. В прологе пьесы выражены идеи героической драмы «...there’s not a theme so dear… As virtuous freedom,<br />
to a British ear…» («…Нет дороже темы для англичанина,… чем добродетельная свобода»).<br />
Ещё одна тема, которая волновала зрительскую аудиторию и драматурга – это философский конфликт между двумя религиями<br />
– христианством и мусульманством. Если конфликт происходит между двумя школами или течениями, он касается иерархии<br />
ценностей, особенностей догматов и культа. Всё познается в сравнении, поэтому сопоставив учение Мухаммеда и учение Христа,<br />
Джордж Лилло рассмотрел, какая из религий предназначена для сильного человека, и какая имеет власть для того, чтобы сделать<br />
его сильным. Скандерберг и Арантис применяют нетипичные формы правления для развития своего государства. Их идеалы – это<br />
духовная свобода и благополучие. Амурат смеётся над ними и противопоставлен как антиправитель, жаждущий власти и<br />
абсолютной монархии в Турции и других странах. Это, конечно же, представляло его не в лучшем свете перед зрителями.<br />
It amazes me most. Let Scanderbeg and you,<br />
Like fools contend and shed your blood in vain,<br />
While subjects must reap the harvest of your toil;<br />
And I fight to reign, and conquer.<br />
Это меня удивляет больше всего. Пусть Скандербег и ты,<br />
Как глупцы сражаетесь и проливаете кровь напрасно,<br />
В то время как вы должны пожинать плоды своего труда,<br />
А я вступаю в борьбу, чтобы царствовать, и побеждать.<br />
Несмотря на то, что в пьесе «Герой-христианин» затрагивались важные и злободневные проблемы, не вся публика встретила<br />
премьеру спектакля тепло и доброжелательно. Критический обзор, данный в журнале Уильяма Поппла «Суфлёр» («Prompter») от<br />
13 февраля 1735 года характеризует пьесу как «не национально английскую религиозную драму». Далее было заявлено, что «…<br />
целительное действие «Героя-христианина» должно было идти не со сцены, а с кафедры проповедника, и сами священники<br />
должны были выступить в роли актёров. Только тогда публика бы приняла эти идеи» [5, 90].<br />
В целом отзывы литературоведов о героической драме разносторонние. Встречаются как негативные, так и восторженные в<br />
равной степени. Например, Ч. Дибдин пишет «…правомерные и корректные темы выбраны драматургом для героической драмы»<br />
[4, 63]. Дженест соглашается с этим и добавляет, что «Герой-христианин» одна из трёх лучших историй о Скандерберге на его<br />
памяти. Уорд более сдержан в своем отзыве: «Пусть пьесе и не достаёт поэтического огня и страсти, но образ Елены самый удачный<br />
из всех» [7, 253]. Ф. Боас признался, что «…пьесу было бы интересно посмотреть, так как затрагиваются интересные темы для размышления»<br />
[1, 248].<br />
115<br />
Philological sciences<br />
Foreign literature (with the indication of the definite literature)
Philological sciences<br />
В любом значительном литературном произведении идей ровно столько, сколько обнаружит их читатель (и, в данном случае,<br />
зритель), а значит, гораздо больше, чем вкладывал их в него автор. В героической драме Дж. Лилло «Герой-христианин» две линии.<br />
Первая - размышления о свободе, о том, как она достигается, о соотношении свободы личной и общественной. Эти мысли<br />
представляли интерес не только для англичан XVIII века, но и для всего современного мира. Вторая идея пьесы – отношения<br />
христиан с Востоком. Эта внутренняя противоречивость и раздвоенность порождает героическую драму, которую удалось показать<br />
английскому драматургу. Актуальные темы произведения Джорджа Лилло - залог его появления на театральной сцене в будущем.<br />
Литература:<br />
1. Boas, F. S. An Introduction to Eighteenth Century Drama, 1700-1780/Boas, F. S. - Oxford: Clarendon Press, 1953. - 340 p.<br />
2. Burgess, D. F. Lillo San Barnwell, or the Playwright Revisited/Burgess, D. F.//Modern Philology. - August, 1968. - P. 5-29.<br />
3. Davies, T. Some Account of Mr. George Lillo. In Lillo’s Dramatic Works/Davies, T. - Vol. I. - P. 5 - 41.<br />
4. Dibdin, Ch. A Complete History of the Stage/Dibdin, Ch. - Vol V. - London: Published by the author, 1800. - 365 p.<br />
5. Gray, C. H. Theatrical Criticism in London to 1795/Gray, C. H. - New York: Columbia University Press, 1935. - 163 p.<br />
6. Lossak, G. George Lillo und seine Bedeutung fur die Geschichte des englischen Dramas/ Lossak, G. - 1939. - 142 p.<br />
7. Ward, A.W. A History of English Dramatic Literature to the Death of Queen Anne/Ward, A.W. - London, New York, 1899. - P. 253.<br />
8. Lillo, G. The Christian Hero. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:<br />
http://books.google.co.uk/books?id=OscGAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false<br />
(Дата обращения: 6. 05.2012)<br />
NARRATIVE STRATEGIES IN GRAHAM SWIFT’S WATERLAND<br />
Gref E.B., postgraduate student<br />
Pskov State University, Russia<br />
Conference participant,<br />
National championship in scientific analytics<br />
The article deals with the analysis of narrative strategies in the novel involving the identification of the indexical signs that refer to the<br />
implied author and differentiation of the author- and narrator- specific indexes.<br />
Keywords: implied author, implied reader, diegetic narrator, focalization, indexical signs.<br />
Foreign literature (with the indication of the definite literature)<br />
The narrative of the novel Waterland (1983) by G. Swift is constructed as a complex interaction of the narrative levels – those of<br />
the implied author and the narrator. The term implied author was introduced by the American critic Wayne C. Booth in 1961 and has<br />
become widespread as a concept referring to the author contained in a work, but not manifested in it. Wolf Schmid defines the<br />
implied author as “the correlate of all the indexical signs in a text that refer to the author of that text” (1). The indexical signs embrace<br />
“the stylistic, ideological, and aesthetic properties” of the text (1). The difference between the implied author and the narrator is<br />
grounded in the problem of the concrete author’s intention: the implied author “is not an intentional creation of the concrete author<br />
and differs categorically in this respect from the narrator, who is always an explicitly, or even implicitly, represented entity” (1). In<br />
his works Schmid dwells upon the concept of the “(re)constructed implied reader” emphasizing the necessity to distinguish its “two<br />
hypostases” according to the functions it can have. First, the implied reader can be defined as an “assumed addressee to whom the<br />
work is directed and whose linguistic codes, ideological norms, and aesthetic ideas must be taken account of if the work is to be<br />
understood; second, – as an “an image of the ideal recipient who understands the work in a way that optimally matches its structure<br />
and who adopts the interpretive position and aesthetic standpoint put forward by the work” (2, 3).<br />
So, the identification of the indexical signs that refer to the implied author and differentiation of the author- and narrator- specific indexes<br />
is the purpose of the analysis carried out from the viewpoint of the implied reader. The bulk of the analysis is carried out the frame of the first<br />
chapter of the novel in which the main principles of narrative technique are put forward.<br />
The narrator of Waterland is Tom Crick, a 53-year-old history teacher who narrates his story from a crucial point of his life – a family<br />
drama (his wife’s madness) accompanied by a professional failure (retirement/dismissal). The narrator, defined by David Malcolm as a<br />
“particular and situated narrator” (4: 108) may, in terms of narratology, be defined as a diegetic narrator (5) (the narrative acts are made by the<br />
narrator from within the narrative world).<br />
The first chapter ‘About the Stars and the Sluice’ opens with the words of the narrator’s father addressed to his son: “‘And don’t forget,’<br />
my father would say, as if he expected me at any moment to up and leave to seek my fortune in the wide world, ‘whatever you learn about<br />
people, however bad they turn out, each of them was once a tiny baby sucking his mother’s milk…’” (6: 1). The narrating ‘I’ of the diegetic<br />
narrator in this passage turns into the narrated ‘I’, the central character (Tom is a boy). As Tom’s father, functioning as the character in the<br />
fictional world of the novel, in this passage becomes a narrator having his own perspective, Tom acquires the role of the addressee of the<br />
fictive narrator, known as the “narratee” (7), or “fictive reader” (8). The implied reader is invited, somehow, to share this focal point with the<br />
fictive reader, thus, getting involved in the communicative discourse of the novel. The interplay of perspectives is quite complex: the<br />
focalization of Tom’s father talking to his son (the narrated ‘I’) is presented through the perception (slightly ironic) of an adult narrator: “my<br />
father would say, as if he expected me at any moment to up and leave to seek my fortune in the wide world”. Variety of perspectives underlies<br />
the narrative of Waterland thus becoming the indexical sign of the implied author whose ideological standpoint (that of questioning the<br />
possibility of a universal reliable perspective or, generally, grand narrative) emerges in the first lines of the novel.<br />
The father’s words are perceived by the narrator as “fairy-tale words; fairy-tale advice” (p. 1). The genre of fairy-tale with its time and<br />
space markers and imagery is introduced in the first chapter. In the very first passage the motif of quest – “to seek my fortune in the wide<br />
world” – launches its multiple manifestations throughout the novel. Fairy-tale space is presented from the perspective of Tom as a small boy:<br />
“And yet this land, would transform itself, in my five- or six-year-old mind, into an empty wilderness” (p. 3). For a little boy it seems to<br />
be a “fairy-tale place. in the middle of the Fens. Far from the wide world” (p. 1), “in the middle of nowhere”. The child’s fears of the<br />
‘wide world’ are embodied in a fairy-tale image of a monster: “the noise of the trains was like the baying of a monster closing in on us<br />
in our isolation” (p. 3).<br />
Handling of time revealing the child’s and the adolescent’s viewpoint is quite subjective: “And since my mother’s death, which was six<br />
months before we lay the eel traps under the stars” (p. 2), “this was several years after Dad told us about the stars, but only two or three since<br />
116
he began to speak of hearts and mother’s milk” (p. 4). The objective historic time simultaneously comes into play: “and one night, in<br />
midsummer, in 1937” (p. 1); “it was, to be precise, July 1943” (p. 4).<br />
These manifestations of peculiarities of child’s cognitive processes in the narrative are well within the narrator’s level, while on the level<br />
of the implied author free handling of genre markers acquires the quality of the indexical sign. D. Malcolm considers genre mixture “one of<br />
the most marked features of Waterland”, pointing out that this feature is typical of a large number of other British novels in the 1980’s (4: 88).<br />
The first chapter contains the features of a psychological novel of childhood development as it deals with the evolution of the child’s and<br />
adolescent’s impressions shaped by the atmosphere of the place and the parent’s influence on the child’s perception of the world. It’s worth<br />
mentioning that the principle of selecting the narrative elements for drawing a reliable picture of the child’s mind development echoes that of<br />
James Joyce in A Portrait of the Artist as a Young Man.<br />
The visual images of the boy’s world are numerous in the chapter: “the mystery of darkness” (p. 1); “the sky swarmed with stars which<br />
seemed to multiply as we looked at them” (p. 1); (the boy’s viewpoint); “dead-straight lines of ditches and drains which, depending on the state<br />
of sky and the angle of the sun, ran like silver, copper or golden wires across the fields” (p. 2) (the adult’s focalization). The palette applied for<br />
picturing the landscape of the Fens is rich in all shades of green (rather an optimistic and vital colour): “grey-green potato leaves, blue-green<br />
beet leaves, yellow-green wheat” contrasted, though, with the “uniform colour” of the Fens – “peat-black” (p. 2). The shade of the white<br />
colour appears in the meaningful description of the River Leem: “the milky brown of the Norfolk chalk hills from which it flowed” (p. 3). The<br />
imagery here is in full accord with the narrator’s perspective, but the idea of subjectivity (“depending on the state of the sky and the angle of<br />
the sun”) that underlies the perception (and, more generally, interpretation) may be seen as referring to the frame of the implied author.<br />
Moreover, the fusion of contrasted images (“dead-straight lines” are at the same time like “silver, copper or golden wires”, green and black<br />
colours are united) brings forth the ideas of relativity (of progress, of good and evil, of life and death) and of the elusive nature of the truth.<br />
The images referring to the sense of hearing reveal the narrator’s childish view of the world: the pumps “were tump-tumping”; the frogs<br />
“were croaking” (p. 1); the noise of the trains “was like the baying of a monster”; “a groaning of metal” of the working sluice (p. 3). The<br />
orchestration of the first chapter finishes with the menacing sounds of the “wild world”: “the roar of ascending bombers” (p. 4), connecting<br />
the Fens, with the “wide world” and broadening the scope of the narrated ‘I’ perspective.<br />
The smell “which is smelt over and over again in the Fens” (p. 4) is described by the narrator as “half man and half fish” (p. 4). The<br />
focalization of an adult narrator allows a quite sophisticated statement concerning the nature of this smell: “A cool, slimy but strangely<br />
poignant and nostalgic smell” (p. 4). The level of the implied author refers here, along with many other literary and cultural frames, to the<br />
Biblical doctrine of the original sin and the motif of returning to Eden recurring throughout the novel.<br />
The sense of touch is not supported by plentiful examples in the first chapter (possibly, the epithets “cool” and “slimy” used in the<br />
description of the smell may fall into this rank), but it acquires significance when the narrator throws light upon his first adolescent sexual<br />
experience with Mary, his future wife. The motif of quest, investigation skilfully handled by he implied author is given one more manifestation<br />
in the narrative.<br />
The first chapter of James Joyce’s A Portrait of the Artist as a Young Man is abundant in examples illustrating the development of the<br />
baby’s and then the boy’s five senses of perception (eyesight, hearing, smell, touch, taste). Later, Stephen Dedalus becomes aware of his true<br />
vocation in life – to observe the “deadly work” of real life and recreate the world perceived through his senses in a genuine artistic form – that<br />
constitutes the birth of an artist in Stephen.<br />
The first chapter of Waterland (and those related to the childhood and youth of Tom Crick) may be seen as “a portrait of the history teacher<br />
as a young man”. The world perceived through his senses (among which the eyesight is given the accentuated consideration as it refers to the<br />
ability to observe) evolves from a “fairy-tale land” to the world with “ascending bombers”. The narrator’s burning desire to gain an insight into<br />
the nature of things, to connect the causes and effects constitute the opening approach of the history teacher-initiate. But in Waterland the<br />
implied reader witnesses the construction of the narrative by the narrator who is facing dismissal (and is eventually dismissed), and who,<br />
paradoxically, at that utterly dramatic moment acquires the qualities of a good history (or life) teacher: speculating upon the facts not taking<br />
anything for granted, ability to pass on his learning and personal experience (in the narrative form he considers most appropriate –<br />
emphasizing the act of telling ) to his pupils (fictive readers). Then the figure of the narrator turns into “a portrait of the history teacher as a<br />
mature man”. The reference (not presented explicitly) to the modernist novel makes the implied reader think of the links between the<br />
postmodernist work and the modernist novel based on highly sophisticated intellectual models.<br />
The realist traditions of the British literature are actualized in the second epigraph of the novel: ‘Ours was the marsh country…’ Great Expectations<br />
The intertextual dialogue is given evidence in the description of the landscape in both novels.<br />
The words «flat», «wilderness», «black» are insistently used in Waterland: “…the land in that part of world is flat. Flat, with an unrelieved<br />
and monotonous flatness…”; “…its uniform colour, peat-black»; «empty wilderness” (p. 3) and in Great Expectations by Dickens: “the dark<br />
flat wilderness”; “on the flat in-shore”; “a long black horizontal line”; “nor yet so black”; “dense black lines”; “…the only two black things in<br />
all the prospect…” (9). The symbolic quality of the black colour is evident in the realist novel of Dickens. The images embodying the<br />
impending danger of the big world threatening the “small creatures” are synonymous in the novels. Tom Crick describes his father’s routine<br />
work applying the image of a guillotine: “Then he would have to raise the sluice which cut across the stream like a giant guillotine” (p. 3). In<br />
Great Expectations the narrator sees in the prospect only two black things – a beacon and a gibbet. The implications of the images seem to<br />
have much in common: the themes of History, revolution (guillotine) interact with the idea of threatening perspective (a beacon accompanied<br />
by a gibbet) echoing the “the fruitless meditations on the laws of perspective” (p. 3) in the first chapter of Waterland. The analyzed intertextual<br />
markers can be identified with the indexical signs of the implied author.<br />
One more example of the implied author’s presence in the narrative of Waterland is the shift, at the end of the first chapter, toward the<br />
conventions of a murder mystery: “For this something was a body. And the body belonged to Freddie Parr” (p. 4). Some detective story<br />
markers are common in the novels of Swift and Dickens.<br />
The realist tradition (various in its manifestation throughout the novel) re-echoes in the narrative of Waterland and at the same time is reexamined.<br />
The narrator of the realist novel is guided by the realist norms of an unambiguous presentation of fictional material. The narrator of<br />
a contemporary novel questions the possibility of gaining the objective knowledge and the very possibility of representation of reality. This<br />
theoretical standpoint referring to the level of the implied author underlies the whole narrative of Waterland. The principles of selecting the<br />
narrative elements for a highly subjective and layered narrative are reflected in the first epigraph of the novel, the definition of the Latin word<br />
historia:<br />
Historia, ae, f. 1. inquiry, investigation, learning.<br />
2. a) a narrative of past events, history.<br />
b) any kind of narrative: account, tale, story.<br />
Tom Crick’s narrative does not represent the objective historical reality but imposes a particularly subjective narrative shape on events<br />
their elusive nature being metaphorically represented in the title of the novel – Waterland, the word invented by the concrete author Graham<br />
Swift to serve the implied author of the narrative as an underlying standpoint.<br />
117<br />
Philological sciences<br />
Foreign literature (with the indication of the definite literature)
Philological sciences<br />
On the whole, Waterland is a sophisticated layered narrative allowing various reading strategies and containing the indexical signs that can<br />
be referred to the level of the implied author and those perceived as the narrator’s indexes. The narrator’s frame characteristics include<br />
variable and flexible focalization (including the viewpoint of different characters); unchronological organization of the narrated material based<br />
on time and space shifts; fragmentation, accentuated subjectivity in selecting the narrative elements; emphasizing the act of making a<br />
narrative. The indexical signs of the implied author include different frames of reference: the postmodernist perception of history reconstructed<br />
in the narrative; re-examination of literary conventions of realist, modernist and, consequently, postmodernist novel; intertextual frames of<br />
reference (Victorian novels, J. Joyce’s works only briefly touched upon in the analysis): genre mixture. Generally, the organization of the<br />
narrative material reflects the situation of epistemological uncertainty with the narrator’s “typical”, under the circumstances, point of view.<br />
References:<br />
1. Schmid, Wolf: "Implied Author". In: Hühn, Peter et al. (eds.): the living handbook of narratology. Hamburg: Hamburg University Press.<br />
URL = hup.sub.uni-hamburg.de/lhn/index.php?title=Implied Author&oldid=1586 [view date: 11 May 2012].<br />
2. Schmid, Wolf. Elemente der Narratologie. Berlin: de Gruyter, [2005] 2008. S. 68 – 72.<br />
3. Schmid, Wolf. “Textadressat.” Th. Anz (ed). Handbuch Literaturwissenschaft. Stuttgart: Metzler, 2007. Vol. 1, S. 171–81.<br />
4. Malcolm, David. Understanding Graham Swift. University of South Carolina, 2003.<br />
5. Шмид В. Нарратология. – М.: Языки славянской культуры, 2003. – (Studia<br />
philologica). – С. 81.<br />
6. Swift, Graham. Waterland. Picador. London, 1999. (Further in the article all references are to this edition, the pages are<br />
given in brackets).<br />
7. Prince, Gerald (1971). Notes toward a Characterization of Fictional Narratees /Genre. 1971. Vol.4, P. 100–106.<br />
8. Schmid, Wolf. Der Textaufbau in den Erzählungen Dostoevskijs. Münhen, 1973.<br />
9. Dickens, Charles. Great Expectations. Penguin Books. Great Britain, 1965. P. 35, 36, 39.<br />
ДИАЛЕКТНЫЕ СЛОВА В СОВРЕМЕННОЙ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ<br />
Алиева (Аскерова) С., канд. филол. наук, доцент<br />
Бакинский государственный университет, Азербайджан<br />
Участник конференции<br />
Статья посвящена актуальной теме, представляющей большой научный интерес в лексико-семантическом, стилистическом,<br />
историческом и лингвокультурологическом аспектах. Сбор, систематизация и анализ диалектных слов, используемых в разных<br />
стилистических целях в современной азербайджанской литературе, прольет свет на решение ряда проблем азербайджанской<br />
диалектологии.<br />
В статье на основе конкретных примеров, взятых из произведений выдающихся азербайджанских мастеров слова,<br />
анализируются диалектные слова и особенности их употребления в художественных произведениях. Особо подчеркиваются их<br />
метафоризация, омонимия, роль и стилистические функции в передаче местного колорита, создания комического эффекта и<br />
речевой характеристике персонажей.<br />
Ключевые слова: диалекты, диалектные слова, литературный язык, метафора, глаголы, текст.<br />
The article deals with the actual subject that is of the utmost interest from the lexical-semantic, stylistic, historical and linguistic –<br />
culturological aspects. Collection, systematization and analysis of the dialectal words that are used with the different stylistic purposes in<br />
modern Azerbaijanian fiction and poetry will make it possible to solve some problems of Azerbaijanian dialectology.<br />
In the article on the basis of the concrete examples from the poetry by the famous modern Azerbaijanian poets are analysed the dialectal<br />
words and peculiarities of their use in the poetry. Their metaphorical features, homonymy, role in creation of local colour, comic effect and<br />
speech description of characters are emphasized.<br />
Keywords: dialects, dialectal words, literary language, metaphor, verbs, text.<br />
Germanic languages<br />
Как известно, современные диалекты азербайджанского языка – результат многовекового развития. На протяжении истории в<br />
связи с конкретными событиями, факторами происходит дробление, объединение, перегруппировка диалектов. В разные эпохи<br />
меняются взаимоотношения между диалектами и литературным языком.<br />
Сбор и изучение диалектных слов, функционирующих в художественной литературе, приобретают особую актуальность в<br />
плане решения ряда проблем диалектной лексики, определения отношения между диалектными словами и живым разговорным<br />
языком, что способствует проникновению диалектных слов в литературный язык. «Процесс влияния говоров на художественный<br />
язык не прекращается. Местные особенности и в настоящее время используются для обогащения литературного языка». Несомненно,<br />
из живого разговорного языка в художественную литературу проникают не диалектные слова ограниченной сферы употребления, а<br />
широкораспространенные слова, которые иногда трудно отличить от слов живого разговорного языка.<br />
В азербайджанской поэзии всегда превалировали связь с народом, описание его жизни. Азербайджанская поэзия развивалась в<br />
тесной связи с историческим прошлым азербайджанского народа, с традициями классического наследия, в котором всегда<br />
ощущается благотворное влияние многовекового народного творчества, народного стиха.<br />
Выдающиеся представители современной азербайджанской поэзии Р.Рза, З.Халил, Н.Хазри, Б.Вагабзаде, Г.Гусейнзаде, А.<br />
Кюрчайлы, Мамед Араз, Тофиг Байрам, Фикрет Годжа, Мамед Исмаил, Габиль и др. сыграли важную роль в развитии<br />
азербайджанской поэзии как в плане формы, так и содержания.<br />
В художественной литературе диалектные слова отличаются от других средств образной выразительности, т.к. они относятся к<br />
другому лексическому пласту – диалектной лексике. Однако оба лексических пласта относятся к одной системе – общенародному<br />
языку. Так, между ними нет резкой границы, они находятся в тесной взаимосвязи.<br />
В использовании диалектных слов в художественной литературе особую роль играет художественное мастерство писателя.<br />
Писатель должен так мастерски сочетать диалектные и литературные слова, чтобы художественной текст не был «перезагружен»<br />
диалектными словами.<br />
Диалектные слова, употребляющиеся в современной азербайджанской поэзии, в зависимости от региональной принадлежности<br />
отдельных поэтов охватывают различные диалектные группы. Эти слова, заимствованные в основном из народного языка,<br />
118
являются языковыми единицами, связанными с деятельностью людей, проживающих на конкретной территории, с историей<br />
народа, с его экономической, политической жизнью, бытом, профессиями, ремеслами, обычаями, традициями, географическими<br />
особенностями и т.д.<br />
Диалектные слова по фонетическому составу отличаются от слов литературного языка, и у большинства этих слов (за<br />
исключением терминов) имеются эквиваленты в литературном языке: hünü – ağcaqanad «комар», məkə, qarğıdalı «кукуруза», cevizqoz<br />
«грецкий орех», zivəip «веревка», qənşər-qarşı «против; противоположный»; tana-sırga «серьга»; dəstərxan- süfrə «скатерть»;<br />
mağar – toy «свадьба»; simsar-qohum «родственник, близкий человек»; eymənmək – qorxmaq «бояться, испугаться»; dinşəmək –<br />
qulaq asmaq «слушать»; imsələmək – iyləmək «нюхать» и др. Диалектные слова, употребляющиеся в художественной литературе,<br />
отличаются и по сфере распространения.<br />
Так, ряд диалектизмов употребляется в большинстве диалектов и говоров и не относится к конкретному диалекту, диалектной<br />
группе. Такие диалектизмы широко распространены, их значение понятно читателю и их можно встретить в большинстве<br />
произведений азербайджанских поэтов. Рассмотрим конкретные примеры:<br />
Ayna - оконное стекло, зеркало<br />
Barxana - домашняя утварь, предметы быта.<br />
В «Толком словаре азербайджанского языка» слово kəhn дано с пометой «устаревшее». Однако это слово широко употребляется<br />
в художественной литературе, в частности, в прозе. Оно распространенно в западной группе диалектов и говоров азербайджанского<br />
языка.<br />
Vədə - время. Употребляется в поэзии И. Гейчайлы, Б.Фарманзаде, А. Кюрчайлы.<br />
Qağa – в диалектологическом словаре дано в значениях «отец», «старший брат». В «Толковом словаре азербайджанского языка<br />
и дается как слово разговорного языка, употребляющееся при уважительном обращении к старшему брату, дяде, вообще к близкому<br />
человеку.<br />
Qahmar –qəhmər – в «Толковом словаре азербайджанского языка» это слово дано в значениях «сторонник; опора, помощь, заступник».<br />
Азербайджанские поэты, (А.Кюрчайлы, Б.Вагабзаде и др.) живущие и создающие свои произведения в центре, далекие от<br />
влияния диалектов и говоров, используют диалектизм qahmar-qəhmər как синоним слов «сторонник», «заступник». Возможно, что<br />
эти поэты не употребляют данное слово в речи, однако в стихотворении оно используется с особой эмоцией и привносит в<br />
письменную речь народный дух.<br />
Doqqaz – в «Диалектологическом словаре» это слово дано в трех значениях – «ворота», «улица», «изгородь».<br />
Əppək – хлеб. Это слово часто встречается в художественной литературе. Оно употребляется в большинстве диалектов азербайджанского<br />
языка. Хотя данное слово перешло в разговорный язык, однако оно не является нормой для устного литературного языка.<br />
Это слово, зафиксированное в древнейших тюркских письменных памятниках, употребляется в различных фонетических вариантах<br />
в тюркских языках.<br />
Yana – для, ради. В «Толковом словаре азербайджанского языка» оно дано с стилистической пометой «разг.». Хотя этот послелог<br />
широко употребляется, однако он не является словом литературного языка. Данное слово в основном употребляется в западной<br />
группе диалектов.<br />
Yassar – неумелый, непутевый<br />
Mələfə - простыня. В «Диалектологическом словаре» отмечается употребление этого слова как в диалектах Нахчыванской АР,<br />
так и в западной группе диалектов и говоров азербайджанского языка.<br />
Bələnmək – в «Толковом словаре азербайджанского языка» это дается слово в значениях «пачкаться, мараться».<br />
Мы полагаем, что данное слово является метафоризированной формой слов bələk «пеленка» - bələmək «пеленать».<br />
Əylənmək¹ – остановить, прекратить. Употребляется в поэзии Ильяса Тапдыга.<br />
Əylənmək² – омоним, означающий «задерживаться, медлить, мешкать». Эти значения носят диалектный характер.<br />
İrişmək – слово-омоним: 1.дойти; поспеть, созреть. 2.попусту смеяться, хихикать. Это слово в обоих указанных значениях<br />
встречается в азербайджанской поэзии (Лятиф Мустафа оглы и др.).<br />
Примечательно, что в «Толковом словаре азербайджанского языка» первое значение – «дойти» - не дается.<br />
Anaxtar – (Дманиси, Марнаули) – замок, ключ, ключ от сундука. Выдающийся азербайджанский поэт Расул Рза использует это<br />
редкое слово в метафорическом значении – букв. сундук мастерства, ключ мастерства.<br />
Qor – ocaq – головешки. Мастера слова (например, Мамед Араз), метафоризируя обычную, нейтральную языковую единицу<br />
«qor», употребляют ее в значении искорки, вспыхивающей при первой встрече влюбленных.<br />
Zağa – пещера, логово. Поэт Мамед Араз в стихотворении «Открытое письмо горе» использует диалектные слова zağa «пещера,<br />
логово», yava “вилы”. На первый взгляд эти слова усложняют текст, однако из общего содержания стихотворения мысль поэта ясна<br />
читателю. Поэт, хорошо знакомый с диалектной лексикой, используя эти слова как синонимы (т.к. у этих слов есть эквиваленты в<br />
общенародном языке, в литературном языке), индивидуализируют манеру выражения и вносят свежую струю в стих.<br />
Yambız – бедро; бок. В «Толковом словаре азербайджанского языка» это слово дано без стилистической пометы, примеры<br />
приведены из художественной литературы. Ясно, что слово yambiz употребляется не в литературном языке, а в диалектах, и<br />
писатели используют его в различных стилистических целях. Например, поэт Халил Рза использует это слово в негативном<br />
значении в целях острой сатиры.<br />
Cəhlim – след, дорога. Это слово больше употребляется в Зангеланском районе Азербайджана. Из азербайджанских писателей<br />
Мамед Араз, Гусейн Ариф в своих стихотворениях часто употребляют это слово.<br />
Urva – мука, которой посыпают свежеиспеченный хлеб. В шамахинском диалекте это слово употребляется в фонетическом<br />
варианте «urafa». В этом же значении данное слово в разных фонетических вариантах встречается почти во всех тюркских языках.<br />
Şülək- полоска материи, рулон материи. Это слово часто встречается в азербайджанской поэзии в метафорическом значении<br />
(например, в произведениях Расула Рзы).<br />
Глаголы по национальному составу, богатству и разнообразию семантики, связи с живым разговорным языком, с глаголами, архаизировавшимися<br />
в литературном языке, отличаются от других частей речи. «Поскольку в диалектах и говорах глагол обладает<br />
более богатыми и интересными особенностями, глагольные диалектизмы могут выступать как экспрессивное средство в<br />
художественном творчестве. Экспрессивность таких глаголов позволяет мастерам слова использовать их для описания внутреннего<br />
мира персонажей, их чувств, поступков, взаимоотношений и выражения субъективного отношения к событиями.<br />
В современной азербайджанской поэзии встречаются диалектные глаголы, имеющие относительно ограниченную сферу<br />
употребления, но обладающие рядом интересных семантических и стилистических особенностей. Некоторые из них - глаголы,<br />
когда –то употреблявшиеся в языке азербайджанской классической литературы, архаизировавшиеся в современном языке и<br />
сохранившиеся в диалектах и говорах».<br />
Axnamaq – ağnamaq - cыпаться, летать, упасть, разрушиться; литься. Глагол ağnamaq, данный в диалектологическом и толковом<br />
119<br />
Philological sciences<br />
Germanic languages
Philological sciences<br />
словарях с стилистической пометой «огр.», в «Древнетюркском словаре» зарегистрован в этом же значении.<br />
Axnamaq – ağnamaq - cыпаться, летать, упасть, разрушиться; литься. Глагол ağnamaq, данный в диалектологическом и толковом<br />
словарях с стилистической пометой «огр.», в «Древнетюркском словаре» зарегистрован в этом же значении.<br />
Döşürmək - döşürməx - yığmaq - собирать. Встречается в поэзии М.Алекберли, А.Кюрчайлы. Этот глагол дается в значении<br />
«собирать» в книге М.Ш.Ширалиева «Основы азербайджанской диалектологии» и в словарном разделе «Древние азербайджанские<br />
слова» книги Т.И.Гаджиева, К.Н.Велиева «История азербайджанского языка».<br />
Vaysınmaq - вздыхать<br />
Quylanmaq - войти; утонуть (в поэзии М.Араза)<br />
Zivlənmək - скользить<br />
Употребление диалектных глаголов в метафорическом значении, в качестве средств художественной выразительности наглядно<br />
показывает, что диалектные слова, попадая в художественную литературу, превращаются в этой среде в поэтические слова и<br />
выполняют поэтические функции.<br />
Главные задачи создателей художественного языка, стиля заключаются в том, чтобы оставаясь верными грамматическим,<br />
лексическим, семантическим законам, традициям, опираясь на его внутренне закономерности языка, создавать новые слова,<br />
выражения, расширять границы метафорических значений, превращать диалектные слова в поэтизмы в художественной сфере и<br />
таким образом делать их достоянием народа. Мастерство писателя – творчество, и языковой материал является формой этого<br />
творчества; тропы, образованные с помощью диалектных слов, привнесенных в художественное произведение, - метафоры,<br />
стилистические фигуры –воспринимаются читателями как новые единицы и знакомят их с диалектами и говорами языка.<br />
Безусловно, здесь речь идет не об неуместном использовании диалектных слов, усложняющих текст, а об умении поэтов<br />
мастерски использовать их в своих произведениях. Любое языковые явление может приобрести поэтический характер в конкретной<br />
творческой среде.<br />
Как показали наши наблюдения, диалектные слова используются поэтами в различных целях: для передачи местного колорита,<br />
для создания или усиления комического эффекта, для точного изображения реалий, для выразительности языка персонажей и т.д.<br />
Они отражают быт и нравы людей, живущих в данной местности, и создают территориальную языковую картину мира.<br />
Литература:<br />
На азербайджанском языке<br />
1. Диалектологический словарь азербайджанского языка. Баку, изд. АН, 1990.<br />
2. Толковый словарь азербайджанского языка в 4-х томах. Баку, 2006.<br />
3. Азизов Э. Исторический диалектологический словарь азербайджанского языка. Баку, 1999.<br />
4. Халилов Б. Лексикология современного азербайджанского языка. Баку, 2008.<br />
5. Эфендиева Т. Проблемы стилистики азербайджанского литературного языка. Баку, Элм, 2001.<br />
На русском языке.<br />
6. Пшеничнова Н.Н. Русская диалектология: Итоги и перспективы. Вопросы языкознания, 1985, №6.<br />
КУЛЬТУРА НАУЧНОГО ОБЩЕНИЯ: ХЕДЖИНГ В АКАДЕМИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ<br />
Ветрова О.Г., канд. филол. наук, проф.<br />
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, Россия<br />
Участник конференции,<br />
Национального первенства по научной аналитике<br />
Думаю – значит, существую.<br />
Сомневаюсь – значит, думаю.<br />
Germanic languages<br />
Академический дискурс, как и другие виды дискурса, может трактоваться в зависимости от критериев, положенных в основу<br />
рассмотрения данного понятия: с точки зрения коммуникативного, структурно-стилистического, структурно-семантического,<br />
структурно-синтаксического, социально-прагматического подходов - как нетекстовую организацию разговорной речи, характеризующуюся<br />
нечётким делением на части, господством ассоциативных связей, спонтанностью и высокой контекстностью; как текст, погруженный<br />
в ситуацию общения, в жизнь (Н.Д. Арутюнова); как социально или идеологически ограниченный тип высказываний (Серио П.);<br />
либо как особый язык в языке, выражающий особую ментальность и имеющий свои тексты (Ю.С. Степанов). Сторонники функционального<br />
подхода (Schiffrin) считают, что изучение дискурса обуславливается функциями языка и функциональными<br />
особенностями речи; лингвостилистический подход предполагает выделение регистров общения на основе анализа дискурса, разграничение<br />
речи на устную и письменную в их жанровых разновидностях (Frow, Coupland, Bhatia); лингвокультурологический<br />
подход устанавливает специфику дискурса в рамках определенной этнокультурной сообщности, определяет набор формул речевого<br />
и этикетного общения (Карасик); когнитивно-семантический подход рассматривает дискурс с точки зрения реализации тех или<br />
иных коммуникативно-когнитивных структур, выраженных фреймовыми моделями, содержащими информацию социокультурного<br />
характера (Макаров, Сухих, Зеленская).<br />
Выделяется ряд общих положений, свойственных академическому дискурсу (АкД) как виду дискурса:<br />
1) АкД динамичен по своей природе;<br />
2) АкД реализуется только в коммуникативных ситуациях академического общения: в вузовской аудитории, в конгрессной и<br />
конференционной среде, в научных текстах и т.д.;<br />
3) ведущую роль играют коммуниканты, а не средства общения;<br />
4) АкД неразрывно связан с докоммуникативной и посткоммуникативной стадиями общения, что особенно важно в условиях<br />
приемственности и прогрессивного развития научного знания;<br />
5) результатом дискурсивных процессов является порождение текста,-<br />
что проявляется во всех формах АкД, в том числе, в рамках конференционной деятельности.<br />
Понятие «академический дискурс» с позиций лингвокультурологического подхода учитывает степень отличий в коммуникативном<br />
поведении, речевых правилах, предпочтениях, способах говорения и выборе дискурсивных стратегий определенного социального,<br />
120
культурного и языкового коллектива, контингент которого составляют студенты, а также ученые, преподаватели, аспиранты,<br />
исследователи, научные работники.<br />
В условиях конференции академический дискурс приобретает профессиональную направленность и как предмет когнитивносемантических<br />
исследований содержит основную, типическую и потенциально возможную информацию, ассоциированную с тем<br />
или иным концептом и заключенную в определенных фреймах. Это проявляется в содержании проектов, представляемых<br />
участниками конференций, и являющимися предметом обсуждения аудиторией.<br />
Конференционная деятельность конкретизирует академический дискурс, что позволяет рассматривать его с точки зрения<br />
структуры ситуации общения, соотнося данное понятие с участниками речевого акта, с их интенцией / коммуникативным<br />
намерением и степенью воздействия друг на друга. Исходя из этого, представляется допустимым определять конференцию как<br />
форму социального взаимодействия, в рамках которой осуществляется особый вид общения, цели, нормы, стратегии и инструментарий<br />
которого необходимо исследовать для совершенствования профессиональной коммуникации в период обучения в вузе и в<br />
последующей практической деятельности.<br />
Содержание дискурса в условиях конференционного общения включает пресуппозиции и фоновые знания, знание и понимание<br />
которых нейтрализует возможные межкультурные барьеры в общении. Этому же способствует владение определенными<br />
дискурсивными стратегиями, способствующими кодированию и декодированию содержания АкД.<br />
С учетом специфики АкД в рамках коференций особого внимания заслуживает хеджинг – лингвистический ресурс, который<br />
передает фундаментальные характеристики науки: сомнение и скептицизм. Точность и конкретика АкД обусловливают компетентное<br />
владение приемами хеджинга – явления, формулировкой которого мы обязаны Дж. Лакофу ?1?.<br />
В хеджинге находит свое отражение то, как АкД позиционируется и структурируется с социальной точки зрения для достижения<br />
коммуникационных целей. Хеджинг позволяет выразить отношение к реальности и мнение участников дискурса по поводу<br />
подаваемой и воспринимаемой информации, а также проявляет валидность данных в информационном потоке. Это реализуется с<br />
помощью целого ряда лингвистических приемов (стилистических, лексических, грамматических, etc.).<br />
Особые сложности возникают при АкД на иностранном языке, что характерно для международных конференций. Как<br />
показывают исследования англоязычных материалов международных конференций, российские студенты-участники (а нередко – и<br />
зрелые ученые), даже вполне владеющие грамматикой и лексикой английского языка, бессознательно игнорируют приемы хеджинга<br />
и невольно, не давая в том отчет, выбирают излишне категоричную манеру изложения, что вызывает недоумение у аудитории,<br />
поскольку категоричные высказывания и заключения звучат и выглядят вызывающе и могут быть расценены как интеллектуально<br />
фальшивые. В межкультурном ракурсе пренебрежение хеджингом придает речи излишне агрессивный вид, что не способствует соблюдению<br />
принципа Кооперации. (Агрессивность и напористость – характерные обвинения, нередко выдвигаемые против наших<br />
соотечественников в ситуациях межкультурного общения.)<br />
Использование приемов хеджинга находится в прямой зависимости от формы АкД и даже от структурного компонента текста<br />
(так, обзорные материалы и статьи обобщающего плана значительно более хеджированы, чем материалы экспериментов и кейсы).<br />
Хеджинг как прием, используемый для снижения уровня категоричности высказывания, свойственен речи профессионалаученого,<br />
который сознает, что в науке следует действовать осторожно, осмотрительно и деликатно.<br />
Поскольку хеджинг характеризует профессиональное общение на высоко дипломатичном уровне, эта стратегия позволяет<br />
знакомить аудиторию со своей позицией в исследовательской практике, не навязывая своего мнения, не отвергая возможность<br />
критики, осторожно и деликатно продвигаясь по пути к познанию истины. Соответственно, стратегия хеджинга представляет собой<br />
важный ресурс академического общения и заслуживает внимания в формировании профессиональных компетенций выпускников<br />
университета как специалистов и как ученых.<br />
Литература:<br />
1. Lakoff G. Hedges: A Study in Meaning Criteria and the Logic of Fuzzy Concepts. Chicago, 1972. P. 183-228<br />
Philological sciences<br />
О НЕКОТОРЫХ ИТОГАХ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЭВОЛЮЦИОННОГО РАЗВИТИЯ<br />
ФОЛЬКЛОРНОГО ДИСКУРСА В КОНТЕКСТЕ БРИТАНО-АНГЛИЙСКОЙ СИТУАЦИИ<br />
Колистратова А.В., преподаватель<br />
Братский государственный университет, Россия<br />
Участник конференции,<br />
Национального первенства по научной аналитике<br />
Статья посвящена исследованию эволюционного развития дискурса фольклора в контексте британо-английской ситуации. В<br />
связи с этим обсуждается проблема семиотической природы фольклорных знаков в различные периоды культурного развития<br />
общества, рассматриваются условия становления жанровой системы фольклора в процессе его исторического развития, а<br />
также поднимается вопрос о необходимости интегрированного изучения фольклорного дискурса.<br />
Ключевые слова: фольклорный дискурс, жанровая система, возможный мир, архетип.<br />
В настоящей статье представлены некоторые итоги исследования дискурса фольклора с привлечением положений теории<br />
возможных миров и аналитической психологии, позволяющие утверждать о наличии ряда особенностей, характеризующих данный<br />
тип дискурса.<br />
В современной научной литературе представлен широкий диапазон определений понятия дискурс, которое является<br />
объединяющим началом в исследованиях гуманитарного знания. Особый интерес вызывает толкование данного понятия,<br />
принадлежащее Ю.С. Степанову. Ученый считает, что дискурс – это «первоначально особое использование языка для выражения<br />
особой ментальности» [Степанов, 1995, с. 38]. Другими словами, согласно теории Ю.С. Степанова дискурс продуцируется как<br />
особый «ментальный мир», конструируемый на основе архетипического бессознательного.<br />
Таким образом, под термином дискурс фольклора мы предлагаем понимать следующее: фольклорный дискурс – непрерывно<br />
воспроизводимая, в процессе устной или письменной коммуникации, вербальная часть народного творчества, основанная на архетипическом<br />
бессознательном, создаваемая социальной или этнической общностью, в которой отражаются ее ожидания, культура<br />
быта, система ценностей.<br />
121<br />
Germanic languages
Philological sciences<br />
Germanic languages<br />
Лингвосемиотический анализ эволюции фольклорного дискурса в британо-английском контексте ситуации указывает на то, что<br />
формирование нового фольклорного знания действительно происходит на основе архетипического бессознательного, существующего<br />
в сознании в форме определенных психических архетипов, и отражающегося в семантике языковых знаков, определенная<br />
совокупность которых образует фольклорные тексты.<br />
Понятие «психический архетип» рассматривается в работе с опорой на положения, выдвинутые К.Г. Юнгом, следуя которым<br />
нам удалось выявить те самые архетипические следы в фольклорном дискурсе на разных этапах общественного развития Англии.<br />
В ходе исследования мы пришли к выводу о том, что в текстах фольклора наиболее явно высвечиваются признаки психического<br />
архетипа Трикстера [см. К.Г. Юнг].<br />
Следуя положениям теории возможных миров, представленных в работах современных ученых [см. А.П. Бабушкин, С.Н.<br />
Плотникова], получаем, что фольклорный дискурс выступает подобием такого дискурсивного «конструктора» мира, где происходит<br />
объединение представителей различных дискурсивных сообществ для достижения общей цели. В момент порождения дискурса<br />
они осуществляют совместное дискурсивное конструирование мира, понимание которого возможно посредством тщательного семантического<br />
анализа лексем, входящих в состав его высказываний.<br />
Изучение основных этапов формирования англоязычного фольклорного дискурса позволяет выявить глубинные механизмы человеческого<br />
сознания и восприятия информации и проследить изменения мышления в процессе развития ценностей определенного<br />
социума в разные исторические периоды.<br />
Следует отметить, что процесс исследования фольклорного дискурса эпохи Средневековья представляет собой достаточно<br />
сложную процедуру, поскольку проследить бытование фольклорных текстов той далекой от нас эпохи в процессе устной<br />
коммуникации не возможно. Более того, уникальность фольклорных текстов рассматриваемого исторического периода развития<br />
общества обусловлена сложностью поиска самих текстов. В данной статье в качестве иллюстративного материала мы в основном<br />
используем примеры, заимствованные из книги Джорджа Тревельяна «История Англии» [Trevelyan, 1926].<br />
В научной литературе эпоху Средневековья именуют «темными веками», однако данный период характеризуется также как<br />
время поисков нового содержания и новых форм культуры, положившее начало собственно европейской истории. Средневековая<br />
Англия – период в истории Англии, начавшийся в V веке с вывода римских войск из провинции Римская Британия и вторжения<br />
германцев, а закончившийся в XVI веке. Окончанием Средних веков в Англии считается период правления Генриха VIII.<br />
Таким образом, рассматриваемая эпоха представляет собой длительный период в истории, в рамках которого происходило<br />
зарождение определенных механизмов человеческого сознания, вскрытие которых помогает лучше понять особенности современного<br />
дискурса фольклора.<br />
В период раннего средневековья идейные позиции феодалов и крестьян еще не оформились и крестьянство, только рождавшееся<br />
как особый класс общества, в мировоззренческом отношении растворялось в более широких и неопределенных слоях [Гуревич,<br />
1990]. Однако необходимо отметить, что абсолютное преобладание сельского населения не могло не сказаться на всей системе<br />
отношений человека с миром: способ видения мира, присущий земледельцу доминировал в общественном сознании и поведении.<br />
Привязанный к земле хозяйством, поглощенный сельским трудом, человек воспринимал природу как часть самого себя, и не<br />
относился к ней как к простому объекту приложения труда. Крестьянин рассматривал землю как свое продолжение. Картина мира,<br />
которая доминировала в сознании средневекового крестьянина, оказывалась стабильной, неподвижной.<br />
Необходимо отметить, что «средневековое общество в своей толще было обществом бесписьменным» [Гуревич, 1981, с. 19] в<br />
котором большая роль отводилась устной словесности. Таким образом, одним из основных фольклорных жанров той эпохи была<br />
поэзия бардов, которая помогала укреплять национальный дух и чувство превосходства перед завоевателями, истребляющими<br />
местное население и изгоняющими их с плодородных равнинных земель на горные территории.<br />
Барды – (ирландск. bard, валлийск. bardd, слово неизвестного значения) — певцы-поэты у кельтских народов. Поэзия их — исключительно<br />
лирическая, с намеками на героизм, поэзия природы, любовная и религиозная. Главное назначение бардов –<br />
восхвалять своего правителя и хулить своих врагов. Барды пользовались, особенно у галлов и валлийцев, большим моральным<br />
авторитетом и влиянием на политические дела. Они были носителями национальной идеи, но в то же время и разжигателями<br />
внутренних распрей [http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_literature/534/Барды].<br />
Таким образом, становится вполне ясным смысловое содержание одного древнего уэльского заклинания, пророчащего судьбу<br />
захватчиков:<br />
Their God they shall praise,<br />
Their language they shall keep,<br />
Their land they shall lose except wild Wales [Trevelyan, 1926, P. 47]<br />
Следующей важнейшей особенностью средневековой культуры является особая роль христианского вероучения и христианской<br />
церкви, которая имела доминирующее влияние на сознание населения. На фоне ограниченных знаний об окружающем мире,<br />
церковь предлагала людям стройную систему знаний о мире, его устройстве, действующих в нем силах. Эта картина мира целиком<br />
определяла менталитет верующих селян и горожан и основывалась на образах и толкованиях Библии. Таким образом, значение<br />
звучащего слова в средневековой культуре было чрезвычайно велико. Молитвы воспринимались функционально как заклинания,<br />
проповеди на библейские сюжеты – как руководство к обыденной жизни, магические формулы – как способ решить проблемы. Все<br />
это формировало средневековый менталитет. Люди привыкли напряженно вглядываться в окружающую действительность,<br />
воспринимая ее как некий текст, систему символов, содержащих некий высший смысл. Эти слова-символы надо было уметь<br />
распознать и извлекать из них божественный смысл. Природа в средневековом понимании, как раз и была тем великим резервуаром<br />
символов, что можно проиллюстрировать следующими паремиями:<br />
1) Snowflakes are kisses from heaven.<br />
2) Snowmen fall from heaven … unassembled.<br />
Семантика слов “snowflakes”, “snowmen” представлена в словарях очень узким диапазоном интерпретанты. Так, “snowflakes”<br />
представлена следующими словарными дефинициями: 1) one of the small, feathery masses or flakes in which snow falls(RHDEL); 2) a<br />
small flat six-sided bit of frozen water that falls as snow (LDELC). Имя “snowmen” интерпретируется как 1) a figure, resembling that of a<br />
man, made out of packed snow (RHDEL); 2) snow shaped to resemble a human figure (WNCD). Семантика лексемы “heaven”<br />
раскрывается в словарной помете: “heaven is a common religious cosmological or metaphysical term for the physical or transcendent place<br />
from which heavenly beings (such as God, angels) originate, are enthroned or inhabit. It is commonly believed that heavenly beings can<br />
descend to earth or take on earth flesh and earthly beings can ascend to Heaven in the afterlife or in exceptional cases enter Heaven alive.<br />
Heaven is often described as a “higher place”, the holiest place, a Paradise. Some believe in the possibility of a Heaven on Earth in a World to<br />
Come [Wikipedia].<br />
Таким образом, можно предположить, что употребление данных знаков в языке фольклора имеет общую интерпретанту<br />
«явления природы из Рая, святого, божественного места».<br />
Преобладание особого «церковного» мировоззрения в эпоху классического Средневековья обусловило существование особой<br />
122
культуры, пронизанной элементами смирения, страха преодолевать который помогал целый мир смеховых форм, отражающих происходящие<br />
события. Так появился фольклорный жанр – перевертыши, активно использовавшийся актерами и певцами, выступающими<br />
на городских площадях во время народных праздников, ярмарок, гуляний. Приведем иллюстрирующий данное положение пример:<br />
A man in the wilderness asked me,<br />
How many strawberries grow in the sea?<br />
I answered him, as I thought good,<br />
As many as red herrings grow in the wood.<br />
В данном примере, на наш взгляд, контрастируют два сценария, в одном из них опорной номинацией является red herrings,<br />
которая имеет переносное значение. Обратимся к анализу словарных дефиниций знака «red herrings»: 1) a fact or subject which is<br />
introduced to draw people attention away from the main point (LDELC); 2) something intended to divert attention from the real problem or<br />
matter at hand; a misleading clue; 3) something that distracts attention from the real issue (WNNCD). Таким образом, по принципу<br />
семантического сложения выводим следующее внутрилексемное значение: a subject which is introduced to draw people attention from<br />
the real problem, a misleading clue that distracts attention from the real issue. Дефиниционный анализ выявляет наличие переносного<br />
значения словосочетания «red herrings», которое раскрывает иной сценарий, контрастирующий с первым. Другими словами,<br />
происходит игра смыслов, возникающая в результате противопоставления сценариев. Следовательно, можно заключить, что<br />
перестановки слов в фольклорном тексте осуществляют двойное действие: с одной стороны, создают комический эффект,<br />
объединяя несопоставимое, с другой стороны, происходит образование знака, обладающего новым семантическим значением.<br />
Таким образом, игровое начало фольклорного сознания, воплощенное в языковых формах фольклора, выводит человека в<br />
«возможный мир», в котором отсутствуют законы и правила реального мира.<br />
Создаваемый языком фольклора возможный мир предоставлял средневековому человеку возможность проживать в нескольких<br />
возможных мирах, что являет собой, по сути, реализацию функции Трикстера. В языке, проявление данного архетипа в эпоху<br />
Средневековья находит свое отражение в семантике знака, которая раскрывается в зависимости от контекста ситуации. Следующий<br />
пример также является яркой иллюстрацией специфических особенностей фольклорных текстов эпохи Средневековья.<br />
One fine October morning<br />
In September, last July,<br />
The moon lay thick upon the ground,<br />
The snow shone in the sky.<br />
Данный пример является прототипически сильной иллюстрацией архетипа Трикстера - логической подмены, способствующей<br />
конструированию «возможного мира». В данном примере отчетливо наблюдается нарушение отношений логического субъекта и<br />
предиката. Другими словами, предикация отражает такое состояние субъекта, которое не соответствует ее основному свойству, отнесенности<br />
к действительности. Таким образом, можно говорить о нарушении логики здравого смысла, которая «мгновенно<br />
отделяет истину от вымысла и фантазии на основании принципа: «так в жизни не бывает» [3]. В результате семантического анализа<br />
лексем, входящих в состав представленного иллюстрационного материала было установлено, что бессмысленные, на первый<br />
взгляд, фольклорные высказывания обладают довольно мощной иллокутивной функцией, которую описать в текстах подобного<br />
рода сложно. Здесь наблюдается чисто игровая культура, в основе которой – ритм и, очевидно, иллокутивная функция определяется<br />
в природном назначении игры, которая ставит ритм выше смысла. Она не может быть определена более конкретно, в силу того, что<br />
назначение деятельности, связанной с фольклорным дискурсом не имеет выраженной прагматической цели, поскольку все<br />
фольклорные ритуалы, празднества – это попытки уйти от действительности, которая в средние века была суровой.<br />
Необходимо отметить еще одну особенность, повлиявшую на становление мировоззрения Средневекового англичанина. Это<br />
активная христианизация общества. Именно в эпоху Средневековья миссионеры активно понесли христианство в массы. Как мы<br />
уже упоминали, христианство являлось идейным стержнем культуры и духовной жизни средневекового сознания. Поскольку<br />
основная масса общества оставалась все еще неграмотной, миссионеры должны были растолковывать народу основные положения<br />
богословия и внушать принципы христианского поведения. Для того чтобы в течение длительного времени удержать внимание<br />
публики некоторые миссионеры пользовались короткими рассказами, написанными виде притчей на житейские темы. Другими<br />
словами, была создана почва для образования таких фольклорных жанров как предания и легенды. Христианские миссионеры<br />
следовали и внедряли определенные доктрины о рае и аде, как попасть в один и избежать другого. Приведем пример,<br />
иллюстрирующий данное положение:<br />
The present life of man upon earth seems to me, in comparison with that time which is unknown to us, like to the swift flight of a sparrow<br />
through the house wherein you sit at supper in winter, with your Ealdormen and thegns, while the fire blazes in the midst and the hall is<br />
warmed, but the wintry storms of rain or snow are raging abroad. The sparrow, flying in at one door and immediately out at another, whilst<br />
he is within, is safe from the wintry tempest; but, after a short space of fair weather, he immediately vanishes out of your sight, passing from<br />
winter into winter again. So this life of man appears for a little while, but of what is to follow or what went before we know nothing at all. If,<br />
therefore, this new doctrine tells us something more certain, it seems justly to deserve to be followed [Trevelyan, 1926, P. 51-52]<br />
В противовес этим догмам в обществе существовали поэтические версии популярных суеверий о потусторонней жизни, что<br />
привело к образованию таких фольклорных жанров как быличка, сказка.<br />
Очевидно, что вся культурная жизнь средневекового периода прошла сложный путь в своем развитии. Фольклор как составная<br />
часть этой культуры представляет собой не простую совокупность словесных форм устного народного творчества. Это целостная<br />
система народных знаний, особый национальный взгляд на мир. Что касается жанровой системы фольклора в эпоху Средневековья,<br />
то можно предположить, что она обусловлена ситуациями ритуализованного быта, структурами мифологического мышления и<br />
неотделима от них. Массовая средневековая культура опиралась на изустные проповеди и увещевания. Она существовала через<br />
сознание безграмотного человека. Это была культура молитв, мифов, легенд, заклятий, уличных песен бардов, приукрашенных<br />
проповедей служителей церкви.<br />
В исторический период, именуемый в литературе, эпохой Просвещения (вторая половина XVII века в Англии) ведущая<br />
роль в духовном развитии народа переходит к профессиональному искусству. Литература и другие виды профессионального<br />
искусства начинают заимствовать фольклорные мотивы в силу их оригинальности. Данный процесс проявляется в<br />
количественном уменьшении объема фольклорного текста, в частичном или полном переосмыслении его содержания. В<br />
качестве примера, иллюстрирующего данное положение, приведем фольклорный текст, изначально повествующий о великой<br />
чуме в Лондоне, первыми признаками которой были розовые пятна на коже человека и усиленное чиханье, а неизбежным<br />
концом – смерть. Однако, со временем, он утрачивает связь с историческим событием прошлого и функционирует в качестве<br />
безобидной детской песенки-игры.<br />
Ring around the rosy<br />
A pocketful of posies<br />
123<br />
Philological sciences<br />
The flowers were singing gaily<br />
And the birds were in full bloom.<br />
I went down to the cellar<br />
To sweep the upstairs room (К.Н. Атарова)<br />
Germanic languages
Philological sciences<br />
“Ashes, Ashes”<br />
We all fall down! (http://www.rhymes.org.uk/ring_around_the_rosy.htm)<br />
Анализ исторических корней детских стишков, собранных в книге “Mother Goose Rhymes”, указывает на то, что большая часть<br />
из них представляет собой переосмысленную и сокращенную форму старинных заклинаний, поверий, обычаев, примет, заговоров,<br />
баллад, любовных песен и много другого. Таким образом, логично утверждать, что переосмысленная сокращенная форма<br />
фольклорного текста эпохи Просвещения способствует зарождению особого возможного мира, в семантике которого запечатлевается<br />
иное отношение общества к миру.<br />
Формирование культурных доминант эпохи постмодерна осуществляется под большим влиянием информационных технологий,<br />
создающих благоприятную среду для непрерывной смены культурного контекста. Стремительное развитие современного мира<br />
требует столь же стремительных перевоплощений от личности, обусловленных сменой контекста интерпретаций.<br />
В связи с ослаблением взаимодействия человека с земельными ресурсами, так называемая «жизнь по календарному<br />
циклу», которая была характерна для этноса, уходит в прошлое. Стремительный темп социального развития<br />
способствует переосмыслению сущности понятия «ресурс выживания», который взаимосвязан с непрерывным возникновением<br />
стрессовых ситуаций. Под стрессовыми ситуациями мы понимаем свершение событий, имеющих<br />
отношение к сохранению современных человеческих благ: престижа, материальной состоятельности, почета и<br />
уважения в обществе. Таким образом, страх становится ключевым видом человеческого отношения к миру. Страх<br />
вырывает человека из повседневной жизни и открывает нечто совершенно новое. Новое, всегда страшно, поскольку<br />
выступает в таинственном, необычном виде, источником которого является архетипическое бессознательное.<br />
Примерами, подтверждающим вышеизложенные суждения, могут послужить многочисленные городские сетевые<br />
легенды, репрезентирующие современный фольклорный дискурс.<br />
Однако мы считаем необходимым, в рамках данной статьи, обращение к анализу современных сетевых городских легенд с<br />
целью вскрытия еще одной специфической особенности фольклорного дискурса, вернее того знания, которое заложено в<br />
высказываниях, формирующих фольклорные тексты. В качестве иллюстративного материала рассмотрим сетевую городскую<br />
легенду (3) “The Tale of the Hookerman”<br />
(http://urbanlegendonline.com)<br />
Следует подчеркнуть, что уже в первом смысловом единстве, рассматриваемого примера, наблюдается изменение дейктического<br />
обозначения времени.<br />
Long ago, when the trains were still the main commerce transportation in the state, an accident occurred on the tracks of Budd Lake. Now<br />
these tracks, which run through Netcong, Flanders, and Budd Lake, were said to carry coal, and other fuel sources.<br />
Таким образом, в рамках одного смыслового единства наблюдается оппозиция дейктических слов long ago – now, которая<br />
конструирует особое пространство, пространство без временной границы.<br />
Более того, употребление лексемы trains в высказывании When the trains were still the main commerce transportation указывает на<br />
определенный исторический период (XVII в.), характеризующийся наличием железнодорожного транспортного средства,<br />
используемого для удовлетворения потребностей общества.<br />
Необходимо отметить, что с середины XVII века в обществе прочно укоренилась протестантская идеология, отличительной<br />
чертой которой является единство веры и знания. В этом плане интерес вызывает следующее высказывание городской легенды:<br />
Now, for all intents and purposes, there actually is a green light that seems to hang over the tracks in this area – but unscarily enough it<br />
is supposedly due to chemical deposits in the soil, either due to pollution or natural mines. Still, the sight of the green light on the tracks in the<br />
middle of the night will always recall the tragic tale of the Hookerman.<br />
В заключительной части фольклорного текста происходит рациональное объяснение причины. Речь идет о последовательном<br />
перечислении природных явлений – chemical deposits in the soil, pollution, natural mines. Таким образом,<br />
лингвистический анализ современного фольклорного дискурса позволяет сделать вывод о наличии тесной взаимосвязи<br />
архетипического и естественнонаучного знания.<br />
Итак, в ходе анализа примеров, репрезентирующих фольклорный дискурс в процессе эволюционного развития<br />
были выявлены следующие характерные особенности: 1) фольклорный дискурс можно отнести к открытому типу<br />
дискурса, в котором инвариантные показатели восходят к архетипическому бессознательному; 2) в фольклорном<br />
дискурсе нарушаются основные параметры иллокутивной функции высказывания, что приводит к их нерелевантности<br />
с точки зрения речевого акта с практическим действием; 3) единство архетипического бессознательного и естественнонаучного<br />
знания является главной характеристикой фольклорного знания.<br />
Germanic languages<br />
Литература:<br />
[1] Степанов Ю.С. Альтернативный мир, Дискурс, Факт и Принцип Причинности//Язык и наука конца 20 века. – М.: Наука,<br />
1995. – С. 38<br />
[2] Юнг К.Г. Душа и миф. Шесть архетипов [Электронный ресурс]. URL: http://www.mirknig.com/ (Дата обращения 12.11.2011).<br />
[3] Бабушкин А.П. «Возможные миры» в семантическом пространстве языка. – Воронеж: Воронежский государственный<br />
университет, 2001. – 86 с.<br />
[4] Плотникова С.Н. Языковое. Дискурсивное и коммуникативное пространство//Вестник ИГЛУ. Сер. Филология: Язык.<br />
Культура. Коммуникация. – Иркутск: ИГЛУ, 2008. – Вып. 1. – С. 131-136.<br />
[5] Гуревич А.Я. Средневековый мир и культура безмолвствующего большинства [Текст] / А.Я. Гуревич. - М.: Искусство, 1990.<br />
[6] Гуревич А.Я. Проблемы средневековой народной культуры [Текст] / А.Я. Гуревич. - М.: Искусство, 1981.<br />
[7] Trevelyan, G.M. History of England. – Longmans, Green and Co. LTD, 1926. – 723 p.<br />
Источники примеры:<br />
(1) Атарова К.Н. Стихи Матушки Гусыни: Сборник / Составл. К.Н. Атаровой. – На англ. и русск. яз. – М.: ОАО Издательство<br />
«Радуга», 2003. – 384 с.<br />
(2) Nursery Rhymes - Lyrics, Origins & History! http://www.rhymes.org.uk/ring_around_the_rosy.htm<br />
(3) Urban Legends http://urbanlegendonline.com<br />
Словари:<br />
1. LDELC – Longman Dictionary of English Language and Culture [Text]. – Edinburgh: Addison Wesley Longman, 1999. – 1568 p.<br />
2. RHDEL – The Random House Dictionary of the English Language [Text]/ Ed. by Jess Stein. – New York: Random House, 1970. –<br />
2059 p.<br />
3. WNCD – Webster’s New Collegiate Dictionary [Text] / by G.&C. Merriam Co. – Springfield, Massachusetts, U.S.A., 1973. – 1535 p.<br />
4. WNNCD – Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary [Text] / MERRIAM-WEBSTER INC., Publishers. – Springfield, Massachusetts,<br />
U.S.A., 1991. – 1566 p.<br />
124
SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASPECT OF INTERGENERATIONAL COMMUNICATION<br />
Nilova C.V., lecturer<br />
Institute of Economics Management and Law, Russia<br />
Philological sciences<br />
Conference participant,<br />
National championship in scientific analytics<br />
The article deals with intergenerational relationships as a fundamental part of the human experience, with the concept of<br />
“age-related stereotypes” and means of the older people’s stereotyping. In the framework of this study is also drawn attention<br />
to common stereotypes about old age and other communicative phenomena associated with old age. The use of certain clichés<br />
and stereotypical statements with respect to any group of people is relevant sociolinguistic question.<br />
Keywords: intergenerational relationships, age-related stereotypes, intergenerational conflict, inter-generational contract,<br />
generation gap.<br />
Intergenerational relationships are a fundamental part of the human experience. Throughout a typical day, it is common for an individual<br />
to have numerous interactions with other people. Each interaction that an individual experiences is unique and serves a specific<br />
purpose.However, these interactions are similar in that they contribute to the building and shaping of intergenerational relationships.<br />
Intergenerational communication is an important aspect of many, if not all, relationships, especially for grandparents raising their<br />
grandchildren.According to research, the communication that takes place between two or more people may help to define their relationship.In<br />
grandparents raising grandchildren (GRG) families, there is often uncertainty and tension accompanying changing family circumstances.<br />
Communication is important as a means for making family members aware of each other’s changing needs and helping them support one<br />
another. Communication is also key for helping family members learn how they can better function as a cohesive family [Leung, Kim, 2007].<br />
According to questionnaire, in the older population’s response in Bugulma Nursing Home for the elderly to question, which group of<br />
people, as opposed to the age ranges, they talk to the most. For the older individuals, Family members and grandchildren were the mostchosen<br />
answers. Out of the age groups that participants disclosed to, they were asked which they most liked to talk to. The highest number of<br />
responses from the older participants was in the 40 -49 and 30-39 categories.<br />
One factor that differentiates grandparent-grandchild relationships from parent-child relationships is the greater difference in age.The<br />
"number" that makes up a person's age is not necessarily the issue; it's the experiences of the person throughout their lifetime. Without<br />
knowing about a grandparent’s experiences during past times of personal or national financial crisis, for example, a grandchild may not<br />
understand the family finance choices the grandparent makes today.<br />
Intergenerational understanding goes both ways – older adults need to learn about<br />
the experiences to which grandchildren are exposed on a daily basis such as drugs, violence and sexual relations.Without understanding<br />
each other’s life experiences, it becomes all to easy to attribute differences of opinion to age-related stereotypes. As noted in a related article,<br />
age-related stereotypes can have a very negative impact on intergenerational communications and relationships.<br />
According to the survey of 75 students from the Kazan Institute of Economics Management and Law, (Almetyevsk branch) positive and<br />
negative phrases and a cliché in relation to the elderly were revealed and estimated on a five-point grading scale of degree of expressivity.<br />
Evaluation of semantic space of responses, expressing the relation of youth to the elderly<br />
Germanic languages<br />
125
Philological sciences<br />
Germanic languages<br />
The chosen gradation meant: «-5» – insulting, humiliating the honor and dignity of the elderly, «-4» – very bad words and expressions, «-<br />
3» – bad, «-2» – rather bad, than neutral, «-1» – are closer to the neutral; «+5» – expressing honoring, respect and love to the elderly, «+4» –<br />
very good words and expressions, «+3» – good, «+2» – rather good, than neutral, «+1» – are closer to the neutral. The class of neutral units<br />
wasn't allocated, as in subjective semantic spaces those estimates initially were excluded by us.<br />
Whether it be a parent lecturing a child, best friends sharing personal experiences, interpersonal relationships are deeply imbedded in dayto-day<br />
interactions. In order to better understand and improve interpersonal relationships, a wide range of approaches have provided valuable<br />
insight. It is important to understand the nature of intergenerational conflict. Regardless of the control that individuals have over their<br />
circumstances, conflict is an unavoidable part of every-day life. Simply put, conflict is caused by problems during typical human interaction<br />
(Klein & Hill, 1979). Because human interaction is such an integral part of life, it is impossible to not experience some degree of conflict on a<br />
regular basis.<br />
An intergenerational conflict is either a conflict situation between teenagers and adults or a more abstract conflict between two<br />
generations, which often involves all inclusive prejudices against another generation.Intergenerational conflict alsodescribes cultural, social,<br />
or economic discrepancies between generations, which may be caused by shifts in values or conflicts of interest between younger and older<br />
generations. An example are changes to an inter-generational contract that may be necessary to reflect a change in demographics. It is<br />
associated with the term "generation gap".<br />
There is a myriad of research that addresses specific types of intergenerational conflict, such as new views of grandparents (Aldous,<br />
1995), continuities and discontinuities in parenting (Campbell, 2007), religious beliefs (Copen & Silverstein, 2007), grandmothers'<br />
involvement in grandchildren’s care (Gattai&Musatti, 1999), and parental stress in grandparents related to children with behavioral problems<br />
(Harrison, Richman, &Vittimberga, 2000).<br />
This thesis aims to take a communicative approach to understanding if these tensions exist and how they are managed communicatively.<br />
Previous literature findings span across various forms of family structure from single parent to blended families to traditional two parent<br />
households (Douglas & Ferguson, 2003; Fingerman, 2004; Li, 2002; Riggs, Holmbeck, Paikoff, & Bryant, 2004). The structure of the family,<br />
values, and beliefs play a vital role in how grandparents interact with their grandchildren. Parents who have remarried spouses with children<br />
may find their experience with grandparents very differently than a single parent or a newly wedded couple. The complexity of family<br />
dynamics challenges this research because it constantly changes how people define their relationships.<br />
This research demonstrates that studying intergenerational conflict over parenting is a very complex subject that needs continued research<br />
to better learn its many nuances. Defining conflict is another communicative aspect that alters perception of intergenerational tensions.<br />
Neugarten and Weinstein (1964) defined a formal grandparentingstyle as one where the grandparent withholds advice despite disagreement.<br />
While this study was conducted in an earlier era, today’s generation continues to challenge norms and redefine society. This obviously affects<br />
the impact of communication between grandparents and their adult children. Many adults feel they know their parents well enough to know<br />
their beliefs. When a situation arises when the parent instinctively knows that the grandparent would disagree, and the grandparent simply<br />
remains silent, the parents may feel the tension. Although nothing is said at the moment of impact, the parent is often aware that tension exits.<br />
Some grandparents stay completely out of their adult child’s parenting decisions, while other grandparents impulsively interject.<br />
In addition to these two extremes, there are grandparents who fall somewhere in between. Parent-child relationships always seem to be<br />
“love-hate” (Luescher&Pillemer, 1998), and this remains true later in life when intergenerational conflict over child rearing occurs. In this<br />
research, the critical component in defining intergenerational conflict is that conflict is not necessarily negative, but rather implies a task of<br />
structuring relationships that is created by structural, situational, and personal conditions (Luescher, 2002). This study exemplifies how people<br />
must live with ambivalence and parents can cope with it in competent, productive ways (Luescher, 2002).<br />
To maintain an effective communication with grandparents, parents must acknowledge the struggles that grandparents experience. While<br />
conflict situations vary, one common denominator is the need to find satisfactory resolutions. When conflict is managed to produce<br />
satisfactory results, the damage to the relationship is typically minimal. In fact, resolving conflict can sometimes be instrumental in<br />
strengthening relationships. While many people associate the mere thought of conflict with negative connotations, conflict can provide<br />
opportunities to resolve concerns and strengthen relationships.<br />
References:<br />
1. Aldous, J. 1995, January. New views of grandparents in intergenerational context.Journal of Family Issue 16(1).104-122.<br />
2. Campbell, J, & Gilmore, L. 2007, December. Intergenerational continuities and discontinuities in parenting styles.Australian Journal of<br />
Psychology 59(3).140-150.<br />
126
Philological sciences<br />
3. Copen, C., & Silverstein, M. 2007, Autumn. Transmission of religious beliefs across generations: Do grandparents matter? Journal of<br />
Comparative Family Studies 38(4). 497-510.<br />
4. Douglas, G., &Ferguson, N. 2003. The role of grandparents in divorced families.International Journal of Law, Policy, and the Family<br />
17.41-67. Fingerman, K. L. 2004, November. The role of offspring and in-laws in grandparents ties to their grandchildren. Journal of Family<br />
Issues 25(8).1026-1049.<br />
5. Gattai, F.B., &Musatti, T. 1999. Grandmothers’ involvement in grandchildren’s care: Attitudes, feelings, and emotions.Family<br />
Relations 48(1).35-42.<br />
6. Harrison, K., Richman, G., &Vittimberga, G. 2000, March. Parental stress in grandparents versus parents raising children with behavior<br />
problems.Journal of Family Issues 21(2).262-270.<br />
7. Klein, D. M., & Hill, R. 1979. Determinants of family problem-solving effectiveness. In E. W. Burr, R. Hill, F. Nye, & I. Reiss (Eds.),<br />
Contemporary theories about the family, vol. 1, 493-548. New York: Free Press.<br />
8. Li, T.W. 2002, August. A comparison of maternal parenting style attitudes of grandmothers and mothers of young children in Taiwan:<br />
Development of a new measure of parenting style. Symposium conducted at the annual meeting of the American EducationalResearch<br />
Association, New Orleans, LA.<br />
9. Leung, T., & Kim, M. 2007. Eight Conflict Handling Styles: Validation of Model and Instrument. Journal of Asian Pacific<br />
Communication (John Benjamins Publishing Co.)17(2).173-198.<br />
10. Mandler, Luescher, K. 2002. Intergenerational ambivalence: further steps in theory and research. Journal of Marriage and Family<br />
64(3).585-593.<br />
11. Luescher, K., &Pillemer, K. 1998, May. Intergenerational ambivalence: A new approach to the study of parent-child relations in later<br />
life. Journal of Marriage and the Family 60.413-425.<br />
12. Neugarten, B.L. & Weinstein, K. 1964, May. The changing American grandparent. Journal of Marriage and the Family 26(2).199-204.<br />
13. Riggs, L., Holmbeck, G., Paikoff, R., & Bryant, F.B. 2004, August. Teen mothers parenting their own teen offspring: The moderating<br />
role of parenting support. JournalofEarlyAdolescence24(3).200-230.<br />
ADAPTATION AS A CONCEPT OF TRANSLATION AND INTERCULTUROLOGY<br />
Demetska V.V., Dr. philology, full prof.<br />
Kherson State University, Ukraine<br />
Conference participant<br />
Unanimity of theoretical interpretations of adaptation testifies to the fact, that adaptation is viewed as a “stepdaughter” of translational<br />
studies. Actually, the adaptive model of translation, adaptive theory of translation acts on a joint of translation editing, translation itself and<br />
communicative theory. The latter considers the problems of utterance adaptation within one culture, thus adaptation belongs to translational<br />
studies. However, for translational studies adaptation is also a borderline case, for it mostly suggests elimination that leads to the total<br />
alteration of the text, which is not accepted as a variant of translation by the majority of scientists.<br />
Although, translational adaptation possesses its own attractiveness because the adaptive models of pragmatic texts explicate the necessity<br />
of the usage of definite transformations that results in linking communicative theory, pragmatic linguistics and theory of translation. Adaptive<br />
translational models are called upon for disclosing the reasons of the text changes in the process of transition from one discourse to another,<br />
from one type of the text to another, from one ideology to another. These models disclose the transformational changes while trans-coding<br />
from one language to another, from one culture to another.<br />
Adaptation as one of the linguistic types of mediation is regarded by the majority of researchers as the extreme degree of transformations<br />
admissible in translation [1, 2, 3, 4]. We provide another approach according to which the adequate translation of pragmatic text isn’t possible<br />
unless adapted to the linguistic and cultural stereotypes of target audience. In this case the correlation between applied reproductive and<br />
adaptive strategies depends on the pragmatic potential of definite discourse / type of the text of source text and target text. Thus, translational<br />
adaptation does not contradict reproductive translation being an associative strategy. The main purpose of adaptive strategies lies in both the<br />
transference of pragmatic potential of discourse / text and orientation to the linguistic and cultural stereotypes of the recipient in translation.<br />
The aim of the essay is to suggest the linguistic, cultural, and methodological reasons for applying the translational adaptation to<br />
pragmatic texts.<br />
The comprehensive analysis of the “adaptation” as a notion represents the hierarchy of the typological structural, functional, cognitive,<br />
and comparative methods of political and religious discourse / text analysis. The system of the following methods provides the succession of<br />
stages which a translator keeps to while rendering discourse / text.:<br />
1) Functional method distinguishes the system of dominating functions of the text / discourse, defining their specific character in crosscultural<br />
comparison.<br />
2) Method of thesaurus definition is directed at singling out in the text realia, symbols, linguistic and cultural concepts, which mark the<br />
culture conditioned zones of the text.<br />
3) Method of distributive analysis defines frequency of functioning of culture-bearing elements in pragmatic texts with the further<br />
distribution into nuclear, periphery and marginal for determining the adaptive potential of the text / discourse.<br />
4) Text-typological method helps to differentiate convergent / divergent text features, which in their turn are obligatory / non-obligatory<br />
for adaptive translation.<br />
5) Cognitive method is aimed at determining the key concepts for this or that text / discourse, which are obligatory / non-obligatory for<br />
adaptive translation strategies.<br />
6) Contextual method of analysis deals with structural, lexical semantic and functional features of the text, which determine the types of<br />
transpositions / transformations typical of adaptive translational strategies.<br />
7) Method of symbolic interpretation defines and interprets symbol in the text, which suppose the choice of an adequate translational<br />
adaptive device.<br />
Linguistic and cultural models of pragmatic texts demonstrate convergent / divergent features, which reflect text-typological stereotypes<br />
of comparable cultural traditions. From translational perspective the distinguishing of these features helps to designate the minimum and<br />
maximum difficulties in translation and also suggests the prevailing of reproductive or adaptive strategies. Convergent / divergent texttypological<br />
features are assumed as a basis of adaptive translational models, which trans-coding stipulates the level of adequacy of pragmatic<br />
127<br />
Germanic languages
Philological sciences<br />
Germanic languages<br />
text influencing the target audience.<br />
The reasons for applying the translational adaptation are as follows: 1) the pragmatic function of the text is dominant; 2) target text<br />
corresponds with the text-typical stereotypes of the target language and audience; 3) the measure of closeness / remoteness of the languages<br />
and cultures in contact defines the existence / absence of the stereotypes of this or that pragmatic text.<br />
Many linguists agree that “discourse” can be defined as a text + extralingual features. From the point of view of translational studies and<br />
adaptive theory in particular the notions of discourse and text are important for the process of their identification taking into account the culture<br />
asymmetry. The latter causes not only the principle difference in the texts’ paradigm, but determines the discourse’ system of dominant<br />
functions, which adequate translational recreation makes for adequate perception of definite type of the text or, in other words, its adequate<br />
identification and further interpretation.<br />
The research is based on the pragmatic texts of political and religious discourses which were deliberately chosen for their simple<br />
elaboration in the theory of translation. The paradigm of pragmatic types of the texts includes the following: political discourse - vocabulary<br />
article, textbook on political studies, political speech, political advertisement; religious discourse - vocabulary article, textbook on homiletics,<br />
sermon, and religious advertisement. Translational transference of the paradigm into another culture presupposes the adequate identification<br />
of these texts which is possible if linguistic and cultural stereotypes of the target audience are preserved. The analysis proved that the adequacy<br />
on structural, semantic and stylistic levels of source text and target text leads to the identification of discourse / text.<br />
For highlighting the typological structural and functional characteristics of pragmatic texts there was undertaken the analysis of theoretical<br />
research issues devoted to the studying of pragmatic texts on the following levels: hyper textual, textual and hypo textual. The analysis results<br />
in the supposition that beyond the scientist’s interests are the problems concerning the functioning of culture bearing elements which define<br />
the adaptive and pragmatic potential of the text, and also the problem of the methods’ system which helps to distinguish the cultural specific<br />
characteristics of the text under translation.<br />
According to the aims of our research the most essential is the following subdivision of culture-bearing elements in the text – realia,<br />
symbols, and linguistic, cultural concepts. The pragmatic measure of the text proportionate to the frequency of functioning of these culturebearing<br />
elements. Besides, frequency of functioning itself and the hierarchy of culture-bearing elements influence on the specific characteristics<br />
of type of the text not only within the discourse, but within the cultural tradition. For a translator it means that actually he deals with two types<br />
of textual information – factual and estimating. In the translational process different types of information define the algorithm of translational<br />
actions in favor for either reproductive translation or adaptive translation. The dominant for reproductive translation is factual information,<br />
which is expressed by informative (denotative, cognitive) function. The prevailing of connotative types of information calls the foregrounding<br />
of stylistic functions. All this means that non preservation of the dominant functions in translation causes displacement within either the types<br />
of the text or discourse.<br />
Comparative cultural and cognitive analysis resulted in pointing out the main tendencies in redistribution of information from one type of<br />
the text to another within one and the same discourse. Thus, the main tendency in political discourse of Atlantic tradition (the USA linguistic<br />
and cultural tradition) shows the following: pragmatic potential increases from vocabulary article to political speech preferably through the<br />
explication of the lexical elements with “semantics of specifics”. Quite opposite tendency could be seen in the texts of east Slavic tradition<br />
(Ukrainian and Russian linguistic and cultural tradition) where pragmatic and thus adaptive potential increases through foregrounding the<br />
lexical elements with the “semantics of uniqueness” while the elements with “semantics of specifics” are gradually eliminated. The pragmatic<br />
texts of religious discourse in Atlantic tradition demonstrate the amplification of lexical elements with the “universal semantics” alongside<br />
with the increase of the lexical elements with “semantics of specifics”. In comparison with the texts of Atlantic cultural tradition that of east<br />
Slavic tradition show the main tendency in realization the lexical elements with the “semantics of uniqueness” already in the texts on homiletics.<br />
The defining of the main transpositions while trans-coding from type of the text to another one within one language and cultural tradition<br />
points out the dominant transformations, which in their turn serve for working out the adaptive translational models for definite discourses /<br />
texts. The evidence of reproductive translation suggests that the adequate translation of pragmatically oriented texts is hard to gain without<br />
application of adaptive strategies. Thus, the adequate reproduction of pragmatic potential of the text for another cultural and linguistic tradition<br />
is possible under the condition of appliance to the text the adaptive translational models.<br />
The deep probe into the methodological basis of the theory of adaptation resulted in presenting the adaptive translational models to<br />
pragmatic texts of political and religious discourses.<br />
Political discourse. While translating the vocabulary article of east Slavic tradition most lexical elements of “universal semantics” have<br />
their equivalents; however the explication of lexical elements with another two types of semantics may cause the increasing of the text’s<br />
volume, and therefore can complicate the translation with the usage of adaptive strategies.<br />
Cultural specifics of the textbook on political studies of east Slavic tradition while translating to Atlantic tradition presupposes the<br />
following adaptive strategies: elimination or reduction of purely American realia; amplification of the names of worldly famous philosophers;<br />
reduction of ideological component; amplification of political terminology.<br />
With the aim to preserve the linguistic and cultural specifics of the eastern Slavic political speech under translation the following adaptive<br />
strategies should be applied: appraisers with negative connotation should be eliminated while appraisers with positive connotation - amplified;<br />
lexical elements with cultural meaning should undergo either reproductive or adaptive ways of translation.<br />
Political advertisement of Atlantic tradition is presented preferably with multimedia devices while the most of east Slavic advertisement<br />
is presented only in the form of the written texts. Taking into account the system of values of Atlantic cultural tradition the translation of east<br />
Slavic political advertisement texts is not acceptable for our texts are not valuable for this culture.<br />
Religious discourse. Cultural diversification defines the following translational adaptive strategies applied to the vocabulary article: the<br />
names of saints and sacred in-text attached to them should be reduced; religious concepts and appraisers with positive connotation should be<br />
amplified together with sacred in-text.<br />
Multi-polar strategy of homiletic textbooks of both traditions opens up those places which seem “clear” analogues however if translated<br />
reproductively could transgress or even destroy the “vertical” scale of another culture system of values.<br />
As far as sermon text is oriented to the audience without cultural or confessional background, the translation of sacred names tends to<br />
elimination as it concerns the concept-sphere of the Mother of God. The names of the saints also undergo partial desemantization. Almost the<br />
same could be said about the lexical elements with confessional component of meaning and religious concepts which should be either reduced<br />
or eliminated.<br />
Advertisement texts of religious character could not be adapted to east Slavic tradition for this type of pragmatic text is absent in this<br />
linguistic and cultural tradition.<br />
Finally we can see that the text / discourse identification suggests adequacy on structural, compositional, semantic, and stylistic levels. In<br />
other words, the text or discourse can be recognized if the analogues function of the source text in recipient culture is served by adequate<br />
structural and semantic means. Taking into account the dominant orientation to the target language and cultural specific characteristics, the<br />
measure of closeness or remoteness from the source text may vary for the texts under adaptation.<br />
128
Philological sciences<br />
References:<br />
1. Komissarov V.N. Theory of Translation (Linguistic Aspects). – Moscow, 1990.<br />
2. Nord Ch. Text Analysis in Translation: Theory, Methodology, and Didactic Application of a Model for Translation Oriented Text<br />
Analysis. – Amsterdam: Rodopi, 1991.<br />
3. Venuti L. The Translator’s Invisibility. A History of Translation. - L. – N.Y. ; Routledge, 2000.<br />
4. Weightman J.G. On Language and Writing. - London: Sylvan Press, 1947. - 237 p.<br />
FOUR-LETTER ART: SOCIOLINGUISTIC PECULIARITIES OF TABOO LANGUAGE AND ITS TRANSLATION<br />
Iya Khorova, student<br />
Taras Shevchenko National University of Kiev, Ukraine<br />
Conference participant,<br />
National championship in scientific analytics,<br />
Open European and Asian research analytics championship<br />
The article offers an overview of the role of taboo language in the English-speaking world and post-Soviet countries, and describes the<br />
current trends of its development. Besides this, the article presents the analysis of the translation of taboo language from English into Russian<br />
and Ukrainian on the basis of two fiction books and one film.<br />
Keywords: taboo language, obscenity, profanity, political correctness, verbicide<br />
We live in an age where bad language can become worrying not because it is getting worse,<br />
but, paradoxically, because it is no longer bad enough.<br />
Roy Harris<br />
In the recent decades both Western and post-Soviet sociolinguistic spaces have observed the process of “detabooisation” of traditional<br />
taboo language. However, while in the English-speaking world the expansion of obscenity into culture started back in the beginning of the<br />
20th century, in Ukraine the torrent of “dirty” language gushed to art and media only during Perestroyka, after the abolition of Soviet<br />
censorship. Since Russian and Ukrainian speakers are not used to the appearance of obscenities in such context, hardcore language in<br />
translation in most cases provokes much stronger reaction in them than the author intended to achieve with their English four-letter<br />
counterparts. This contradicts the dynamic equivalence theory formulated by Eugene Nida, which reads that the reaction of the target text<br />
recipients has to be similar to that of the source text recipients [13]. Considering the volume of the English language cinema and literary<br />
products imported to Ukraine, large amount of which contains coarse language, the problem of obscenity translation is very important for<br />
Ukrainian linguistics.<br />
Due to the censorship in the Russian Empire and then in the USSR during the 20th century numerous researches in<br />
Russian taboo language were conducted and published primarily in Europe. These works include Grossrussische erotische<br />
Volksdichtung by Е. Spinkler (1911) and Uber die personlichen Schimpfworter in Russischen by W. Christiani (published in<br />
Zeitschrift fur slavische Philologie journal in 1913). Russian scholars had not addressed this issue until Perestroyka but their<br />
findings were also published in the West. The most prominent of these are works by the Russian “obscenology” pioneer B.<br />
Uspensky (1983 and 1987) and the dictionary compiled by V. Bykov that contains a considerable amount of “obscenisms”<br />
(1992 and 1994) [22]. As for the Ukrainian “obscenology”, a significant contribution to this field of research was made by<br />
Lesya Stavytska and her work The Ukrainian Language without Taboos (2008).<br />
Ronald Wardhaugh defines a linguistic taboo as the total or partial ban on uttering certain words or phrases, as well as<br />
discussing certain topics [16]. Ferdinand de Saussure in his Course in General Linguistics argues that the link between a sign<br />
and a denotation is arbitrary [24], therefore there are no objective reasons why a given word is taboo and others are not.<br />
Although researchers agree that taboos in some form or another are a cultural universal, they remain unchanged neither from<br />
synchronous, nor from diachronous point of view. Thus, the receiver’s reaction on the violation of a taboo highly depends on<br />
context. Linguistic taboos exist in three contexts:<br />
1) historical (they change with time); 2) cultural (different cultures have different taboos); 3) situational (the same utterance may be<br />
acceptable or not in different environments) [8].<br />
Let us look into the modification of a taboo depending on each type of context.<br />
As far as the historical context is concerned, it is worth mentioning that during the age of Shakespeare blasphemous ejaculations such as<br />
by God’s wounds! or by God’s blood! were under a powerful taboo, which led to the appearance of euphemistic shortenings zounds! and<br />
sblood! [4]. At the same time, a word cunt, which is absolutely unacceptable in a decent company now, was used as a medical term in the<br />
English translation of a French treaty on surgery that dates back to the 15th century [9].<br />
To illustrate the dependence of taboo on a particular culture, let us cite the following example. In 1988 in Los-Angeles a Tai entertainer<br />
killed a Laotian man who was present at his show. The reason was that during the performance the Laotian put his feet on a chair in such a way<br />
that the entertainer could see the soles of his shoes, and the demonstration of one’s soles to another person is considered as a deadly offense in<br />
Southeast Asia [5]. Since for an outsider certain taboos may seem pointless and even weird, one can conclude that sharing the same taboos is<br />
one of the characteristic features of social unity [1].<br />
The significance of the situational context of taboos is quiet obvious: a student can say that the film was rather shitty to his or her friend,<br />
but most likely will choose another word in a conversation with a teacher.<br />
Speakers use obscene language in order to add emotional force to the utterance, to relieve the stress, to express solidarity with the<br />
interlocutor or to humiliate them. Germane to the current study are the functions suggested by V. Zhelvis, which pertain first of all to<br />
the artistic usage of obscenities. Among these are the cathartic function, realization of “the elitism of cultural position through its<br />
denial”, creation of the author’s image as “an unprejudiced person”, narrative function (to attract attention of the audience) and<br />
apotropaic function (to confuse the audience) [20]. Yet another reason is the author’s pursuit of realism and desire to reflect the<br />
excessive use of obscenities in the “real life” [12].<br />
The key concept in the taboo language analysis is verbicide, that is the semantic process when once emotionally loaded words<br />
lose their expressivity because of the frequent usage [9]. Old taboos are deprived of their former power, while new ones emerge.<br />
129<br />
Germanic languages
Philological sciences<br />
However, a translator has to bear in mind that the English and Russian/Ukrainian languages were developing in totally different<br />
historical environments throughout the 20 th century; consequently, the process of the “detabooisation” of obscenities is on different<br />
stages in the Western and ex-Soviet sociolinguistic spaces.<br />
Coarse language began to filter into Western literature and cinema starting from the 1920s with the most famous examples<br />
being Ulysses by James Joyce and the screen version of Gone with the Wind directed by Victor Fleming, which made a stir<br />
with the word damn uttered bu Clark Gable’s hero. But the turning point of the relationship of obscenity and art in the English-speaking<br />
world came in the 1960s. The landmark event in this regard was the trial of Lady Chatterley’s Lover, a novel by<br />
David Lawrence, notorious for its explicit depictions of sex as well as ample usage of taboo language, including fuck and<br />
cunt. The trial took place a year after the adoption of a law that enabled publishers to avoid charges concerning the moral unacceptability<br />
of a book if they could prove its literary merit. On November 2 the court returned the verdict of not guilty, which<br />
led to the considerable liberalization in the domain of publishing in the Western society [9].<br />
The (ex-)Soviet countries had seen no dramatic changes in the realm of censorship until the collapse of the USSR. Thus,<br />
the trial that can be compared to the Lady Chatterley’s case by its scandalousness and scale took place only and in 1999, and<br />
was connected with the publication of the novel Goluboye salo (Blue Lard) by Vladimir Sorokin. Regardless of artistic<br />
virtues of the books in question and political causes that stand behind the trials, one can state that the problem of profanity in<br />
literature became a subject for wide public discussion in the English-speaking environment some 40 years earlier than in the<br />
Russian/Ukrainian-speaking environment, which has undoubtedly influenced the place occupied by obscene language in the<br />
speakers’ minds.<br />
Another important phenomenon that shook the Western sociolinguistic space in the 1960s was the Civil Rights Movement, which caused<br />
the shift of taboo from traditional sexual and excretory topics to that of racial and ethnic slurs. Characteristically, in 1965 the most “dirty”<br />
English words (namely fuck and cunt) were recorded in both Penguin English Dictionary and Dictionary of Slang and Unconventional<br />
English compiled by Eric Partridge [9]. Just five years later Webster’s New World Dictionary, 2 nd College Edition omitted ethnic insults<br />
described by the dictionary’s editor-in-chief David Guralnik as “true obscenities” [9]. What is more, a survey conducted in Britain in 2000<br />
revealed that English speakers rate terms of ethnic opprobrium (such as nigger and paki) as the most rude category of words, followed by slurs<br />
referring to sexual orientation (poof) and disability (spastic). Only after those came the traditional four-letter words [12]. However, neither<br />
Ukraine nor Russia has experienced such a great influence of the political correctness doctrine.<br />
It is worth mentioning that taboo language has considerable impact on recipients even on the physiological level: their skin conductance<br />
reduces, pulse grows more rapid and breath becomes shallow [4]. The peculiarities of Tourette syndrome, which forces people to<br />
unvoluntarily utter long tirades of curses and obscenities, sometimes despite the complete or partial loss of speech, has led scientists to believe<br />
that taboo language is acquired and stored in the human brain not in the same way as other lexical layers [2]. Timothy Jay even suggests that<br />
there is a Cursing Acquisition Device by analogy with Noam Chomsky’s Language Acquisition Device [10].<br />
What is more, various experiments (in particular those by Pezdek&Prull and Burridge&Allan) show that taboo words tend to imprint in<br />
the recipients’ memory better than neutral ones [3], and the more unusual is the environment where these words are uttered, the more longstanding<br />
impression they leave [14]. Given that post-Soviet audience generally does not expect coarse language to be used in public domain<br />
(as evidenced by the survey conducted by Russian Public Opinion Research Center [21]), hardcore words in translation may attract too much<br />
attention of the readers/viewers, sometimes at the expense of other artistic virtues of the work.<br />
In view of the aforementioned peculiarity, of paramount importance for film translators, whose work is seen by wide<br />
public, is the relation between obscenity and the broken windows theory introduced by James Wilson and George Kelling.<br />
The theory reads that the violation of a certain norm leads to the violation of other norms [17]. According to Adam Gitter, the<br />
same applies to the violation of linguistic taboos, since his experiments suggest that people who are exposed to coarse<br />
language tend to be more loyal towards minor criminal offenses [7].<br />
Considering the differences in the perception of taboo language in the source and target culture bearers, I suggest that the reasonable<br />
choice for a translator would be not to strive for literalness but to think twice before using hardcore words in the target text (especially when it<br />
comes to film translation). However, going to another extreme and ignoring obscenities altogether is also unlikely to add to the translation’s<br />
adequacy, so, one should try to convey the expressivity of the original by other linguistic means. As concerns the Ukrainian language, the<br />
challenge is even more serious since due to objective historical reasons the colloquial and substandard vocabulary in Ukrainian are<br />
underdeveloped.<br />
In order to see how Ukrainian and Russian translators cope with this task I have analysed Russian and Ukrainian renderings of Charles<br />
Bukowski’s Post Office (by Yuri Medvedko and Illya Strongovski) and Jerome David Salinger’s The Catcher in the Rye (by Rita Rite-<br />
Kovalyova and Olexiy Logvynenko). I have also looked into the West Video Studio’s translation of the Cannes’ Palme d’Or-winning movie<br />
Pulp Fiction, which “boasts” containing 272 f-words.<br />
Two of these translations were made during the Soviet era (The Catcher in the Rye by Rita Rite-Kovalyova, 1965 and Olexiy<br />
Logvynenko, 1984), while Yuri Medvedko and Illya Strongovski’s renderings, as well as West Video’s translation saw the light after the<br />
collapse of the USSR (in 1999, 2008 and 2002 respectively). Generally we can conclude that the translators of the younger generations feel<br />
more at ease with coarse language than their older colleagues. For instance, neither Ms Rite-Kovalyova, nor Mr Logvynenko resort to the<br />
literal translation of the obscenity in the phrase:<br />
Germanic languages<br />
As we can see, both translators rendered the phrase Fuck you in a descriptive way using neutral lexemes похабщина and матюк. Since<br />
by this utterance the hero intends to state a fact rather than to express emotions, this version of translation seems to convey the author’s<br />
message. However, O. Logvynenko still tries to compensate the mincing and not only renders the neutral somebody by the invective якийсь<br />
кретин, but also adds the exclamatory mark at the end of the sentence.<br />
Another finding is that as far as coarse language is concerned the translations seem far less repetitive than the originals. Of particular<br />
interest is the version of I. Strongovski that looks as if it were a result of profound ethnografical research in the domain of Ukrainian<br />
obscenities. Inter alia, Mr Strongovski offers a wide range of authentic Ukrainian correspondences for ejaculations God damn you (it)! and<br />
Goddamn! (to name a few, щоб тебе муха вбрикнула; ну й котися під три чорти; а щоб ти ходив, як води ходять; дідько; біса йому в<br />
ребро; срав пес тим сусідам); for an invective word bastard (довбограник, виродок, паскуда); and, most significantly, for taboo words<br />
describing male and female genitalia, which usually cause enormous difficulties in translation, cock and cunt (прутень, патик and дзюрка,<br />
кунка, пичодайка, гандила respectively).<br />
Film translators tend to be more cautious with vulgar language than literary ones, to the point where they completely ignore the<br />
expressivity of the source utterance. Let us look at a few examples from the West Studio’s translation of Pulp Fiction.<br />
130
Philological sciences<br />
In the first two cases the translator simply omits the intensifier fucking, thus neutralizing the emotionally loaded original. In the third<br />
example the obscene expressions get your shit and hit the fucking road are rendered with absolutely neutral собирайся and мы срочно<br />
должны ехать, while fuck the bags is translated as к чёрту вещи, which sounds far less rude. Given that the dialogue unfolds between the<br />
hero and his girlfriend, one can assume that the reason for such “courtesy” in translation is a common stereotype that swearing in front of<br />
women is inadmissible, which is widespread in post-Soviet countries (however, proved to be groundless [11]).<br />
But sometimes, surprisingly, translation appears to be even harsher than the source text as in the following extract.<br />
Here Mr Medvedko resorts to a hardcore Russian word without any apparent reason. Besides this, he renders neutral words man and<br />
screaming with emotionally loaded мужик and вопите, which adds even more energy to the utterance. On the contrary, Mr Strongovski’s<br />
version seems to correspond to the original’s level of expressivity.<br />
An extremely efficient strategy in dealing with obscenities is that of lexical and grammatical transformations. For example, in the<br />
analyzed translations due to the device of modulation the word shit is rendered with a bunch of different equivalents depending on context:<br />
барахло, косяк, ширево, пирсинг and many others. Compensation proves useful when it comes to intensifiers like damned or fucking:<br />
In this passage both translators compensate the expressivity conveyed by the intensifier damned by using substandard equivalents for<br />
neutral words from the source text: Y. Medvedko renders anybody as забулдыга while I. Strongovski resorts to the colloquial гребуть instead<br />
of the neutral hire.<br />
In general, as concerns taboo language, the translators used the following approaches:<br />
1) The correspondence was found in the target language that was expressive enough to convey the communication effect of the original<br />
but did not fall into the category of the most offensive Russian/Ukrainian words. What is interesting is that the translators obviously tried to<br />
avoid uniformity and rendered the same English words or phrases with a wide range of synonyms in the target languages.<br />
2) The expressivity was rendered by other means with the help of translation transformations. The most frequently used transformations<br />
were compensation and modulation.<br />
3) On exceptional occasions the most offensive Russian words were used. In the film this was not the case unless the situation was<br />
extremely loaded emotionally, while literary translators of younger generation used taboo language more freely.<br />
4) Obscene words were rendered with neutral lexemes thus ignoring the expressivity of the original and failing to convey its<br />
communication effect.<br />
Since in the Russian and Ukrainian languages traditional obscenities remain extremely powerful, unlike in English, where the sphere of<br />
linguistic taboo is shifting to racial and ethnic slurs, the first two approaches seem to be the most efficient. The third should be used only on<br />
careful consideration, while the fourth approach obviously fails to achieve translation adequacy.<br />
Taboo language remains an important, though often overlooked part not only of everyday life of all strata of society, but also of<br />
contemporary belles-lettres and cinema. However, various directions of research in this realm have yet to be explored by linguists, translators,<br />
sociologists and psychologists.<br />
References:<br />
1. Allan, K. Taboos and quirks of human behaviour [Electronic source]. – Online: http://www.arts.monash.edu.au/linguistics/staff/kallan.php<br />
2. Allan, K., Burridge, K. Euphemism and Disphemism. Language Used as Shield and Weapon. – Oxford University Press, 1991.<br />
3. Allan, K., Burridge, K. Forbidden Words: Taboo and the Censoring of Language. – Cambridge University Press, 2006.<br />
4. Angier, N. Almost Before We Spoke, We Swore. – New York Times, September 20, 2005.<br />
5. Axtell, R. E. Gestures: The do’s and taboos of body language around the world. New York: John Wiley & Sons, Inc, 1991.<br />
6. Bukowski, Ch. Post Office. – Black Sparrow Press, 1995.<br />
7. Gitter, A. Shooting the Shit: Profanity, Self-Control, and Aggressive Behaviour. – The Florida State University, 2010.<br />
8. Handayani, S. Language Taboo Expressed in American Comedy Film Deuce Bigalow [Electronic source]. – Online: http://lib.uinmalang.ac.id.<br />
9. Hughes,G. Encyclopedia of Swearing: The Social History of Oaths, Profanity, Foul Language, and Ethnic Slurs in the English-<br />
Speaking World. – M.E. Sharpe, 2006.<br />
10. Jay T. Cursing in America: a psycholinguistic study of dirty language in the courts, in the movies, in the schoolyards, and on the streets.<br />
- J. Benjamins Pub. Co., 1992.<br />
11. Klerk, V. How taboo are taboo words for girls? – Language in Society, 21, 1992.<br />
12. Millwood-Hargrave, A. Delete Expletives? Research undertaken jointly by the Advertising Standards Authority, British Broadcasting<br />
131<br />
Germanic languages
Philological sciences<br />
Corporation, Broadcasting Standards Commission and the Independent Television Commission. December 2000.<br />
13. Nida, E. Towards a Science of Translating. – Brill Academic Publishers, 1964.<br />
14. Pezdek, K., Prull, M. Fallacies in memory for conversations: Reflections on Clarence Thomas, Anita Hill, and the like. - Applied<br />
Cognitive Psychology, 7, 1993.<br />
15. Salinger, J. D. The Catcher in the Rye. – Penguine Books, 2010.<br />
16. Wardhaugh, R. An Introduction to Sociolinguistics. – Blackwell Pub., 2006.<br />
17. Wilson, J., Kelling, G. Broken windows: The police and neighborhood safety. - Antlantic Monthly, 1982.<br />
18. Буковски Ч. Почтовое отделение. Перевод Юрия Медведко. – Новое культурное пространство, 1999.<br />
19. Буковскі Ч. Поштамт. Переклад Іллі Стронґовського. – Київ, «Факт», 2008.<br />
20. Жельвис В.И. Поле брани. - М., 2001.<br />
21. Інформаційне агентство «Інтерфакс» [Electronic source]. – Online: http://interfax.ru.<br />
22. Мокиенко В. М.. Русская бранная лексика: цензурное и нецензурное. Русистика.- Берлин, 1994, №1/2.<br />
23. Селінджер Д. Д. Ловець у житі. Переклад Олекси Логвиненко. – Харків, «Фоліо», 2010.<br />
24. Соссюр, Ф. Курс общей лингвистики. – КомКнига, 2006.<br />
25. Сэлинджер Д. Д. Над пропастью во ржи. Перевод Риты Райт-Ковалевой. – Эксмо, 2008.<br />
MOUNTING LOCALIZATION OF REALITY<br />
Kamzin K., Dr. of philology, prof.<br />
Kazakh National University named after al-Farabi, Kazakhstan<br />
Conference participant,<br />
National championship in scientific analytics,<br />
Open European and Asian research analytics championship<br />
In the author’s opinion the origin of the word “assembling” (montage) comes from folklore and written literature works. He analyz allround<br />
text montage of literature.<br />
Keywords: mental construction of the text, the seal of time, the mounting perception, journalistic chronotope.<br />
По мнению автора, происхождение слова "монтаж" происходит из фольклора и письменных произведений литературы. Он<br />
всесторонне анализирует литературный монтаж текст.<br />
Ключевые слова: мысленная конструкция текста, уплотнение времени, монтажное восприятие, публицистический<br />
хронотоп.<br />
Journalistics<br />
In foreign, Kazakh, and Russian theoretical literature the concept of "montage" is associated primarily with film and television<br />
technology. As classic examples we offer art and documentary films of Eisenstein, Pudovkin, G. Chukhrai, S. Rostotsky, D.Vertov, R.<br />
Carmen, Charlie Chaplin, K. Lellouche, M. Antonioni, C. Tarantino, A . Kurosawa, A. Hitchcock, S. Khodzhikov, S. Aimanov, A. Karsakbaev,<br />
E.Tynyshpayev, O. Abishev and other eminent artists. Needless to say, the emergence of cinema and subsequent television technology brought<br />
to our measured life elements of the jump dynamics and surprising flights of imagination. The world around us, transforming into a screen<br />
reality, began to thicken creatively and to shrink, encompassing only the set boundaries of genre and species. This kind of thinking about<br />
taking the time-space of dimension cinema theorists subsequently became known as "assembly". The scholars who develop this method, most<br />
often refer to the theoretical views of Dziga Vertov. "He built his paintings by the laws of poetry and selected the material for them not<br />
according to the story sequence but associatively, claiming unity through repetition of rhythm of visual representations", writes, for example,<br />
M. Bleiman [ 1 ]. Continuing this thought B. Nebylitsky remembers: "With bated breath we were eagerly looking at the screen, amazed by the<br />
originality of Vertov’s montage, by the excitement of the director, which is transmitted to the audience. Everything was sweeping there - image<br />
capture techniques, rhythm, and the inscription "[2].<br />
A good example of the lyrical montage of thinking is an art picture from Georgia's filmmakers, "Nikola Pirosmani". A bright-eyed boy of<br />
five or six years old rapidly runs on the screen past a shepherd in a black hat and black cloak, playing the flute, grazing flock of black sheep,<br />
then runs past a shepherd in a white cloak and a white hat, playing the flute, and grazing flock of the white sheep. He runs over and past the<br />
winegrowers. The woman gives him the brush of white grapes. Then the old Georgian man opens the Marani and treats him with wine grapes.<br />
And he comes back home as a school student, with a shiny black briefcase. Thus, for ten to twenty seconds Pirosmani is growing up, the<br />
original artist, a singer of Georgian dukhans and descriptor of domestic scenes.<br />
Other prominent figures of filmmaking in their time were really interested in the mystery of reality decoding. Among the most significant<br />
attempts to reconstruct the true meaning of prominent American director David Wark Griffith, includes, as we believe, the research of<br />
S.Eisenstein "Dickens, Griffith and we". He brilliantly demonstrated that some elements of Griffith’s film language can be traced directly to<br />
the influence of works of Charles Dickens [ 3 ].<br />
But, is this method as new and fresh at first glance? Wasn’t there construction on "formation" of text and other material before that?<br />
Whether the opening priority belongs to cinema only? Definitely not!<br />
One of the characters in Graham Greene's novel "The Comedians" says: "If you have rejected one faith, do not reject faith altogether.<br />
There is always a different faith, instead of the one we lose. Or maybe it's the same faith in another guise? "What is our faith and how is it<br />
measured is your and our world? On what principle it is mounted? How do we know the reality of diversified? As a counterpoint to the sounds<br />
of the universe, where is the support of the wandering and the nomadic world?<br />
Our inquisitive and uneasy mind tries to answer to these questions. At the same time, the running of time in our minds is shortened, then<br />
lengthened. And the installation, once incorporated in the human perception of the world, appeared today in our modern abode in another<br />
guise, another incarnation. Indeed, in the rough (quiet) flow of everyday life, in a whirlwind of virtual processes, we managed to lose once<br />
successfully operating logic system, and now we hastily remove the older versions, we put into circulation new verbs, trying to clarify the<br />
hierarchical construction of the modern genre norms.In society, social life signs of assembly ordering of reforms and its logic algorithm are<br />
shown as well.<br />
Montage as it is already existed in the speech communication, oral folklore, Gomer’s "IIliad" and "Odyssey," in "Tarikh-i Rashidi" of<br />
Mohammad Haidar Dulati, in the Russian poem “Slovo o polku Igoreve”. It is often used repetition, concretization of multiple events, the<br />
different sayings and some tokens, sequestered time and space. For example, having Arabic roots, the Kazakh word formation alkissa, an<br />
132
ancient Russian word Inda or the modern German word also are used in many historical works used in the organization of textual material,<br />
becoming the starting point for the continuation of different mental structures. Such a "zero mark" is typical for personal communication, fairy<br />
tales, epic and verbal arts of many nations around the world. That is why PhD in Philology, Professor M. Barmankulov, draws attention to this<br />
remarkable, century-old property of the word, transfering it on to the television montage method. In his view, the "zero mark" is a total absence<br />
of the image on the screen, But such absence which gains special expressiveness " [4].<br />
The Doctor of Historical Sciences professor S.Kozybaev, explaining the importance of the white line, writes of a dumb title in the form<br />
of blank lines of the same point size is as the text, which it divides. The white line at the junction of bands disappears, and in order to avoid<br />
text after it, it quite often begins with the initial letter or word allocated with a capital font [5].<br />
Hence, and the paragraph or a so-called new paragraph in the text material is also a kind of montage. Let’s turn to the genre of the<br />
periodical press materials in which the paragraphs fully work out its role as "adapter".<br />
"But the holy place was empty not for long - in the new century on a pedestal of children's honor and unconditional love new characters<br />
have risen - a crazy squirrel Skreta from " Ice Age", the green giant Shrek, Sponge Bob, ranger-omnipotent Dasha.<br />
Many parents are afraid of the characters that do not have real prototypes. How many times have I heard from friends: "So who is this<br />
Luntik? He is a freak! And the TV tubbies are all mutants. "But the children do not perceive them as freaks and mutants, for them, they seem<br />
no more strange than the same Leshyi or Water Goblin, which, incidentally, do not exist in nature " [6].<br />
It should be noted that in this passage, but "mentally rebound" there is a lexical contrast and comparison parallels of the national character,<br />
giving the public figure special charm and completeness.<br />
Let’s take another example. According to Daily Mail, citing "high-ranking sources in the British secret services’’, personally present head<br />
MI6 John Scarlett was engaged in the recruitment of an ex-employee of the Federal Security Service. It was on his initiative that Litvinenko<br />
had moved to the UK, and after that he asked political asylum for his family. Since 2000, the former Russian secret service agent allegedly<br />
monthly obtained two thousand pounds fee from the British secret service.<br />
"This may give a clue to the disclosure of the unexplained murder of recent years, and finally to damage relations between London and<br />
Moscow," - notes the British edition. According to the newspaper on the day that Litvinenko was poisoned, he tried to recruit Lugovoi to work<br />
for the MI6. However, his former colleague at the Federal Security Service refused and went to Russia, never returning to Britain.<br />
Meanwhile, Marina, the wife of the murdered Alexander Litvinenko, called this information "nonsense." "My husband has never been an<br />
agent of MI6,” she reported in an interview to the Sunday Telegraph. “He was a critic of the Russian government, and always spoke openly.<br />
For this he was appreciated". The widow separately emphasized that in his time at the FSS, "Alexander was engaged in organized crime<br />
instead of investigation". Let’s remember that recently Marina Litvinenko has returned from Portugal, which hosted the summit of the EU -<br />
Russia. There, she called on European ministers to put pressure on Russia in the issue of extradition of Andrei Lugovoi to the British<br />
authorities' [7]. In the comment by the red line, substantial transit is carried out, time is penetrated, and the inclusion of international problems<br />
and euro distances into the text were realized.<br />
The memoirs of Jean Renoir - son of a prominent representative of Impressionist Pierre-Auguste Renoir have the following lines: "In the<br />
twilight his father was finishing work, he had always suspicious attitude to the electric lighting" [8]. And this is the master’s individual method<br />
of writing, development of visual art reception and invisible protection, a sense of enlightened space.That is, the artist felt that a complicated<br />
game of light and shade can be cultivated only in natural light, and temporal sequencing affects the style and palette of the picture.<br />
The montage without hands in the environment itself: day follows night, bad weather replaces clear weather. In short, man-made montage<br />
is a repetition in another scenario of the time-space nature structures, a particularly creative and journalistic chronotope.<br />
Cyclic repetition of time and space, and their montage view in the text of the visual material were reconstituted by V. Rasputin in the story<br />
"Farewell to the Matera”:<br />
"And the spring came again, in his own never-ending series, but the latter is for Matera, for the island and for the village bearing the same<br />
name. Again, with a roar and passion pile up on the shore ice hummocks had passed, and the liberated Angara opened, stretched into a<br />
powerful flow. Again on the upper cape water rustled briskly, slipping on the burner on the two sides, herbs flared up again on the ground and<br />
trees, poured the first rains, swifts and swallows flew in and with love for life in the evenings awakened frogs in swamp began croaking. All<br />
this happened many times and many times Matera was occurring in the nature of change, not lagging behind and not getting ahead of each<br />
day" [9].<br />
American journalist and writer O. Henry used the maximum benefits of the montage method in his literary text.. He also sculpts space and<br />
time in its sole discretion, creating a small and funny world of people who care commensurate with the tone of his presentation of the next<br />
story. The writer has settled down, time and space in such phrases as "the next two hours flew by on rosy wings - I apologize for the hackneyed<br />
metaphor," "And Jim went out of his stupor. He took Dell's in his arms. We will be modest, and for a few seconds let us review some foreign<br />
object " [10]. The narrator's, the artist’s eyes have smoothed the transition to another object, and with it we are also turning our gaze to a<br />
secondary decorative position. "Flowers were blooming, and resorts agents were flourished, air, and court judgments became milder, a hurdygurdy,<br />
fountains, and gamblers were played all over.<br />
Windows in Mrs. Murphy’s boarding house were open. Small group of tenants sat on the porch of a high, round and flat on the mats,<br />
similar to pancakes. Mrs. Mac-Casky was waiting for her husband along one of the windows on the second floor. Dinner on the table wasn’t<br />
hot. The heat from it passed into Mrs. Mac-Casky ", O.Henry writes promptly, transferring from household attributes to household psychology<br />
[11]. Thus, we have a visible artistic representation of the lives of U.S. inhabitants to distant lands in the great stories of O. Henry.<br />
No less gorgeous is the mosaic of the Kazakh national writer K. Zhumadilov. That fleeting triumph of peace and prosperity, the influx and<br />
the onslaught of turbulent, uncharted eternity before us followed frame by frame. "Meanwhile, it took several years. It seemed to foreign eye<br />
that the time for fear passed, the time of prosperity and peace has come , but a secret, latent struggle was going on, the invasion was replaced<br />
by a retreat” [12].<br />
Jan Parondovsky, a famous Polish writer, truly and elegantly reflects on the writer's vocation, the infernal work of the writer, the<br />
production technology of the literary text: "Trying to imagine the writer at work, probably no one would have remembered the scissors, but<br />
they have not forgotten about the creator of tombstones in the church of the Holy Callimachus Trinity in Krakow. And to this day there are no<br />
scissors in one writer's desk. Most often they appear in the final stage of the reading of the manuscript, sometimes holding the proofs. They cut<br />
the pages, transfer whole chunks of text from one place to another, sometimes it happens that what was over the head falls in the beginning.<br />
So with the help of scissors and glue appears an interesting story, captivating ease and naturalness " [13]. In this author's judgment is insight<br />
into the distant past and the modern interpretation of the test questions. Then, as they say, there is nothing to add, nothing to subtract. An<br />
interesting idea in an interview was expressed by famous French film director Claude Lelouch about the historic nature of the montage of<br />
thinking: "We came into this world with the most advanced camera - the human eye. Our ears are the best microphone. The brain is engaged<br />
in montage. Absolutely all of us are the filmmakers. Movie is the most natural of the arts in contrast to music and literature " [14].<br />
In my opinion, Paustovsky’s considerations on composite construction works have great theoretical and practical interest, "I wrote "Kara<br />
Bugaz "and was not thinking about the proper disposition of material. I disposed it in the order in which he accumulated during a trip along<br />
the shores of the Caspian Sea.<br />
133<br />
Philological sciences<br />
Journalistics
Philological sciences<br />
After the release of "Kara-Bugaz" critics have found in this story, "a composition in a spiral," and they were very happy. But I'm not guilty<br />
of any mind or heart " [15]. In an ironic patronizing speech of the master, of course, lies the mental component of the creative montage of any<br />
product claiming a prominent place in the artistic environment. Naturally, the art montage violates the principle of gradualism- ecumenical<br />
movement. Consequently, montage, as we present today, is a violation of the principle of time-space sequences, squeezing and moving in an<br />
artificially created reality niche. It seems that such a bizarre organization of the material should be classified as a particular chronotope in a<br />
journalistic or literary text. And here, of course, the primacy does not belong to the film and television arts but to literature, and graphic<br />
journalism.<br />
References:<br />
1. Блейман М. История одной мечты (Вместо предисловия) // Дзига Вертов в воспоминаниях современников. – М.:<br />
Искусство, 1978. С.60.<br />
2. Небылицкий В. Мы учились у Вертова //Дзига Вертов в воспоминаниях современников. С. 129.<br />
3. Эйзенштейн С.М. Избранные произведения. Т.5. – М.: Искусство, 1968. С. 153.(599 стр.).<br />
4. Барманкулов М.К. Телевидение: деньги или власть? – Алматы: Санат, 1997. С. 213.<br />
5. Козыбаев С.К. Масс-медиа. Словарь-справочник. – Алматы: Экономика, 2007. С. 35.<br />
6. Лория Е. Последний мультгерой // Известия, 15 ноября 2007.<br />
7. Кумскова И. Шпионаж. Литвиненко был агентом Британии? // Московский комсомолец, 31 октября – 7 ноября 2007.<br />
8. Ренуар Ж. Ренуар. – М.: Искусство, 1970. С. 6.<br />
9. Распутин В.Г. Повести. – М.: Молодая гвардия, 1980. С. 15.<br />
10. Генри О. Рассказы. – Киев: Радяньский письменник, 1958. С. 768, 7.<br />
11. Генри О. Рассказы. С. 9.<br />
12. Жұмаділов Қ. Прометей алауы. – Алматы: Атамұра, 2002. 67 б.<br />
13. Парандовский Я. Алхимия слова. – М.: Правда, 1990. С. 97.<br />
14. Тыркин С. Клод Лелюш: «Мою жизнь перевернули «Летят журавли» // Комсомольская правда, 21 марта 2008.<br />
15. Паустовский К. Изучение географических карт // Золотая роза. – М.: Советский писатель, 1983. С. 72.<br />
К ПРОБЛЕМЕ ЭПИСТЕМИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ЯЗЫКЕ ЖУРНАЛИСТИКИ<br />
Чепурная А.И., преподаватель<br />
Ставропольский государственный аграрный университет, Россия<br />
Участник конференции,<br />
Национального первенства по научной аналитике<br />
В статье рассматривается проблема ответственности журналиста за передаваемую информацию и особенности её<br />
языковой реализации.<br />
Ключевые слова: эпистемическая ответственность, эпистемическое обязательство, коммуникативный статус высказывания,<br />
эпистемическая модальность, эвиденциальность.<br />
The article deals with the problem of a journalist’s responsibility for transmitted information and its realization in language.<br />
Keywords: epistemic responsibility, epistemic commitment, communicative status of an utterance, epistemic modality, evidentiality.<br />
Journalistics<br />
Средства массовой информации призваны информировать общество об актуальном положении дел, выступать средством<br />
социальной ориентации аудитории, что предъявляет строгие требования к качеству содержательного компонента речи. Журналист<br />
является субъектом эпистемической (от греч. episteme – знание) ответственности, т.е. ответственности за транслируемое знание.<br />
Категория эпистемической ответственности разрабатывается в эпистемологии, т.е. разделе философии, исследующем знание,<br />
его структуру и функционирование. Как известно, важнейшим способом хранения и передачи знаний является язык, что<br />
предопределяет и выделение основных функций языка: коммуникативной, эпистемической (аккумулятивной) и когнитивной. «С<br />
точки зрения эпистемической функции языковая система предстаёт как способ хранения и передачи знаний, а также как отражение<br />
специфически национального взгляда на мир» [3, c. 7]. Очевидно, что эпистемическая ответственность должна находить выражение<br />
в языке.<br />
Наиболее актуальной речь об ответственности за реализованное слово является в сфере средств массовой информации, что<br />
связано со спецификой данной области функционирования языка. Во-первых, медиатекст ориентирован на массового адресата, вовторых,<br />
деятельность средств массовой информации регулируется законодательно и предусматривает ответственность за<br />
злоупотребление правом на свободу слова. Таким образом, журналист является субъектом социальной и юридической ответственности<br />
за передаваемую информацию.<br />
В эпистемологии важнейшим критерием при определении категорий, подлежащих эпистемической ответственности, выступает<br />
наличие или отсутствие волевого контроля. Вопрос о подответственных эпистемических категориях решается в эпистемологии<br />
весьма неоднозначно. В классическом представлении вера, в отличие от знания, не является предметом эпистемической<br />
ответственности, поскольку формируется без участия волевого контроля, следовательно, верующий во что либо не является<br />
агенсом. Сторонники конкурирующих точек зрения не считают необходимым связывать эпистемическую ответственность с<br />
понятием агенса и рассматривают веру как подответственную категорию (доксастическая ответственность) [6] или отстаивают<br />
наличие при формировании веры определённого волевого контроля, что также ведёт к признанию доксастической ответственности<br />
[8].<br />
Классические представления о эпистемической ответственности отражены в «антиволюнтаристском» аргументе («antivoluntarist»<br />
argument) [6]:<br />
(1) Если имеют место эпистемические обязательства, то вера находится под сознательным контролем;<br />
(2) Вера не находится под сознательным контролем;<br />
(3) Следовательно, эпистемические обязательства не имеют места.<br />
Таким образом, чтобы стать субъектом эпистемической ответственности, говорящий должен принять на себя эпистемические<br />
обязательства. О эпистемическом обязательстве говорит и Дж. Лайонз. «Сделать утверждение – значит выразить пропозицию и од-<br />
134
новременно выразить определённое отношение к ней. Я буду называть это отношение эпистемическим обязательством<br />
(epistemic commitment). Любой, кто утверждает некоторую пропозицию, берёт на себя обязательство быть «приверженным»<br />
ей, не в том смысле, что он должен на самом деле знать или полагать, что она истинна, но в том смысле, что его последующие<br />
утверждения – и всё, что может быть выведено из его сопровождающего высказывание этой пропозиции и последующего<br />
поведения, – должно согласовываться с мнением, что она истинна. Отсюда неприемлемость или парадоксальный характер<br />
предложения It is raining but I don’t believe it «Идёт дождь, но я не верю в это» (интерпретируемого как утверждение). Делая<br />
подобные утверждения, говорящий нарушает своё эпистемическое обязательство» [7, c. 270]. Дж. Лайонз отмечает также, что<br />
возможными вариантами эпистемического обязательства являются не только крайние полярности: выражение полного обязательства<br />
и воздержание от полного обязательства, но и промежуточные варианты, указывающие на то, что свидетельства, которыми<br />
располагает агент локуции, – «его эпистемические гарантии или эпистемические основания его утверждения – не так хороши, как<br />
могли бы быть, и что его обязательство имеет не абсолютный, а предварительный, пробный или условный характер и т.д.» [Там же,<br />
c. 347]. К средствам выражения различных квалификаций эпистемического обязательства Дж. Лайонз относит просодические<br />
(ударение и интонацию) и лексические средства (модальные глаголы, модальные прилагательные, модальные наречия и модальные<br />
частицы). Следует отметить, что при определении эпистемического обязательства Дж. Лайонз подчёркивает, что оно характерно<br />
для утверждения, а поскольку эпистемическая ответственность напрямую связана с принятием на себя эпистемического обязательства,<br />
то, следовательно, выражение эпистемической ответственности в языке связано с коммуникативным статусом высказывания.<br />
Коммуникативный статус высказывания является определяющим фактором и при определении степени юридической<br />
ответственности журналиста в случае судебного разбирательства и проведения лингвистической экспертизы.<br />
В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации отмечена необходимость разграничения мнения и<br />
утверждения о фактах при определении степени ответственности автора: «В соответствии со статьёй 10 Конвенции о защите прав<br />
человека и основных свобод и статьёй 29 Конституции Российской Федерации, гарантирующими каждому право на свободу мысли<br />
и слова, а также на свободу массовой информации, позицией Европейского Суда по правам человека при рассмотрении дел о<br />
защите чести, достоинства и деловой репутации судам следует различать имеющие место утверждения о фактах, соответствие действительности<br />
которых можно проверить, и оценочные суждения, мнения, убеждения, которые не являются предметом судебной<br />
защиты в порядке статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку, являясь выражением субъективного мнения<br />
и взглядов ответчика, не могут быть проверены на предмет соответствия их действительности» [9]. Таким образом, мера<br />
юридической ответственности автора за вербализованную информацию определяется дихотомией «фактографические суждения –<br />
оценочные суждения (мнения, убеждения)», однако вопрос их разграничения является сложным и не имеет однозначного решения<br />
ни в юридической, ни в лингвистической науке.<br />
В практике лингвистической экспертизы наметились два подхода к разграничению выражения мнения и сообщения сведений:<br />
формально-семантический и прагматический [2]. Формально-семантический параметр заключается в поиске в анализируемом<br />
контексте формальных показателей коммуникативной функции высказывания. Так, высказывания, содержащие слова и выражения<br />
типа по моему мнению, мне кажется, я предполагаю, признаются выражением мнения: По моему мнению, эти женщины<br />
ожидают от жизни и общества того же и имеют те же личные и профессиональные интересы, что и их сверстницы в Лондоне<br />
или Берлине. [5].<br />
Конструкции с маркерами предположения, неуверенности (наверное и т.п.) приравниваются к выражению мнения: Мать<br />
тоже высказала осторожный оптимизм. Может быть, это случайность [5].<br />
Если высказывание не содержит подобных слов-маркеров, оно квалифицируется как сообщение сведений: Попытки ввоза радиоактивных<br />
автомобилей в Россию регистрировались неоднократно [5].<br />
Прагматический подход предполагает анализ точек зрения автора и адресата речи. В данном случае фраза не содержит<br />
маркеров мнения или предположения. Во внимание принимается мировоззренческая позиция автора в момент написания текста и<br />
то, как данное высказывание воспринимается рядовым читателем – как выражение мнения или сообщение сведений. Подобный<br />
анализ требует специальных психолингвистических знаний.<br />
Анализируя языковые средства выражения эпистемической ответственности, следует отметить такие их характеристики, как<br />
фактивность / путативность, засвидетельствованность / незасвидетельствованность. Отношение фактивность – путативность<br />
связано с оппозицией знание – мнение. Различие между знанием и мнением определяется их отношением к истинности пропозиции,<br />
в которой выражено содержание данного знания или мнения. Таким образом, эпистемическая ответственность связана с категорией<br />
эпистемической модальности, отражающей степень уверенности говорящего в истинности передаваемой пропозиции. Анализируя<br />
системообразующие смыслы «знать» и «считать», Ю.Д. Апресян относит к числу языковых средств, содержащих смысл «знать»,<br />
наряду с глаголом знать и существительным знание такие слова и словосочетания, как ведать, быть в неведении, не иметь<br />
понятия, не иметь представления, узнавать, известно, общеизвестно, неизвестно, неведомо, не секрет, сведения, информация и<br />
др. Смысл «считать» выражается такими словами и устойчивыми словосочетаниями, как считать, полагать, думать, предполагать,<br />
подозревать, слыть, казаться, взгляд, мнение, точка зрения и т. п. [1, c. 8].<br />
Отношение засвидетельствованность – незасвидетельствованность характеризует другую связанную с эпистемической ответственностью<br />
категорию – категорию эвиденциальности, которая представляет собой указание на источник информации. В текстах<br />
средств массовой информации широко распространены ссылки на внешний источник информации, например: Согласно докладу<br />
Академии наук США, при одинаковой дозе облучения женщины на 50% чаще заболевают раком по сравнению с мужчинами [5]. В<br />
случае ссылки на внешний источник информации говорящий снимает с себя ответственность за сказанное, поскольку не является в<br />
полной мере автором передаваемой пропозиции, а выступает лишь медиатором информации, исходящей от другого лица. Языковые<br />
средства, служащие для цитирования или косвенной передачи смысла, А.Н. Баранов называет ограничителями ментального<br />
размежевания: утверждать (чаще в личной форме 3 лица), подтверждать, заявлять, по словам, якобы, говорят и др. [4, c. 291].<br />
Как отмечает А.Н. Баранов, наиболее сильным средством противопоставления своего мнения мнению цитируемого лица является<br />
частица якобы, выражающая сомнение говорящего в истинности сообщаемого: якобы 1. изъяснительный союз. Употребляется для<br />
выражения сомнения в достоверности сообщаемого. 2. частица. Указывает на предположительность высказывания, на сомнение в<br />
его достоверности [10], например: Ранее в СМИ сообщалось, что Лернера обвиняли в мошенничестве: якобы бизнесмен занял 30<br />
млн рублей и не вернул долг [5].<br />
Итак, эпистемическая ответственность представляет собой неязыковую категорию, характеризующую сферу отношений между<br />
автором и высказыванием. Это область, связанная со степенью признания себя автором речевого события. Эта категория отсылает<br />
также к когнитивной сфере говорящего, поскольку связана со степенью уверенности автора в истинности сообщаемого. Анализ<br />
языковых средств выражения эпистемической ответственности сопряжён с анализом таких категорий, как эпистемическая<br />
модальность и эвиденциальность, поскольку эпистемическая ответственность не имеет специализированных средств своего<br />
языкового выражения. Таким образом, языковые средства, служащие для выражения эпистемической модальности и эвиденциальности,<br />
характеризуют высказывание и по линии эпистемической ответственности.<br />
135<br />
Philological sciences<br />
Journalistics
Philological sciences<br />
Литература:<br />
1. Апресян Ю.Д. Системообразующие смыслы «знать» и «считать» в русском языке // Русский язык в научном освещении. – №<br />
1. – М., 2001. – С. 5-26.<br />
2. Араева Л.А., Осадчий М.А. Проблемы судебно-лингвистической экспертизы в рамках дел о защите чести и достоинства, о<br />
клевете и оскорблении // Российский юридический журнал. – 2006. – № 2. – С. 86-94.<br />
3. Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику. Изд. 3-е. – М.: Издательство ЛКИ, 2007. – 360 с.<br />
4. Баранов А.Н. Лингвистическая экспертиза текста: теория и практика: учеб. пособие / А.Н. Баранов. – 2-е изд. – М.: Флинта:<br />
Наука, 2009. – 592 с.<br />
5. Газета. ru [Электронный ресурс]. http://www.gazeta.ru/ (дата обращения: 26.03.2012).<br />
6. Engel P. Epistemic responsibility without epistemic agency // Philosophical Explorations. Vol. 12. No.2, 2009. – 205-219.<br />
7. Лайонз Дж. Лингвистическая семантика. Введение. – М.: Языки славянской культуры, 2003. – 400 с.<br />
8. Montmarquet J.A. Epistemic Virtue and Doxastic Responsibility. – Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield, 1993. – 152 p.<br />
9. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.02.2005 № 3 [Электронный ресурс].<br />
http://www.kadis.ru/texts/index. phtml?id=7329 (дата обращения: 09.03.2012).<br />
10. Словарь русского языка. В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А.П. Евгеньевой. – 4-е изд., стер. – М.: Рус.<br />
яз.; Полиграфресурсы. – 1999.<br />
ТОПОНИМЫ В РУССКОЙ И АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ И ПАРЕМИОЛОГИИ<br />
Гусейнова В.К., канд. филол. наук, доцент<br />
Бакинский государственный университет, Азербайджан<br />
Участник конференции,<br />
Национального первенства по научной аналитике,<br />
Открытого Европейско-Азиатского первенства по научной аналитике<br />
В статье на материале русского и азербайджанского языков рассматриваются фразеологизмы, пословицы, поговорки, в<br />
состав которых входят топонимы (ойконимы, гидронимы, оронимы). Отмечается, что в обоих языках данная группа является<br />
малочисленной по сравнению с единицами, компонентами которых являются антропонимы, зоонимы, фитонимы, соматонимы,<br />
названия блюд, напитков и т.д. В обоих языках в составе фразеологизмов, пословиц, поговорок встречаются в основном ойконимы,<br />
большинство которых – названия зарубежных географических объектов (иранские, арабские города в азербайджанских примерах),<br />
Рим, Париж, Царьград (в русских примерах). Наличие некоторых топонимов объясняется объективными историческими,<br />
политическими, экономическими факторами.<br />
Ключевые слова: фразеологизмы, пословицы, поговорки, топонимы, ойконимы, гидронимы.<br />
In the article on the materials of the Russian and Azerbaijanian language are analyzed phraseologisms, proverbs and sayings the<br />
components of which are toponyms (oikonyms, hydronyms, oronyms). Is emphasized paucity of such a group in both languages in comparison<br />
with the units the components of which are anthroponyms, zoonyms, phytonyms, somatonyms, names of dishes, drinks etc. In both languages<br />
there are more oikonyms than hydronyms and oronyms. Most of them are the names of foreign place – names (Iranian, Arab cities (in<br />
Azerbaijanian examples), Rome, Paris, Tsargrad (in Russian examples). Some toponyms can be explained by the objective historical,<br />
political, ecomic factors.<br />
Keywords: phraseologisms, proverbs, sayings, toponyms, oikonyms, hydronyms.<br />
Native language<br />
Как известно, культура является своеобразной исторической памятью народа. Одним из самых продуктивных средств выражения<br />
концептуального содержания культуры выступает язык. Единицы языка, и особенно единицы его лексико-фразеологического<br />
уровня, представляют собой «зеркало народной культуры, народной психологии и философии» [1, 6]. В настоящее время лингвокультурологический<br />
анализ языковых явлений – один из самых значимых аспектов современной лингвистики. Фразеологическая<br />
же картина мира любого народа является особым фрагментом его языковой картины мира. Как верно отмечает В.Н.Телия, фразеологический<br />
состав языка является наиболее «прозрачным для воплощаемых средствами языка концептов «языка» культуры,<br />
поскольку в образном основании фразеологизмов отображаются характерологические черты мировидения, рефлексивно соотносимые<br />
носителями языка с этим «языком культуры» [4, 8].<br />
Безусловно, природа значения фразеологизмов, пословиц, поговорок тесно связана с фоновыми знаниями и практическим<br />
опытом носителей языка, их культурно – историческими традициями. Ведь в языке «закрепляются и фразеологизируются именно<br />
те образные выражения, которые ассоциируются с культурно-эмоциональными эталонами, стереотипами, и которые при употреблении<br />
в речи воспроизводят характерный для той или иной лингвокультурной общности менталитет» [3, 24]. Своей семантикой<br />
фразеологизмы, пословицы, поговорки направлены на характеристику человека и его деятельности.<br />
И в русском, и в азербайджанском языке фразеологизмы, пословицы, поговорки отличаются структурно-семантическим<br />
богатством и разнообразием. Как верно отмечает проф. И.Г.Гамидов, «народная мудрость, представленная в пословицах, поговорках,<br />
фразеологизмах, не носит печати открытий. Её предназначение в другом – истолковать уже известное, признанное общностью<br />
людей в качестве истины. Это – оценка интеллектуальной и духовной атмосферы человеческого бытия. Конкретная картина,<br />
событие представляются как обобщение целого ряда типичных случаев, приобретая по сути дела свойства символа, ориентированного<br />
на перспективу применения – при характеристике подобных случаев в будущем» [8, 372].<br />
Как показали наши наблюдения, и в русском, и в азербайджанском языке есть в небольшом количестве фразеологизмы,<br />
пословицы, поговорки, в состав которых входят топонимы (ойконимы, гидронимы, оронимы и т.д.). Безусловно, топонимика<br />
развивается в тесном взаимодействии с историей, географией, этнографией, служит ценнейшим источником для исследования<br />
истории языка и находит применение в исторической лексикологии, диалектологии, этимологии, лингвистической географии, т.к.<br />
некоторые топонимы, в частности, гидронимы, устойчиво сохраняют архаизмы и диалектизмы. «Топонимика помогает восстановить<br />
черты исторического прошлого народов, определить границы их расселения, очертить области былого распространения языков,<br />
географию культурных и экономических центров, торговых путей и т.д. Кроме того, топонимия (особенно гидронимия), часто<br />
является единственным источником информации об исчезнувших языках и народах» [7, 292].<br />
В настоящее время рост числа топонимических исследований, расширение круга вовлекаемого в них материала ставят перед<br />
учеными новые проблемы. Мы полагаем, что изучение фразеологизмов, пословиц, поговорок, содержащих топонимы, представляет<br />
136
большой интерес, т.к. на материале разных языков сравнение может по праву считаться приемом лингвистических исследований<br />
независимо от того, идет ли речь о сравнении различных лингвистических фактов на основе теоретической модели, избранной для<br />
их описания, или же о сравнении явлений различных языков.<br />
В обоих языках фразеологизмы, пословицы, поговорки, в состав которых входят топонимы, составляют меньшинство по<br />
сравнению с единицами, содержащими в своем составе зоонимы, фитонимы, антропонимы, соматонимы, названия кушаний и<br />
напитков. В обоих языках лишь определенные топонимы (ойконимы и гидронимы) употребляются в составе таких единиц. В<br />
русском языке преобладают ойконимы Москва, Киев, Русь, гидроним Волга, в азербайджанском языке – ойконимы. Mazandaran<br />
(Мазандаран), İsfəhan (Исфаган), Bagdad (Багдад), Bakı (Баку), гидронимы Araz (Араз), Kür (Кура).<br />
В русском языке некоторые такие единицы связаны с мифологией, библейскими сюжетами, историческими фактами: Открывать<br />
Америку, Вавилонская башня; Вавилонское столпотворение; Разводить Вавилоны; Взлететь на Геликон; Аркадская идиллия; Идти<br />
в Каноссу; Иерохонская труба; Египетская казнь; Перейти Рубикон; Потемкинские деревни и др.<br />
Рассмотрим конкретные примеры:<br />
В русском языке: компонент ойконим<br />
Москва: Говорят в Москве кур доят, а коровы яйца несут; Их отсюда до Москвы не перевешаешь; Галичане свою ворону в<br />
Москве узнали; В Москве к заутрене звонили, а на Вологде звон слышали; Москва слезам не верит; Прям, как московская оглобля;<br />
Москва не сразу строилась.<br />
Русь: Прилетит гусь на Русь – погостит да улетит; Трын трынил на святой Руси, да и протрынился еси.<br />
Киев: Осёл и в Киеве конём не будет; В огороде бузина, а в Киеве дядька; Жернова говорят: в Киеве лучше, а ступа говорит: что<br />
тут, что там; Язык до Киева доведет.<br />
Один глаз на нас, другой на Арзамас; В Москве к заутрене звонили, а на Вологде звон слышали; Сердилась лягушка на<br />
Новгород, да лопнула; Дела мои – как у шведа под Полтавой; Бесконный и в Царьграде пеш (Царьград – древнерусское название<br />
Констатинополя (ныне Стамбул); Не страшит, что горит Знобищево, схватил суму да в Степанищево; Твоя бабушка моего<br />
дедушку из Красного села за нос вела; Осла хоть в Париж, все будет рыж; Лучше первым в деревне, чем вторым в Риме.<br />
Компонент гидроним<br />
Этот нос – через Волгу мост; Хорошо на Дону, а не так, как на дому; Не надо и на Яик идти (настолько хорошо жить) (Яик –<br />
название реки Урал до 1775г.).<br />
Компонент ороним:<br />
Малый вертеп мой лучше Синайской горы.<br />
В азербайджанском языке<br />
компонент ойконим:<br />
Наибольшее количество единиц с ойконимами Mazandaran - Мазендеран и İsfəhan – Исфахан (Мазендеран – название<br />
исторической области в Иране. В настоящее время – остан (административно – территориальная единица) на севере Ирана на<br />
побережье Каспийского моря). Camaata it hürər, bizə Mazandaran caqqalı – букв. На всех лает собака, а на нас Мазендеранский<br />
шакал. Ср. в русском языке: Под кем лёд трещит, под нами ломается.<br />
Hər öskürənin bogazına pambıq tıxsan, Mazandaranda pambıq qalmaz – букв. Если всем кашляющим заткнешь горло ватой, то в<br />
Мазендеране ваты не останется. Ср. в русском языке: На всякий чих не наздравствуешься.<br />
Ölmək istəyirsən, get Mazandarana - букв. Если хочешь умереть, поезжай в Мазендеран. Ср. в русском языке: Не надо и на Яик<br />
идти (настолько хорошо жить).<br />
İsfəhan – Исфахан (Исфахан – город в Иране; в конце XVI-XVIIIв.в.- столица Ирана).<br />
Burada atsız olan İsfəhanda da piyadadir – букв. Бесконный и в Исфахане пеш. Ср. в русском языке: Бесконный и в Царьграде пеш.<br />
Deyirlər İsfəhanda eşşək nərdivana cıxır – букв. Говорят в Исфахане осёл лезет на лестницу. Ср. в русском языке: Говорят в<br />
Москве кур доят, а коровы яйца несут. Soraq – soraq ilə İsfəhana getmək olar – букв. Язык до Исфахана доведет. Ср. в русском языке:<br />
Язык до Киева довёдет.<br />
Bakı – Баку<br />
Şamaxıda danişir, Bakıda eşidilir – букв. Говорит в Шемахе, а слышно в Баку. Ср. в русском языке: Говорит в деревне – слыхать во<br />
всей округе. Как видно, в данном примере фигурируют два ойкjнима: Шемаха и Баку.<br />
Zirəni Kirmana aparır, nöyütü Bakıya – букв. Возит тмин в Кирман, а керосин в Баку. Ср. в русском языке: В лес дрова не возят, в<br />
колодец воду не льют. В данном примере также два ойконима – Кирман и Баку. Следует также выделить три поговорки, которые не<br />
зафиксированы в словарях, но широко употребляются среди населения:<br />
Umxanım bildi – bütün Bakı bildi – Если Умханум узнает, то весь Баку узнает (о<br />
Bakı mənə dar gələr – букв. Баку мне тесен (о высокомерном, зазнавшемся человеке).<br />
Bakıya qar yagıb – букв. В Баку выпал снег (в шутливой форме говорят в том случае, если кто-то не по сезону тепло<br />
одет).сплетнице).<br />
Bagdad – Багдад<br />
Çanagında bal olsun, arısı gələr Bagdaddan – букв. Был бы в миске мёд, а пчела и из Багдада прилетит. Ср. в русском языке: Был<br />
бы пирог, найдется и едок.<br />
Kor burada, ya Bagdadda – букв. Слепой и здесь слепой, и в Багдаде – Ср. в русском языке: Бесконный и в Царьграде пеш.<br />
Burada mənəm, Bagdadda kor xəlifə - букв. Здесь я, а в Багдаде – слепой халиф (о человеке, который слишком высокого мнения<br />
о себе, с завышенной самооценкой).<br />
Примеры с другими ойконимами:<br />
Sən öl, mən Agcaqabulda sənin ücün dəvə kəsim – букв. Ты умри, а я для тебя в Агджагабуле верблюда зарежу (Агджагабул –<br />
название района в Азербайджане). Ср. в русском языке: Горе умереть, а за могилой дело не станет.<br />
Atı olmayan Həmədanda da / Qarabağda da piyadadır – букв. Бесконный и в Хамадане / Карабахе пеш (Хамадан – город на западе<br />
Ирана). Ср. в русском языке: Бесконный и в Царьграде пеш.<br />
Kəlləpaça suyu üçün Hövsana gedir – букв. Ради похлебки едет в Ховсан. (Ховсан – посёлок городского типа, в Азербайджане на<br />
берегу Каспийского моря). Ср. в русском языке: Едет за семь верст киселя хлебать.<br />
Qismət olsa, gələr Yəməndən, yoxsa çıxar dəhəndən – букв. Если что-то суждено, то прибудет и из Йемена, а если нет – то<br />
потеряешь. Ср. в русском языке: Несуженный кус изо рта выпадает;<br />
Eşşək Məkkəyə getməklə Hacı olmaz – букв. Даже если осёл поедет в Мекку, он от этого не станет хаджи. Ср. в русском языке:<br />
Свинья и в золотом ошейнике всё свинья.<br />
Ənzəli qamışı gəmisi – букв. Энзелинский камыш – о надоедливом, назойливом, приставучем человеке (Энзели – местность в<br />
Иране). Ср. в русском языке – банный лист. В просторечии употребляется также выражение qamışını çək məndən – букв. убери свой<br />
камыш от меня, т.е. отстань.<br />
137<br />
Philological sciences<br />
Native language
Philological sciences<br />
Компонент гидроним<br />
Araz aşıgından, Kür topugundan – букв. Араз по колено, Кура по щиколотку (Кура, Араз – самые большие реки в Азербайджане).<br />
Ср. в русском языке: Пьяному море по колено.<br />
Таким образом, как видно из вышерассмотренных примеров, в обоих языках в фразеологизмах, пословицах, поговорках<br />
фигурируют в основном ойконимы, гидронимов же очень мало (Волга, Яик, Кура, Араз).<br />
Примечательно, что в обоих языках в состав пословицах, поговорок, фразеологизмов входят в основном неместные ойконимы.<br />
Так, в азербайджанских примерах это названия иранских городов (Мазендеран, Исфахан, Хамадан, Энзели), арабских городов<br />
(Багдад, Меккеа). В русских примерах – Киев, Америка, Париж, Рим, Царьград, Полтава. Все это, несомненно, объясняется<br />
объективными историческими, политическими, экономическими факторами.<br />
В русских примерах, в отличие от азербайджанских, фигурируют также урбанонимы (Арбат, Ивановская) и ороним (Синай).<br />
Кроме того, в русском языке, в отличие от азербайджанского, есть фразеологизмы, в основе которых лежат топонимы, созданные<br />
языковой шуткой, каламбуром, например: отправиться в Могилёвскую губернию в значении «умереть» является каламбурной<br />
перифразой слова могила; съездить кого в Харьковскую губернию, Зубцовский уезд, в город Рыльск, в Рожественский приход или<br />
Мордасовский уезд. Как верно отмечает В.М.Мокиенко, «шутливый адресат» последних оборотов (харя, зубы, рыло, рожа, морда)<br />
слишком прозрачен чтобы его детально комментировать [2, 66].<br />
Весьма интересно, что русские эквиваленты некоторых азербайджанских пословиц, поговорок с компонентом ойконим тоже<br />
содержат в своем составе ойконим, например: Soraq – soraq ilə İsfəhana getmək olar – Язык до Киева доведет; Kor burada, ya<br />
Bağdadda – Бесконный и в Царьграде пеш и др..<br />
В целом, тот фрагмент языковой картины мира, который просматривается через денотативное, образное и оценочное содержание<br />
фразеологизмов, пословиц, поговорок, отражает способ мировидения, характерный для той или иной лингвокультурной традиции.<br />
Литература<br />
1. Дронов В.В. Языковая картина мира. Журнал «Русский язык за рубежом». №5, 2007, (204), с. 5-7.<br />
2. Мокиенко В.М. О собственном имени в составе фразеологии – Перспективы развития славянской ономастики. М., Наука,<br />
1980, с.57-67.<br />
3. Пермяков Г.Л. Основы структурной паремиологии. М., 1988.<br />
4. Телия В.Н. Первоочередные задачи и методологические проблемы исследования фразеологического состава языка в контексте<br />
культуры. / Фразеология в контексте культуры. М., 1999, с. 13-24.<br />
5. Алиева Р. Азербайджанские топонимы. Баку, «Ганун», 2002.<br />
6. Аскеров Н. Азербайджанские гидронимы. Баку, 2002.<br />
7. Халилов Б. Лексикология современного азербайджанского языка. Баку, 2008.<br />
8. Гамидов И., Ахундов Б., Гамидова Л. Азербайджанско – русский, русско – азербайджанский словарь пословиц и поговорок.<br />
Баку, «Тахсил», 2009.<br />
9. Тагиев М.Т. Русско-азербайджанский фразеологический словарь. Баку, 2006.<br />
ЦЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ – ОСНОВА АКСИОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ<br />
Шаханова Р.А., д-р пед. наук, проф.<br />
Казахский национальный педагогический университет им. Абая, Казахстан<br />
Добаев Киргизбай, д-р пед. наук, проф.<br />
Кыргызстан<br />
Участники конференции<br />
В статье рассмотрены ценности культуры как основа аксиологического потенциала личности в современном мире, при этом<br />
особое внимание уделено метафоре.<br />
Ключевые слова: Культурные ценности, национально-этический аспект, аксиологический подход, антропоцентрические<br />
метафоры<br />
In this article is being reviewed the values of culture as the basis of akseology рotential of рersonality in the modern life, and in this case<br />
the sрecific aftention has been рaid to the metafor..<br />
Native language<br />
В связи с изменившимся как научным, так и онтологическим статусом культуры все больше исследователей<br />
обращают свое внимание на личностные и социокультурные аспекты образования. Фундаментальной задачей образовательного<br />
процесса становится приобщение человека к высокому знанию, которое связывается как с глубинной<br />
сущностью человека, так и с развитием духовной культуры. При исследовании параметров новой парадигмы образовательного<br />
процесса индивид ориентирован на устоявшуюся нормативно-регулируемую систему ролевого поведения,<br />
способен включать символические средства в структуры идентификаций, регулировать свое поведение. Целостность<br />
психического «я» личности осуществляется за счет идентификации себя с различного рода группами, в первую<br />
очередь участвующими в интеграционных процессах, основанных на профессиональном разделении труда.<br />
Становление культуры личности, ее ценностно-смысловое определение выделяются в качестве одного из основных<br />
приоритетов: образование выступает как сложный культурный процесс развития и саморазвития языковой личности,<br />
как культурная деятельность субъектов.<br />
Главным свойством личности оказывается способность как создавать, так и усваивать культурные ценности, нормы и паттерны<br />
поведения. Личность в контексте современного образования выступает в первую очередь как активный деятель и творец своего<br />
культурного «я». Культурогенез личности, по мнению ученых, предполагает и сотворчество в освоении, переинтерпретации,<br />
инновизации культуры. Образование как феномен культуротворчества в данном случае обеспечивает межличностный обмен коммуникативными<br />
ценностями, расширяет индивидуальное «я» до пределов социума.<br />
Образование базируется на ценностях культуры того общества, в котором оно функционирует. Культурологический подход к<br />
высшему профессиональному образованию, позволяющий рассматривать его как процесс интеграции будущим специалистом социокультурных<br />
ценностей при его личностном самоопределении и профессиональной деятельности, является одним из важнейших<br />
138
механизмов формирования профессиональной культуры специалиста средствами изучения языка. В языке находят отражение<br />
нормы этикета, своебразие народной педагогики, характер мышления, социально-экономические отношения членов общества и<br />
многие другие особенности народа – носителя этого языка. Умелое использование языковых средств – залог успеха в решении<br />
многих вопросов воспитания и обучения [1, с.66].<br />
Нравственные же знания основаны на нормах, которые регулируют поведение в обществе. Этические знания помогают<br />
формировать отношение к окружающему миру. Общекультурные знания создают кругозор человека. Изучение языков, побуждающее<br />
обучающихся к осмыслению ценностей, накопленных родными и мировыми культурами, расширяющее профессиональную<br />
картину мира и возможность определения своего места в многокультурной реальности, оказывает особое влияние на развитие не<br />
только общей, но и профессиональной культуры обучающихся [1, с.63].<br />
Существующая в казахстанском обществе система ценностей связана со спецификой менталитета, свойственного определенной<br />
нации. Ее выявление представляет собой проблему не только философии, этики, психологии, но и лингвистики, рассматривающей<br />
отражение ценностных категорий в языковой картине мира.Обучение языкам должно происходить в духе диалога культур, что подразумевает<br />
воспитание ценностных ориентаций по отношению к культурному наследию своей страны и развитие способности проникновения<br />
в культуру страны изучаемого языка в ходе сопоставления общественных, культурных и языковых реалий, воспитание<br />
взаимопонимания и терпимости по отношению к чужой культуре, инакомыслению, развитие способности понять человека иной<br />
культуры, веры, мышления, формирование уважительного отношения к народу, нации, принятым в стране обычаям, развитие<br />
понимания в социокультурной принадлежности к национальному и мировому сообщесту, способность ориентироваться в<br />
ценностных категориях общества и приобщаться к ним.<br />
То есть, по мнению М.Джусупова, необходимо учитывать национальные (ментальные, психологические, языко-речевые)<br />
особенности каждого народа, каждого языка в отдельности [2, с.26].<br />
Так как мы знаем, что аксиология изучает вопросы, связанные с природой ценностей, их местом в реальности и структурой<br />
ценностного мира, то есть о связи различных ценностей между собой, с социальными и культурными факторами и структурой<br />
личности, в нашем случае языковой личности, то аксиологическую культуру обучающегося, формируемую при изучении языков,<br />
можно определить как многоуровневое интегративное динамическое личностное качество, выражающее его способность к сознательно-избирательному<br />
усвоению ценностей иноязычной культуры, последующий синтез продуктивного потенциала иноязычной<br />
и родной культуры и построение на их основе новой системы ценностей в качестве субъекта своей национальной культуры. Идея<br />
диалога культур имеет особое значение. Диалог культур в образовании, основывающийся на признании равноправия, равноценности<br />
культур, позволит, на наш взгляд, сформировать у личности образ культуры мира и ненасилия, готовность к общению, умение<br />
сотрудничать с представителями разных культур. В культурной среде, в частности, в контексте диалога культур, личность<br />
вырабатывает свою собственную культуру, которая не может быть представлена как «механическое переливание» духовного<br />
содержания среды, окружающей человека, в духовный мир его личнсти, поскольку сам механизм усвоения культуры носит<br />
избирательный характер, зависящий от индивидуальных черт личности. Избирательное отношение личности к аксиологическим<br />
реалиям культур чаще всего основано на эмоциональной стороне духовного мира личности, поскольку эмоциональная культура<br />
является важнейшим компонентом духовного содержания личности. Категория «ценность» является как бы связующим звеном<br />
между разными культурами.<br />
Аксиологический подход является системообразующим компонентом ценностного самоопределения будущего специалиста-филолога,<br />
способствует развитию его аксиологического потенциала, формированию ценностно-смыслового отношения<br />
к жизни, профессии, к себе, развитию ценностных ориентаций и потребности в ценностном осмыслении результатов профессиональной<br />
и социальной деятельности. Ассимилируя и преобразуя общественно необходимые и социально-групповые<br />
ценности, магистрант, как будущий специалист, строит собственную систему ценностей, элементы которой приобретают<br />
вид аксиологических функций [3, с.67].<br />
В настоящее время многие исследователи обращают свое внимание к проблеме «ценностной картины мира».<br />
В ценностную картину мира входят такие фундаментальные принципы, как система моральных ценностей, этических норм,<br />
поведенческих правил, отношение ко времени, к деятельности, природе, представления о ценности межличностных отношений.<br />
При межъязыковом сопоставлении ценностных картин мира обнаруживается, что различие между представлением тех или иных<br />
концептов выражается большей частью не в наличии или отсутствии определенных признаков, а в частности этих признаков и их<br />
специфической комбинаторике.<br />
Проблемы в образовании – историческом, литературном, культурном, страноведческом – чреваты лакунами в языковом<br />
сознании, в языковой картине мира. При обучении трехъязычию «Первое и основное, что проистекает из такой культуроведческой<br />
позиции и целеполагания,- это то, что в центре внимания методистов и преподавателей оказывается в идеале – бикультурная и<br />
билингвальная языковая личность, способная к адекватной социокультурной деятельности в условиях иной языковой и культурной<br />
общности. Именно культуроведение ставит в центр методического внимания – человека, носителя определенного языка и культуры,<br />
его фоновые знания и поведенческие нормы. Подобная адресность, нацеленность становится общепризнанной, интерпретируется<br />
лингводидактически, обрастает методически целесообразными решениями» [3, с.63].<br />
Огромную роль представляет использование в процессе изучения языков матафор. Поскольку у каждого народа своя культура,<br />
философия, концептосфера, свой менталитет, то в процессе изучения метафор выявляются не только различия, но и то общее, что<br />
характерно для разных этносов, что способствует сближению национальных культур и, в конечном счете, взаимопониманию. В<br />
идиоматике языка, то есть в том слое, который, по определению, национально специфичен, хранится система ценностей,<br />
общественная мораль, отношение к миру, людям, другим народам.<br />
Метафора является одним из центральных понятий в современной научной парадигме и выступает объектом изучения целого<br />
ряда наук, таких как философия, логика, герменевтика, когнитивная психология, языкознание. В последние десятилетия интерес к<br />
метафоре значительно возрос. Это связано прежде всего с тем, что метафору стали рассматривать как один из основных механизмов<br />
познания мира, отражения внеязыковой действительности. В настоящее время изучение метафоры носит междисциплинарный<br />
характер, что позволяет глубже проникнуть в суть этого явления и связать его с познанием мира человеком, вскрыть взаимосвязи<br />
между объектами изучения разных областей знания. В работах, посвященных проблемам метафоризации, часто отмечается, что<br />
интерес к метафоре способствовал взаимодействию названных выше направлений научной мысли, их консолидации [4]. В<br />
языкознании теория метафоры разрабатывается как отечественными, так и зарубежными специалистами (Н.Д. Арутюнова[5], Е.М.<br />
Вольф [6], Н.С. Новикова [7], Дж.Лакофф [8] и др. Мы согласны c гипотезой Дж.Лакоффа и М. Тернера, по которой художественная<br />
метафора является концептуальной (базовой или комплексной).<br />
Исследования ученых позволяют выявить целый ряд метафорических проекций, основанных на индивидуальном опыте, культурологических<br />
стереотипах, что особенно важно при определении ценностных категорий общества. Метафора в аксиологическом<br />
аспекте должна рассматриваться как языковое явление (в сравнении с другими риторическими приемами), как когнитивное явление<br />
(как способ мышления и средство формирования картины мира) и как социокультурное явление (как средство формирования<br />
139<br />
Philological sciences<br />
Native language
Philological sciences<br />
картины мира, как глобальной, так и национально-специфической).<br />
В ситуации оценки в качестве точки отсчета выступает оценивающий субъект и/или субъект пользы. Оценка начинается с<br />
субъекта и определяется его системой ценностей, ценностными установками и приоритетами, этим обусловлена релятивность<br />
оценки. В оценках видны критерии, по которым субъект оценки производит свои суждения и которые характеризуют самого<br />
оценочного субъекта как языковую личность, как носителя определенной системы ценностей. Система ценностей - это динамический<br />
набор прескриптивных характеристик, обладающий временной, социальной, геронтологической и культурной обусловленностью.<br />
Определенные группы метафор обладают богатым аксиологическим потенциалом. Наиболее оценочны антропоцентрические<br />
метафоры, описывающие человека в терминах животных или артефактов, а также метафорические бинарные оппозиции и<br />
метафоры, связанные с репрезентацией эмоций в языке.<br />
Таким образом, обоснование новой парадигмы образовательной системы высшей школы, обеспечивающей становление<br />
личности в культуре, разработка теоретических основ, раскрывающих сущность процесса становления и развития аксиологического<br />
потенциала личности на основе ценностей культуры - актуальная задача педагогической науки.<br />
Литература:<br />
1. Высшее образование сегодня: Учебно-методический журнал. Статья Т.М.Елканова, Н.М.Чеджемова.«Иностранный язык как<br />
средство формирования этико-аксиологического компонента общегуманитарного базиса образования». - М., № 2. - 2012 г. с.66-67.<br />
2. Русский язык за рубежом: Учебно-методический журнал. Статья М.Джусупова. «Социолингвистика, лингводидактика,<br />
методика» (взаимосвязь и взаимообусловленность). М., № 1. - 2012 г. с.26-27.<br />
3. Митрофанова О.Д. «Методическая проблематика культуроведения». Сборник статей к ХІІ конгрессу МАПРЯЛ. М. – 2011 г.<br />
с.242-243.<br />
4. Арутюнова Н. Д. Аксиология в механизмах жизни и языка / Н. Д. Арутюнова // Проблемы структурной лингвистики. М.,<br />
1984. - С. 523.<br />
5. Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека / Н. Д. Арутюнова. М.: Языки рус. культуры, 1999. - 895 с.<br />
6. Wolf J. Untersuchungen zum Wortfeld plakat smejatsja in der russischen schriftsprache von 1850 bis 1950 / J.Wolf // Slavistiscen<br />
Lingvistics. - Frankfurt on Maine, 1976.-Bd. 2.<br />
7. Новикова Н. С. Многомирие в реалии и общая типология языковыхкартин мира / Н. С. Новикова, Н. В. Черемисина //<br />
Научные доклады высшей школы. Филол. науки. 2000. - № 1. - С. 40-49.<br />
8. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем// Теория метафоры. Москва, 1990.<br />
ОПИСАНИЕ СЕГМЕНТА ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ<br />
ЮЖНОРУССКОЙ ДИАЛЕКТНОЙ ЗОНЫ<br />
(на примере представлений о загробном мире на территории Тамбовской области)<br />
Махрачева Т.В., канд. филол. наук, доцент<br />
Махрачев С.Ф., канд. филос. наук, доцент<br />
Тамбовский государственный университет им. Г.Р.Державина, Россия<br />
Участники конференции,<br />
Национального первенства по научной аналитике<br />
В статье дается описание одного из важнейших фрагментов традиционной картины русских, связанного с архаичными<br />
воззрениями о смерти, в частности, с представлениями о загробном мире. Сложная, разветвленная модель загробного мира,<br />
бытующая на территории Тамбовской области, не только знакомит с его обитателями, ландшафтом и системой наказаний, но<br />
и свидетельствует в пользу его существования.<br />
Ключевые слова: традиционная народная культура, загробный мир, Тамбовская область.<br />
The article gives the description of one of the most important fragments of traditional representation of the Russians associated with<br />
archaic views on the death and on the afterworld particularly. The complex multibranch model of the afterworld existing on the territory of<br />
Tambov region not only introduces its inhabitants, landscape and the system of punishment, but also testifies in favour of its existence.<br />
Keywords: traditional folk culture, the afterworld, Tambov region.<br />
Native language<br />
Накопление сведений по духовной культуре на современном этапе является одной из важных задач диалектологии,<br />
лингвогеографии, этнолингвистики, а также смежных наук – этнографии, фольклористики, краеведения. Комплексный подход к<br />
изучению и детальное осмысление собранного в последнее время богатейшего материала по различным локальным традициям,<br />
основу которого составляют говоры и областные наречия, становится в руках исследователя ключом к решению важнейших задач,<br />
связанных с изучением и интерпретацией общей картины мира, системы ценностных ориентиров, самоидентификации людей в<br />
культурном пространстве, способствует пониманию особенностей быта и национального характера русского этноса.<br />
Острая необходимость осуществления подобных исследований в наши дни обусловлена не только включением данного аспекта<br />
в парадигму антропологических научных знаний, но и той реальностью, в которой бытует этот культурный феномен (традиционная<br />
народная крестьянская культура) и которая безвозвратно утрачивает свой первоначальный облик. Изучение ценностных ориентиров<br />
и духовных истоков сделали очевидной необходимость комплексного изучения двух знаковых систем – языка и культуры, поставив<br />
вопрос об «участии языка в созидании духовной культуры и участии духовной культуры в формировании языка» [1]. Достойное<br />
место в этом ряду заняли исследования, посвященные изучению и описанию языка традиционной культуры, в коих традиционная<br />
культура оказывается представленной через свой языковой образ, в «зеркале языка» [2].<br />
Категорию «смерти» можно считать базисным понятием для любой культуры и этноса. Смерть и вся разветвленная система<br />
обрядовых действий, многочисленные запреты, представления и поверья, обслуживающие этот феномен, убедительно доказывают<br />
мысль о значимости, буквально озабоченности смертью, о том эффекте, который производит это явление на общество и на каждого<br />
отдельно взятого индивидуума. На протяжении всей истории культуры человечества смерть выступает как ярчайший маркер и<br />
оппозит ценности всего живого, в том числе и человеческого существования, задавая вектор его жизненному пути, влияя на выбор<br />
и оценку нравственных и ценностных ориентиров, способствуя духовному росту, особым образом организуя пространство вокруг<br />
него. С этим понятием оказывается неразрывно связан целый комплекс важнейших представлений о душе, грехе, судьбе, доле,<br />
140
загробном мире и т.п.<br />
Стремясь проникнуть в сущность загадочного явления смерти, справиться с ожидающей вечностью, безвременьем, человек<br />
создает целую вселенную – загробный мир с характерным ландшафтом, обусловленным мифологическими представлениями, его<br />
обитателями, выстраивая вертикаль их взаимоотношений, вырабатывая способы проникновения в мир мертвых, а позднее и<br />
систему коммуникаций между двумя мирами. «Миропорядок» царства мертвых выстраивается с учетом особенностей трех сфер:<br />
рая; места, где вершится суд; ада. Первый, рай, и последний, ад, вне зависимости от размещения в пространстве семантически диаметральны<br />
1 . Рай, как правило, возвышается над адом, но полевой материал не дает достаточных оснований утверждать о<br />
неизменной привязке его к небесам или об их разноплоскостном местоположении в пространстве. Расположение ада и рая в одной<br />
плоскости свидетельствует об архаичности данных представлений, которые были широко распространены среди славян. На<br />
территории области описание загробного мира как единого местопребывания душ без разделения на ад и рай характерно только для<br />
текстов плачей. В них потусторонний мир предстает как монолитное пространство в виде леса или содержит указание на<br />
«удаленность» пространства, которое традиционно воспринималось как «чужое», пространство/поле смерти: «Милый мой сыночек,<br />
/Уходил ты в лесочек. /Больше тебя не увижу, /Голосочек твой не услышу. /Запропали твои следочки, /Заросли они травушкоймуравушкой,<br />
/Зеленым леском….» [3]. Попутно заметим, что переход в «удаленность», которой характеризуется пространство<br />
смерти, подспудно осознается жителями и как закрытость, пространственная отчужденность, исключающая возможность<br />
возвращения. Ср.: многочисленные указания на то, что никто не знает подробности о загробном мире, потому что оттуда никто не<br />
вернулся. Эти представления жителей области довольно гармонично вписываются в общеславянскую канву содержательной<br />
стороны погребального обряда: «В обряде ритуально закрепляется перемена статуса человека, осмысленная в пространственных<br />
категориях выхода из одного локуса (ср. костр. выход – “смерть”) и входу в другой» [4].<br />
Характеристиками рая являются свет и/или блеск, тепло, пышное цветение растительности, веселье, пение и отсутствие<br />
мытарств. В целом, анализ полевых материалов позволяет утверждать, что жителям области известны три основные<br />
«модели» рая – «сад», «город», «небо», встречающиеся в книжной традиции [5]. Главной особенностью этих моделей<br />
является отсутствие употребления их в чистом виде, например, самый распространенный стереотип рай-сад нередко<br />
помещался в огороженном месте, напоминающем село/город, которое в свою очередь находилось на небе, или же рай-сад<br />
расположен на небе: «Вот я не знаю, вот у нас к соседке приезжал, ну, зять, вот она говорить, он военный, у нас, говорить,<br />
один военный, говорить, был в Чернобыле он, что ля, вот вроде раненый и с ним вроде случалось с сердцем, вот уж два раза,<br />
вот третий раз. Вот с ним, говорить, жена сидела, сидела сколько лет сидела, под капельницей был… Ну и вот, ну и пришла<br />
в синяках, вот у нас, говорит, выписался один, Ступай, полежи отдохни, сосни часок. Ну она пошла. Приходе, уже рассветае,<br />
а ей говорят – “У тебе муж умер”. Она в себе не хуже… так волновалась… Ну ушла домой, надо отобрать всё, одежду,<br />
искупать, и всё. Вот, говорит, приходя, очутилась – грохот невозможный, в этом в морге. И вот представь себе, открывають,<br />
а он сидить. Да, сидить живой, а она против, они, говорят, с ним плохо сделалось… Он говорит: “Ну поехали домой. Ой, я<br />
был в Царстве небесном. Мене, говорят, ангелы взяли под руки, водили мене. Какую я, говорит, прелесть видел, всё как<br />
золотом горело: и яблоки, и вышни – всё-всё-всё мне указывали”. “Ну а теперь, – они мне говорят, – спускайся на землю”. А<br />
я говорю: “Нет, я отседа не пойду, добре хорошо”, – а он говорит: “Тебе ищо рано, ты по земле походишь, ты ещё молод”.<br />
Это вот он деду рассказывал. Это его телеса тут были, а душа-то его там…» [с. Тынково, Петровский р-н, запись автора 2002<br />
г.]; «Душа приходит это неплохо, наоборот она должна приходить во сне и рассказывать. Вот в аду, все в огне, а в раю все<br />
блестит, повсюду иконы, мытарств нету» [с. Кривополянье, Бондарский р-н, запись автора 1995 г.]; «Поле всё в цветах. По<br />
полю в венках ходят. И все говорят: “Здесь очень хорошо”…» [д. Шилово, Бондарский р-н, запись автора 1995 г.].<br />
Ад – это бездна, яма, озеро, кипящий котел, вечно бушующий огонь и бесконечные страдания и слезы: «Ад есть, в аду котлы<br />
кипят» [с. Кривополянье, Бондарский р-н, запись автора 1995 г.]; «Бог есть, Бог был, есть и будить, Господь на небясах, судить нас<br />
придёть, придёт время, спустится по лестнице Господь нас, и будуть ангяла в трубы будуть трубить, вставайтя, живыя и мёртвыи,<br />
мертвыи, на суд божи. И все будим подниматся, на… на суд божий к Господу Богу. И Он нас там будить судить, каво как, нагряшили,<br />
за какие грехи, там будить огнянная озера такая, за какие грехи там, огненое озеро бросають и всё, и весь век будишь в огненном<br />
озере гореть, да. Вот так, да» [с. Стёжки, Сосновский р-н, запись Лоскутовой Д.Н. 2006 г.].<br />
Знакомство с загробным миром происходит посредством сновидений, обмираний (т.е. рассказов о посещении «того света»),<br />
через тексты духовных стихов, плачей, а также через пословицы, поговорки и загадки. Нарратив не только формирует устойчивые<br />
представления о потустороннем мире, но и всячески поддерживает саму мысль о возможности его существования, свидетельствуя<br />
в пользу его реальности.<br />
Несмотря на желание православного человека обрести рай после смерти, в народной культуре региона обнаруживаются<br />
фрагментарные описания, которые представлены в различных фольклорных жанрах и достаточно схематично характеризуют это<br />
место. В них содержатся общие указания на ландшафт, который предстает как гористое место (вар.: рай помещается на вершину<br />
горы или изображается как гора), вечно зеленый сад (вар.: яблоневый/вишневый сад), цветущее поле и метафорически – в виде<br />
сахарных уст: «Обмирают. Когда сколько-то дён спала, и вот она видала рай – высокая гора» [с. Граждановка, Бондарский р-н,<br />
запись автора 1995 г.]; «Если праведная душа, то добрые ангелы вынают душу и отправляют в сахарные уста. Душа – это воздух,<br />
святой дух» [с. Граждановка, Бондарский р-н, запись автора 1995 г.].<br />
Обитателями рая являются души праведников и крещеные дети, умершие во младенчестве. Будучи безгрешными (что нашло<br />
отражение и в номинации, ср.: ангельская душка) для них врата рая всегда оказываются открытыми, и они беспрепятственно<br />
попадают к Богу. Для второй категории, праведников, необходимо было наличие при жизни таких качеств как: достойность/праведность<br />
или святость. Достойность жителями области трактуется как избранность, отмеченность свыше, ее, как и судьбу/долю, получают<br />
еще при рождении. Самым ярким доказательством наличия этого качества служит сама смерть, которая наступает в результате<br />
разряда молнии или приходится на крупный календарный праздник, когда по народным представлениям Небесные врата/двери<br />
открыты [6]: «[Можно ли поминать человека, которого убило молнией?] Это поминають, да, это святой. Да, от грома это достойный.<br />
Када самый достойный человек, его убивает громом» [с. Кёрша, Рассказовский р-н, запись Чемерчёвой А.А. 2003 г.]. Небесные<br />
врата, служащие входом в рай, являются примечательной деталью, встречающейся преимущественно в контекстах народного<br />
календаря.<br />
Второе качество – святость, в отличие от достойности следовало заслужить. С этой целью необходимо было неуклонно<br />
соблюдать библейские заповеди и исполнять/участвовать в особых обрядовых действиях. Традиционно жители области указывают<br />
на совершение обрядового действия «обмывание» при подготовке умершего к погребению. Важным, по мнению крестьян,<br />
оказывается не только совершение данного обрядового действия, но и количество, в котором оно осуществлялось, так, следовало<br />
141<br />
Philological sciences<br />
1 Диаметральность этих полюсов, как точно подметил Е. Бартминьский в своей работе, мыслилась не только в пространственной плоскости, но и «…<br />
в этическом смысле (добро – зло), эстетическом (прекрасное – безобразное), физическом (светлое – темное, высокое – низкое)» // Е. Бартминьский, Ст.<br />
Небжеговская. Языковая картина польского рая и ада // Славянские этюды. Сборник к юбилею С.М. Толстой. М., 1999. С.58.<br />
Native language
Philological sciences<br />
обмыть не менее тридцати трех умерших: «Всех [умерших] обмывають обязательно: мужчина мужчин, а женщина женщин. Кто<br />
тридцать три обмоеть, то святыми будуть, в рай попадуть» [д. Шилово, Бондарский р-н, запись автора 1995 г.]. Несмотря на<br />
внешнюю простоту выполнение этого условия вызывало значительные трудности, поэтому в народной среде прочно укоренилась<br />
мнение о невозможности при жизни заслужить святость, а следовательно и обрести рай.<br />
Осмысление смерти, и прежде всего, перехода в загробный мир, в народной среде обнаруживает тесную связь с представлениями<br />
о земной жизни умершего, его жизненном пути, а также поступками живых, которые неизбежно оказывают влияние на дальнейшую<br />
судьбу умершего. Логичным поэтому оказывается семантическая связь темы пути/дорог со смертью и посмертными странствиями<br />
души в загробном мире. Движение души, навсегда покидающей тело, находит отражение в многочисленных фразеологизмах.<br />
Любопытно отметить, что поскольку «человеческая душа сотворена Богом “вдухновением Божьим”» [7], то и при расставании<br />
души с телом, мы нередко обнаруживаем указание на его причастность: Господь душу вынул, отдать Богу душу, душа к Богу<br />
отходит, Бог на руки взял, Господь прибрал, Господь его грех принял и т.д. Однако душа не сама выступает инициатором начала<br />
этого движения, инициатива, как правило, принадлежит сакральным силам, которые в назначенный срок спускаются за ней или<br />
извлекают ее из тела, сопровождая в дальнейшем до местораспределения. В зависимости от того какую жизнь вел человек в миру<br />
за душой спускался сам Господь (вар.: Святой Дух, светлый ангел) или сатана (черти): «А удушенных не придают земле, и крест не<br />
ставят. На самоубийцах враг катается тама. За ними Сатана приходит, они неправедные, за душой ихней. А праведных – ангел, Дух<br />
Святой, провожает» [с. Пахотный Угол, Бондарский р-н, запись автора 1995 г.].<br />
Попав в загробный мир, душа на своем пути преодолевает огненную реку (вар.: река без какого-либо определения) или<br />
движется по тонким жёрдочкам (вар.: тропинкам), ведущим в рай, ад.<br />
Пребывая в раю, праведные души не обременены какими-либо делами. Дети вкушают спелые фрукты, а взрослые мягкий хлеб.<br />
И то и другое умершим обеспечивают ныне живущие, своевременно совершая годовые и календарные поминки и соблюдая<br />
запреты, наиболее распространенным из которых является запрет на употребление плодов до дня их освящения. Обитатели рая<br />
свободно перемещаются в пространстве, спускаясь на землю к живым по крупным праздникам.<br />
Второй значительный локус загробного мира это место, где вершится суд над душой. Это промежуточная стадия, на которой<br />
находится душа перед вынесением приговора, получила на территории области название небесной канцелярии. Описание места, где<br />
вершится суд, возникает, как правило, в контексте распределения душ после смерти. Весы и сама процедура взвешивания, ее<br />
участники и вечная борьба за человеческую душу между ангелами и демонами – один из наиболее ярких фрагментов этих текстов.<br />
Правит суд Господь. К назначенному дню ангелы, представляют список добрых дел, а демоны – злых. Свитки помещаются на чаши<br />
весов, движение которых отображает их «удельный» вес, оказывая существенное влиянии на конечное решение. Приговор выносит<br />
Бог. В соответствии с приговором душу направляли в рай, ад или сторожем к вратам, которые претворяли суд. Подробное<br />
описание самого действа и его участников, передача их эмоционального состояния оказываются для жителей области важнее, чем<br />
архитектурно-ландшафтные атрибуты и месторасположение локуса, сведения о которых практически отсутствуют.<br />
Разработанность ада, точнее тех его фрагментов, которые связанны с возмездием, наказанием поражает своим разнообразием<br />
и составляют добрую часть текстов при обращении к теме загробного мира. Ад предстает как бушующий<br />
огонь, кипящий котел огромных размеров, раскаленная сковорода, озеро, и, наконец, пропасть, или бездна, состоящая<br />
из разного количества уровней, или кругов: от 666 до 999. Также как и рай, ад располагается за дверью. Каждый<br />
уровень, или круг ада отмечен страданиями грешников. Среди них есть такие, которые встречаются достаточно часто<br />
и наводят на мысль, что их частотность обусловлена не столько особенностями быта, сколько стремлением общества<br />
создать регулирующий механизм для сохранения и поддержания жизненных устоев, традиций. Суть этого механизма<br />
сводится к регламентации нарушений различных норм: нравственных, социальных, эстетических и религиозных (т.е.<br />
воровство, ложь, прелюбодеяние, алчность, сквернословие, злоупотребление спиртными напитками и их продажа,<br />
аборты и многое, многое другое) – все то, что привычно объединяет понятие грех, прочно закрепившееся за<br />
живущими. Представления о грехе, бытующие в народной культуре, зиждутся на православной традиции. «Первоисточниками<br />
перечней грехов, – находим мы в монографии Вендиной Т.И. – содержащихся в старославянской письменности,<br />
является Библия и Евангелия, а также святоотеческие творения», – и далее рассуждения автора о понятии<br />
греха и порока, “смертельного греха”, классификации грехов в понимании средневекового человека и их реализация в<br />
церковно-славянском языке. [8]. Понятие греха детерминирует форму наказания в загробном мире, а также степень ее<br />
тяжести, так, грешники, вынуждены вечно пребывать в воде за то, что при жизни злоупотребляли спиртным; девушка<br />
– обнимать огненный столб в наказание за прелюбодеяние; женщина – отделять молоко от воды в назидание другим<br />
за совершенный ею обман/воровство и т.д.: «За грехи на том свете наказания бывают. Вот вином торговала, на том<br />
свете в тине стоять будешь. На свете пила, края не видала, вот как утица будешь плавать, а до края не доплывет. Закон<br />
нарушала: мужа отбила – огненный столб обнимать будешь. Украла – понесешь на суд отдать все Богу. Ребенка убила<br />
[аборт] – получит она все головочки сквозь ребер» [с. Граждановка, Бондарский р-н, запись автора 1995 г.].<br />
На судьбу грешников, попавших в ад, оказывал влияние и характер смерти. По характеру смерть различалась на естественную,<br />
свою, наступившую в результате естественного прекращения физиологических процессов (от старости) и насильственную, не свою<br />
(в результате убийства или самоубийства). Самоубийство на территории области считалось тяжким грехом. Такое отношение было<br />
сформировано и обусловлено всей системой ценностей, на которой базировалась народная культура. Отступление от этой нормы<br />
порицалось, поскольку совершалось, по мнению крестьян, непременно с участием демонических существ, ср.: Сатана дух дунул,<br />
черти петлю накинули, черти взяли и т.п. В этом случае души умерших не только навечно попадали в ад, но и состояли в услужении<br />
демонов.<br />
Native language<br />
Литература:<br />
1. Вендина Т.И. Диалектное слово в парадигме этнолингвистических исследований //ЛАРНГ: Материалы и исследования 1999.<br />
СПб., 2002. С.3.<br />
2. Березович Е.Л. Русская топонимия в этнолингвистическом аспекте. Екатеринбург, 2000. С.8.<br />
3. Пискунова С.В., Махрачева Т.В., Губарева В.В. Словарь тамбовских говоров (духовная и материальная культура). Тамбов:<br />
Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2002. С. 225, 226-227.<br />
4. Седакова О.А. Содержательный план славянского погребального обряда (На материале восточных и южных славян XIX-XX<br />
вв.)// Балто-славянские этнокультурные и археологические древности. Погребальный обряд. Тезисы докладов. М., 1985. С.71.<br />
5. Славянские древности. Этнолингвистический словарь в 5-ти тт. Под общей редакцией Н.И. Толстого. М.: Международные<br />
отношения, 2009. Т.4. С.397-398.<br />
6. Махрачева Т.В. Народный календарь Тамбовской области (этнолингвистический аспект). Тамбов, 2008. С.34, 164.<br />
7. Вендина Т.И. Средневековый человек в зеркале старославянского языка. М.: Индрик, 2002. С.219.<br />
8. Вендина Т.И. Средневековый человек в зеркале старославянского языка. М.: Индрик, 2002. С.204-211.<br />
142
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ПРОСТРАНСТВО В РУССКОМ ЯЗЫКЕ<br />
Саметова Ф.Т., канд. филол. наук, доцент<br />
Университет Кайнар, Казахстан<br />
Участник конференции,<br />
Национального первенства по научной аналитике<br />
Особую роль в передаче мировосприятия играет фразеологический состав языка. Историческое развитие народа, его трудовая<br />
деятельность, общественные отношения людей, быт, нравы, традиции, своеобразные условия жизни накладывают отпечаток<br />
на национальную специфику образных средств языка. Поэтому фразеологизмы рассматриваются как хранители культурной<br />
информации.<br />
Ключевые слова: пространство, фразеологические единицы, русский язык, культурная коннотация.<br />
A special role in the transmission of world view is a language phrasebook. The historical development of the people, their work activity,<br />
social relations, daily life, customs, traditions, and peculiar conditions of life leave their imprint on the national specifics of figurative<br />
language. Therefore, idioms are regarded as custodians of cultural information.<br />
Keywords: space, phraseological units, the Russian language, the cultural connotation.<br />
Пространство, являясь одной из двух форм существования материи, наряду со временем, играет большую роль в формировании<br />
представлений народа об окружающем мире, что можно увидеть в собранном нами языковом материале. Известно, что каждый<br />
фрагмент мира получает языковое выражение в виде слова. Особую роль в передаче мировосприятия играет фразеологический<br />
состав языка. Историческое развитие народа, его трудовая деятельность, общественные отношения людей, быт, нравы, традиции,<br />
своеобразные условия жизни накладывают отпечаток на национальную специфику образных средств языка. Поэтому фразеологизмы<br />
рассматриваются как хранители культурной информации.<br />
Как известно, к всеобщим свойствам пространства относится протяженность: пространство распростерто в разные стороны от<br />
человека, следовательно, субъективно, чувственно. Субьективное восприятие пространства и объектов различны у разных народов,<br />
хотя и имеют некоторые черты сходства. Для народов, сложившихся как этнос в лесных или горных районах, мир представляется<br />
относительно замкнутым пространством, для народов, которые жили и живут в степи – пространство не имеет границ и кажется<br />
бесконечным, что во многом определяет поведение представителей народа, отображенные в понятиях.<br />
С помощью понятия «пространство» человек характеризует протяженность мира. Его связность, непрерывность, многомерность.<br />
Оно представлено в языке, сознании, культуре, «одушевляется» человеком, «прочитывается» им, представляя собой область<br />
человеческих представлений о мире.<br />
В сознании русских образ пространства представляет собой горизонтальное движение: вширь, вдаль, вокруг, свидетельством<br />
чему являются языковые средства выражения значения: на все стороны, на все четыре стороны, на все четыре ветра, язык до<br />
Киева доведет; на белом свете, на край света. При этом нельзя утверждать, что мир не воспринимался вертикально: от горшка два<br />
вершка, аршин с шапкой, метр с кепкой, роста в косую сажень.<br />
Известно, что каждый народ при обозначении того или иного измерения исходит из материальных предметов окружающего его<br />
мира. Из чего следует, что лексика того или иного языка является ярким примером, когда метафорическим использованием<br />
названия предметов, к которым человек привык в повседневном быту, обозначают понятия измерения пространства.<br />
Рассмотрим, каким образом передается направление через содержание фразеологических единиц.<br />
ФЕ со значением направленности соотносятся с наречиями близко, далеко. Если наречия нейтральны, то ФЕ имеют большие<br />
возможности для эмоциональной характеристики.<br />
Значение «направленность в разные стороны» проявляется в ФЕ во все страны на бычий рев, кто куда, на все стороны, на все<br />
четыре стороны, на все четыре ветра и др.<br />
ФЕ кто куда, указывая на разнонаправленное движение, как правило, характерна для ситуации крайне поспешного бегства с<br />
места пребывания субъекта. В отличие от ФЕ на все стороны, на все четыре стороны, на все четыре ветра данная ФЕ не имеет<br />
указания на прямолинейность движения, а характеризует неорганизованное разнонаправленное движение.<br />
Наиболее ярко дополнительное значение проявляется у ФЕ в огонь и в воду, образно-смысловой центр которой базируется<br />
вокруг символического значения слов огонь и вода как основы материального мира. Представления о их вездесущности переносятся<br />
на пространственные реалии и возникает значение «куда угодно». Однако пространственное значение усиливается дополнительным<br />
элементом «безоглядно».<br />
ФЕ хоть на край света реализует значение куда угодно если используется в сочетании с глаголами.<br />
В основе значения некоторых ФЕ, указывающих на разнонаправленное движение, лежит представление об однонаправленности:<br />
куда ноги несут, куда ветер подует, куда глаза глядят, во все страны на бычий рев своей внутренней формой соотносятся с более<br />
или менее определенными линейными направлениями (направление ветра, взгляда), однако в речи значение этих ФЕ теряет сему<br />
«однородность» и употребляется в значении «не выбирая дороги, в любом направлении».<br />
Значение «неизвестное направление» выражается в: сходи туда, не знаю куда; принеси то, не знаю что; где раки зимуют; к<br />
черту на кулички.<br />
Среди ФЕ со значением ненаправленности можно выделить такие, которые указывают на рассредоточенность объекта в<br />
пространстве: куда ни подайся, куда ни глянь, по всему свету, на всех морях, куда ни повернись, куда ни пойдешь, куда ни кинь –<br />
всюду клин.<br />
Значение «место, местность» прослеживается во фразеологизмах: между небом и землей; на море, на океане, на острове Буяне;<br />
за тридевять земель, в тридесятом царстве; в некотором царстве; в некотором государстве.<br />
Сема «расстояние» во фразеологической системе русского языков реализуется в двух значениях, образующих оппозицию<br />
«близко – далеко».<br />
Значение близкого расстояния передают ФЕ под ухом, не за горами, дверь в дверь, плечом к плечу, окно в окно, под носом, под<br />
рукой, нос к носу, рукой подать и т.д.<br />
Указание на бесконечно далекое расстояние связывается в образной основе ФЕ с нереальными существами: черт, бес: у черта<br />
на куличках, к черту на кулички, ко всем чертям, пошел к черту, иди к черту.<br />
В основу значения ФЕ куда Макар телят не гонял, куда ворон костей не заносил, где раки зимуют лежат представления о<br />
нереальных действиях. Чаще всего они употребляются с целью создания иронического эмоционального эффекта.<br />
Некоторые фразеологизмы могут быть сопоставлены с близкими по своему лексическому составу и грамматической структуре<br />
свободными сочетаниями слов. К таким фразеологизмам, образно выражающим значение пространства можно отнести: один шаг,<br />
143<br />
Philological sciences<br />
Slavic languages
Philological sciences<br />
два шага, в нескольких шагах, первые шаги, на краю света, шаг вперед два назад.<br />
Объектом исследования явились также пословицы и поговорки, крылатые выражения, образно выражающие<br />
значение пространства в языке. Как правило, это те пословицы и поговорки, которые претерпели семантические<br />
изменения и вследствие этого обладают целостным переносным значением: в Тулу со своим самоваром не ездят, в<br />
чужой монастырь со своим уставом не ходят.<br />
Основная функция фразеологизмов, образно выражающих значение пространства, не столько объяснительная,<br />
сколько экспрессивная, эмоциональная, оценочная, что лингвистически представлено в формировании дополнительного<br />
компонента в структуре фразеологического значения и лингвистическом анализе иерархии его «составляющих»:<br />
образности и экспрессивности, эмоциональности и оценочности.<br />
В ФЕ русского языка по тематической отнесенности опорного слова можно выделить группы: а) ФЕ, в состав которых входят<br />
соматизмы: дальше своего носа не видеть; близок локоток, да не укусишь; в чужом глазу соломинку видит – в своем глазу бревна не<br />
заметит; с глаз долой – из сердца вон; язык до Киева доведет; б) ФЕ, в состав которых входят названия рельефа: за тридевять<br />
земель (в тридесятое царство); у черта на куличках; куда Макар телят не гонял; куда ворон костей не заносил; из-под земли;<br />
между небом и землей; райские кущи; в Тулу со своим самоваром не ездят; в чужой монастырь со своим уставом не ходят; в какой<br />
народ придешь, таку шапку и наденешь; на Кудыкину гору; зачем далеко – и здесь хорошо; в) ФЕ, в состав которых входят зоонимы:<br />
за морем и телушка – полушка, да дорог перевоз. Кроме того, выделена большая группа ФЕ, со словом дом: и тесен дом, да<br />
просторен он; мой дом – моя крепость; моя хата с краю; на чужбине родная землица во сне снится, к нам люди ездят – к себе в<br />
гости зовут, которые характеризуются ярко выраженной ценностной семантикой.<br />
Как видим, важным компонентом во фразеологизмах как единицах языка является культурная коннотация, которая определяется<br />
ценностями определенной культуры.<br />
Вопрос познания пространства и времени, их природы, взаимосвязи и даже наличия во многом остается открытым.<br />
Представляется уместным привести высказывание основоположника современного представления о пространстве и времени<br />
А.Эйнштейна, - пространство и время являются способом, которым мы мыслим, а не условиями, в которых мы живем.<br />
Литература:<br />
1. Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. Крылатые слова. – М.: Издательство «Художественная литература», 1987. – 526 с.<br />
2. Даль В.И. Пословицы русского народа. – М.: Олма-Пресс, 2000. – 608с.<br />
3. Жуков В.П. Словарь русских пословиц и поговорок. – М.: Русский язык, 2000. – 544 с.<br />
4. Жуков В. П. Школьный фразеологический словарь русского языка. – М.: Прсвещение, 1980. – 447 с.<br />
5. Огольцев В.М. Краткий словарь устойчивых сравнений русского языка. – М.: Издательство АСТ, 1987. – 797 с.<br />
6. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1999. – 944 с.<br />
7. Фразеологический словарь русского языка / Под ред. А.И. Молоткова. Свыше 4000 сл. ст. – М.: Русский язык, 1986. – 543 с.<br />
УДК 811.161.2 + 81’373.21(477.85)<br />
ТЕРЕБОВЛЯ ЕТНІЧНО-АНТРОПОГЕННА VS. ТЕРЕБОВЛІ АНРОПОНІМІЧНОЇ ТА “ЖЕРТОВНОЇ”<br />
Редьква Я., канд. філол. наук, доцент<br />
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Україна<br />
Учасник конференції,<br />
Національної першості з наукової аналітикі,<br />
Відкритої Європейсько-Азіатської першості з наукової аналітикі<br />
У статті автор переглядає та критично оцінює існуючі погляди на походження назви старокняжого міста Теребовлі.<br />
Натомість висуває й обґрунтовує власну етнічно-антропогенну версію, реконструюючи на основі найдавніших фіксацій цього<br />
ойконіма етнонім теребовляни у формі *terbo(v+jь)-ane > *terbovl’ane, а відтак – і саму назву давньоруського поселення Тeрeбовль.<br />
Ключові слова: етнонім, ойконім, гідронім, мікротопонім, відантропонімний, відетнонімний, відойконімний, Теребовля.<br />
В статье автор пересматривает и критически оценивает существующие взгляды на происхождение названия старокняжеского<br />
города Теребовля. Вместо этого выдвигает и обосновывает собственную версию, реконструируя на основании древнейших<br />
фиксаций данного ойконима этноним теребовляне в форме *terbo(v+jь)-ane > *terbovl’ane, а соответственно – и само название<br />
древнерусского поселения Тeрeбовль.<br />
Ключевые слова: этноним, ойконим, гидроним, микротопоним, отантропонимный, отэтнонимный, отойконимный,<br />
Теребовля.<br />
The article deals with the review of critical approaches to the etymology of the ancient princely town’s name Terebovlia. The author<br />
suggests and substantiates his own ethnic and anthropogenic approach based on reconstructio n of ancient written records of the place name<br />
from ethnonym “terebovliany” теребовляни in the form of *terbo(v+jь)-ane > *terbovl’ane, and then the place name of Old Rus settlement<br />
“Terebovl” — Тeрeбовль.<br />
Keywords: ethnonym, oikonym, hydronym, microtoponym, derived from anthroponym, derived from ethnonym, derived<br />
from oikony, Terebovlia.<br />
Slavic languages<br />
Досліджуючи старожитню ойконімію Галицької та Львівської земель колишнього Руського воєводства, що оформилася в стійку<br />
топонімійну систему впродовж XIV століття, продовжуємо стикатися з рядом не до кінця розв’язаних проблем, пов’язаних із<br />
поясненням на цій території деяких літописних давньоруських назв поселень і пов’язаних із ними етнонімів у ще давнішому<br />
часовому проміжку – IX-XII ст. (період Київської Русі), скупі джерельні свідчення про які не дають можливості однозначного<br />
трактування їхньої етимології.<br />
До таких невирішених питань давньої локалізації племен відносять, наприклад, “дулібську” проблему, місцерозташування<br />
племінних об’єднань бужан, волинян, танян, лучан, черв’ян, білих хорватів, лендзян, требован (требов’(л)ян / теребовлян).<br />
Так, учені-історики сьогодні продовжують працювати над з’ясуванням локалізації на території нинішнього Прикарпаття та<br />
144
Закарпаття племінного об’єднання Велика Хорватія та формування в Посянні, басейні Верхньо-Середнього Дністра й верхнього<br />
Пруту хорватських князівств і племен, завойованих у к. X ст. київським князем Володимиром Святославичем, що пізніше були<br />
приєднані до території Київської Русі.<br />
До речі, Галицька земля сформувалася в XI ст. на територіях карпатських хорватів із хорвато-русинським етнічним складом. І,<br />
згідно з останніми даними істориків, наймогутнішим із князівств карпатських хорватів було князівство требовлян, яке займало<br />
території пізніших (утворених наприкінці XI ст.) Перемишльського, Звенигородського, Теребовельського та Галицького князівств<br />
[3, с. 48-49]. Ці князівства надалі стали іменувати Східнотребовельськими з центром у Теребовлі та Галичі [9, с. 688-711].<br />
Фахівці-історики сьогодні говорять про так зване Теребовельське удільне намісництво та Теребовельський стіл із самостійним<br />
значенням у Південно-Західній Русі ще під час правління князя Василька Ростиславича (починаючи з 1092-1093 рр. до 1124 р.) та<br />
його спадкоємців Григорія (Ростислава) та Ігоря (Івана) Васильковича (останній правив Теребовельським уділом із сильнішого вже<br />
і на той час Галича) [8, с. 5-7].<br />
Якщо ж говорити про дату найдавнішої писемної фіксації столиці князівства – Трембовлю, то, як відомо, перша згадка про неї<br />
вміщена в “Повісті минулих літ” під 1097 1377 р.) роком і має чоловічо-родову форму Тeрeбовль<br />
і з подальшими літописними<br />
згадками: 1098 (XVI ст.), 1144, 1153 (1425), 1206, 1211, 1226, 1332 (XVIII ст.), 1340 (XVII ст.), 1496 (XVI ст.), 1682 Теребовль,<br />
Теребовли, к Теребовлю, Теребовлъ, Теребовлу, wколо Теребовл#..., Теребовлю, въ Теребовли, Теребовля, в Тереблhвh...,<br />
Трембовлю, под Трембовлим [11, т. I (Лавр. лет.), с. 257, с. 267, 311, 340; т. II (Ипат. лет.), с. 231, с. 466, с. 723, с. 730, с. 749; т. IX<br />
(Патриарш. или Никон. лет.), с. 129, с. 197; т. XXVI (Вологодско-Пермск. лет.), с. 290; т. XXX (Владим. лет-ц), с. 54; XXXII (Хр. лит.<br />
и Жмойтск.), с. 44].<br />
Для початку вдамося до аналізу спеціальної літератури, що з’явилася в слов’янській історичній та мовознавчій (ономастичній)<br />
науці протягом минулого XX ст. і в якій сформувалися різноманітні й часто протилежні погляди й пояснення історії становлення<br />
міста та етимології назви Теребовля.<br />
Почнемо з істориків, які сходяться на думці, що місто виникло на місці слов’янського городища, на берегах Серету, з<br />
князівською фортецею (дитинцем) на Замковій горі (своєрідна сакральна дільниця розмірами 180 x 120 м., де знайдено культовий<br />
вал із вівтарем, уламки посуду XII ст., інгумаційні поховання та будинок для жертовних бенкетів), торгово-ремісничим посадом та<br />
міськими пригородами [15, с. 76]. Дослідники стверджують, що саме X-XI ст. характерні масовим зростанням укріплених резиденцій-замків<br />
по всій Русі, що, очевидно, було результатом осідання знаті на землі та подальшим формуванням феодального<br />
землеробства у формі парової системи, застосування плуга та трипілля. Тут панувала у VIII-X ст. підсічно-вогнева система<br />
землеробства, суть якої й полягала у викорчовуванні, випалюванні й “теребленні” нових земельних площ для підготовки їх до<br />
посівів. Однак був і чисто підсічний спосіб, призначений лише для боротьби з лісом та розчищення ділянок під постійні поля та під<br />
посіви. У будь-якому випадку йдеться про розчищення шляхом “тереблення” за допомогою сохи й переходу до трипілля, непрямі<br />
ознаки якого помітні вже в епоху пови перших східнослов’янських князівств [12, с. 99, 100, 104, 208].<br />
Усі представлені нижче пізніші латинсько-польські фіксації назви Теребовля у польських (та одному російському) джерелах<br />
подають її стабільно: у формі жіночого роду та зі збереженням подекуди діалектних форм і появою так званої вторинної носовості,<br />
характерної для польської мови (виділяємо напівжирним):<br />
“Trębowla po rusku Terebowl, nad Gniezną czyli Hniezną, wpadającą o ćwierć mili do Seretu” 981, 999, 1090, 1240, 1340, 1389, 1390,<br />
1498, 1508, 1516, 1518, 1539 (Trembowlia), 1572, 1576 (надання місту Маґдеб. Права): “chcemy aby wszelki człowiek był zachowan w<br />
prawie magdeb.”; 1629, 1631, 1664, 1675, 1676, 1677, 1679, 1681, 1688, 1765, 1786 [29, т. II, ч. 6, с. 887-892]; 1211р. (1425 р.);<br />
Trembowla: “miasteczko powiatowe w obwodzie Tarnopolskim”; 1368 “ad Trembowl” (укр.: до Трембовлі) [45, т. III, с. 224-225];<br />
Trębowla, z. hal. Wł. Jagiełło zezwala na nową lokacyą miasta Trębowli z drugiej strony rzeki Gniezny i uwalnia mieszczan na przeciąg<br />
ośmiolecia od składania. 1418-1425 “siendo in Trebowla” (укр.:”ті, що перебувають у Требовлі”), “civi Threbowliensi” (укр.<br />
буквально: “теребовлянські громадяни”), “nostre Threbowla” (укр. буквально: “наша Требовля”) [26, с. 39-40]; Trembowla (Trebovla)<br />
1389, 1437 “districrus et terra” (укр.: район і земля), 1441 “districtus” (укр.: район), 1455 “civitas” (укр.: місто), 1461, 1469 “territorium”<br />
(укр.: земля, земельна ділянка міста), 1479, 1488 „ambitus” (укр.: об’їзд), 1491, 1499 “districtus” (укр.: район), 1506, 1590 “civitas et i”<br />
(укр.: держава й військовий табір) [24, т. III, с. 115; т. VI, с. 64; т. XII, с. 251, с. 917, № 2760; т. XV, с. 701, с. 836, № 4035, 4036, № 1941,<br />
№ 2164, № 2860; т. XVII, № 4219; т. XXIV, с. 7]; 1493 “oppĭdum” (містечко), 1497 “nova civĭtas” (укр.: нове місто), 1505 “castrum”<br />
(укр.: фортеця) [40, II, с. 134, 731; III, № 2354]; 1512 “districtus” (укр.: район) [30, т. III, с. 221-222]; Trembowla, m. pow. z. hal., 1493<br />
[32, с. 176]; “in oppido Trebowla” (укр.: в місті Требовля) 1469, Trambowlia 1564 [46; т. XVIII, ч. 1, 37 d, с. 97]; “oppido Trebowlya”<br />
(укр. буквально: місту Требовля) Trambowlia 1564 [46; т. XVIII, ч. 1, 37 d, с. 97]; “oppido Trebowlya” (укр. буквально: місту Требовля)<br />
1506 [40, т. III, с. 167]; Trębowla 1522 [22, Ф.– 52.– Оп. 2.– Спр. 9.– Арк. 374]; 1540 [25, Ф. I.– Nr. 17.– K. 349]; Trembowla [39, т. I,<br />
с. 32]; Trembowla 1565 [6, т. І, с. 115]; 1602-1643 [52, т. 105, с. 568-570, c. 720-722; т. 109, с. 629; т. 110, с. 23-24; т. 120, с. 407; т. 126,<br />
с. 1-2]; 1628 [52; т. 117, с. 1114]; 1629 [25, т. XVIII, т. 73, k. 151]; “w Trębowli” 1649 [6, т. IV, с. 303]; 1389, 1766 [51, т. XII, с. 459-468];<br />
Trembowla 1578, 1616, 1627, 1662 [39, т. III, с. 144-148]; mieć Trębowlą 1676 [55, с. 375]; Trebowla 1735 [24, т. XXV, с. 400]; 1758-<br />
1765 “in oppido Trembowla” (укр.: в місті Требовля) [2, т. I, ч. IV, с. 546]; Trembowla, Trębowla [51, т. XII, c. 460]; Trembowla 1785-<br />
1788 [7, с. 302]; Trembowla 1790 [48]; Trembowla XIX [36]; Trębowla XIX [38]; Trembowla, z. hal. (Trembowla) 1889-1904 [28];<br />
Трембовля / Trembowla 1905 [14, с. 53]. Сюди ж віднесемо: Trebowlya XV; Trębowla XVIII; Trembowla, Trębowla XIX, Trembowla,<br />
*Trębowla [33, с. 255].<br />
Простежені за століттями на діахронному зрізі фіксації – як було вже вище зазначено про їхні польсько-латинські орфографічні<br />
варіанти передачі – ілюструють морфологічну та фонетичну адаптацію давньоруської назви у формі чоловічого роду Теребовль до<br />
системи польської та латинської мов у формі жіночого роду, що можна подати у вигляді своєрідного універсального запису<br />
T(h)(e)r(e)(ę)embow(v)l(і)(y)a. Повертаючись до пояснення причин вказаної вторинної носовості (її фіксація в назві нами засвідчена<br />
в др. пол. XIV ст.), то вважаємо, що вона є наслідком перетворень повноголосої східнослов’янської назви Теребовля (група *teret) у<br />
фонетично адаптовану як Trebowla / Trzebowla (група *tert > пол. tret / trzet) західнослов’янську форму (закономірна назалізація<br />
перед губними).<br />
Власне особистий досвід авторів давніх джерел, їхня обізнаність із оригінальною формою назви, дотримання орфографічних<br />
норм у певні часові проміжки, асоціації, аналогії, зрештою знання мови й місцевих діалектів – ось ті чинники, які свідчать про ту чи<br />
іншу форму ойконіма Теребовля в певний період.<br />
Залежно від підходів до інтерпретації цього ойконіма, наявні сьогодні лінгвістичні розвідки доцільно погрупувати за версіями<br />
про його походження:<br />
Відантропонімні версії.<br />
1. Й. Галічер був, очевидно, першим, хто спробував проетимологізувати Теребовлю на фоні назв типу Любомля та Любомль,<br />
підвівши під неї антропонімічний контекст: “Trembowla, strus, Terebowl; -l- forma zmiękczenia, oznaczająca własność, a zatem<br />
“własność Terebowa, syna Tereba” та заперечивши водночас зв’язок із процесом корчування (тереблення) лісів, який ілюструє<br />
дієсловом пол. “trzebić” [35, с. 255]. Логіка цього тлумачення полягає в тому, що особа на ім’я Тереб наділила свого сина Теребова<br />
145<br />
Philological sciences<br />
Slavic languages
Philological sciences<br />
Slavic languages<br />
(< ОН Тереб + суф. -ов) якоюсь власністю, на що начебто вказує присвійне -l- , внаслідок чого утворилася форма Теребовль (див.)<br />
2. Я. Рудницький кількома роками пізніше висловив впевненість у тому, що Теребовля (пол. Trembowla, укр. Terebowl’,<br />
Terebowl’a) є присвійною відособовою назвою (< ОН Тереб), утвореною за допомогою суфікса -ov, розширеного нейтрально-структуральним<br />
формантом -l’a. Польськомовний же варіант Trembowla замість очікуваного *Trzembowla дослідник пояснює впливом<br />
повноголосого українського варіанта Terebovl’a з подальшим розвитком вторинної носовості в назві перед -b [50, с. 140].<br />
3. А. Профоус чеські ойконіми подібної структури Třebovle та Třebovice [37, т. II, с. 615] виводить від антропонімів – ОН Třebov,<br />
Třebová – і кваліфікує як субстантивований посесивний ад’єктив на -1е (Třebovle) та патронім на -ice (Třebovice) [47, т. IV, с. 367].<br />
4. В.П. Нерознак назву Теребовль виводить від проміжної топооснови (без конкретизації її значення) Теребов- (< Тереб-) +<br />
посесив *-jь та подальшим розвитком останнього в -ль” [10, с. 168].<br />
5. М.Л. Худаш відстоює відантропонімну версію А. Профоуса та В.П. Нерознака у реконструйованому ним<br />
ланцюгу особових назв: ОН*Теребова < ОН *Теребовъ (+ cуф. -а як ОН *Теребова) < ОН *Теребовитъ (як *Теребо- +<br />
-витъ) як відантропонімне відкомпозитне гіпокористичне утворення на підставі засвідченої в польській антропонімії<br />
ОН Trzebowit [SSNO V, с. 480], а перехід варіативного Теребовлъ у Теребовля датує XIVст. “шляхом морфологічного<br />
вирівняння до топомоделі на -ьja ( > -ля)” [20, с. 205-207].<br />
Як бачимо, антропонімічні тлумачення велися в основному довкола структурування назви з метою встановлення<br />
первинного (здебільшого антропонімного) етимона. Їх можна представити у вигляді: ОН Тереб- + -ов- + -ля чи Тереб- + -<br />
овля. (у випадку жіночородової форми назви) або ж кореневої частини Тереб- з чоловічородовою первинною фіксацією<br />
фіналі -овль. Я. Рудницький фіналі -ovl // -ov’la розглядає в плані типології на фоні інших назв типу Drogowel // Drogowle,<br />
Litowel // Litowle, Radowl // Radowel та ін. з метою словотворчого поділу типу: Drog-ow-el, Wit-ow-el, Lub-ow-la, I, щоб<br />
вказати на антропоніми в кореневій частині, посесивність суф. -ovъ та субстантивуючу функцію присвійного прикметника в<br />
суф. -(e)l, -l(a), тобто Terebow(e)l, Trebow(l)a [50, с. 137-138].<br />
По суті, Я. Рудницький приєднується до версії Й. Галічера. Утім, якщо говорити про утворення самого антропоніма *Тереб, то<br />
тут вже Я. Рудницький, а услід за ним і М. Худаш, вдаються до його повної реконструкції як композита на кшталт ОН *Terebosław /<br />
*Trzebosław [50, с. 139] чи ОН *Теребовитъ [20, с. 206]. Звісно, на рівні припущень та ще й підкріплень певним лексикографічним<br />
антропонімійним матеріалом реконструкції цих антропонімів (!) є абсолютно прийнятними. Тим паче, сьогодні маємо ряд солідних<br />
монографічних праць, присвячених реконструкції праслов’янської антропонімії, зокрема антропонімів типу composita на кшталт<br />
*Terbovidъ, реконструйованого В.П. Шульгачем із ойконіма Теребовижа [23, с. 318]<br />
Якщо взяти до уваги топоформанти, які формують оніми (ойконіми, мікротопоніми, гідроніми; див. нижче приклади) з основою<br />
*terb-, то тільки певні з них (присвійні чи рідше – релятивні, – як-от: -ovъ, -inъ) потенційно можуть додаватися до антропонімної<br />
кореневої основи Терб- / Тереб. Назви населених пунктів типу Теребина, Теребово, Trebino, Trebotin, Terebin системно почали<br />
з’являтися десь наприкінці XIII – початку XIX століття, коли в історичних документах було чітко вказано на їхнього власника чи на<br />
першопоселенця, тобто коли могла працювати відома антропонімічна формула “рід або піддані …”. Такими ж можна вважати й<br />
патронімні ННП на -ичі: Теребовичі, Trbovići та ін.<br />
У випадку Теребовлі (як проміжного < ОН Тереб- + -ов-) посесивна відантропонімна версія не працює хоча б із тих причин, що<br />
перша згадка (!) про місто датована кінцем XI століття, а, як відомо, назви поселень виникали переважно двома століттями пізніше.<br />
З іншого ж боку, мала би бути хоч якась згадка про, очевидно, легендарну чи історичну особу (вождь, князь) на ім’я *Тереб, яка б<br />
була гідна бути удостоєною в історії. (Це добре ілюструє названий Данилом Романовичем на честь свого молодшого сина Лева<br />
Львів. А історичний слід в історії Теребовлі залишили її правителі: Василько Ростиславич, Григорій (Ростислав) та Ігор (Іван)<br />
Василькович).<br />
“Жертовні” версії.<br />
1. Автори “Етимологічного словника літописних географічних назв Південної Русі” як одну з можливих (але менш ймовірних)<br />
подають версію походження Теребовлі від дієсл. *terebovati “приносити жертву”; пор. д.-р. tereba “жертва” [4, с. 157].<br />
2. Значну кількість топонімів, пов’язаних із одним із найбільших хорватських племен требовлян, згаданий нами Л. Войтович<br />
пояснює їхньою міграцією в зв’язку “з охороною головного святилища хорватського язичницького пантеону”, а саму племінну<br />
назву требов’ян виводить від загальнохорватського святилища, де “справлялася “треба” і наводить приклади існування подібних<br />
святилищ на Буковині, Тернопільщині, Івано-Франківщині та Львівщині [3, с. 34, 35].<br />
3. О.М. Трубачов у рецензії на книгу Л. Мошинського “Die vorchristliche religion der slaven im lichte der slavischen sprachwissenschaft”,<br />
видану в Німеччині в 1992 році, критикує автора за неправильний лексичний аналіз лексичної групи трhба “жертва”, в процесі<br />
якого за вихідне було взято значення “чистити, корчувати”. Адже корінь *ter- , розширений детермінативом -b-, як справедливо<br />
зазначає рецензент, має основне значення “терти, перетирати, винищувати за допомогою чогось гострого”, проте сакральну<br />
семантику з ним пов’язувати не можна на тій підставі, що від цього, основного, значення відгалузилось значення “гостра<br />
необхідність, справа”, наявне в лексичному фонді литовської мови. А псл. *terba (ц.слов. трhба<br />
“victima”) є доброю аналогією до<br />
цього. Похідне від трhба > трhбище Лєшек Мошинський пояснює як “місце, розчищене від дерев, розкорчоване місце”. Проте<br />
з погляду етимології, продовжує думку О. Трубачов, трhбище–<br />
це “місце треби, жертвоприношення, locus victimae” із збереженням<br />
основного значення словотвірної моделяі на -išče [18, с. 421-422].<br />
Згідно зі своїм світоглядом, усі давні слов’яни займалися жертвоприношенням, однак це відбувалося лише в певні періоди, щоб<br />
задобрити богів для майбутнього врожаю чи запобігти якомусь природному лиху. Проте це не могло бути перманентним,<br />
визначальним заняттям якогось одного племені (у нашому випадку – требовлян). Набагато насущнішими були проблеми прогодувати<br />
себе та сім’ю, отже, займатися землеробством (хліборобством), викорчовуючи, випалюючи, а відтак – тереблячи (!) все нові й нові<br />
площі під посіви.<br />
Етнічно-антропогенна версія.<br />
Назву старокняжого міста Теребовлі, розташованого в Теребовлянському районі Тернопільської області [1, с. 265], на обох<br />
берегах річки Гнізна в басейні Середнього Дністра, ми пов’язуємо з іменуванням племені требов’(л)ян.<br />
Має рацію львівський історик Леонтій Войтович, аналізуючи Празький Привілей 1086 року (перепис меж Празької єпископії з<br />
документу 973 року), в якому назву Trebouane правильно відчитує як требов’яни (теребов’(л)яни) й ототожнює з теребовлянами<br />
нинішньої Теребовлі, критично при цьому оцінивши погляди інших дослідників, які робили спроби локалізації цього племені “в<br />
Ческій Требові над Орліце (Стефан Закжевський, Стефан Арнольд), на річці Требніце (Ю. Відаєвич, Тадеуш Лер-Сплавінський), на<br />
річці Качава в околицях Легніце, яка колись називалася Требовою” [3, с. 34].<br />
Автори “Етимологічного словника літописних географічних назв Південної Русі”власну назву Теребовля виводять від загальної<br />
назви на позначення “витеребленого, розчищеного від лісу, заростей місця” [4, с. 157]. У академічному виданні “Етимологічного<br />
словника української мови” (К., 2006) [далі ЕСУМ] міститься досить розлога словникова стаття, яка дозволяє нам з’ясувати основну<br />
дієслівну семантику лексеми теребити на всеслов’янському фоні й висловити припущення стосовно основного роду занять<br />
мешканців Теребовлі та прилеглих територій: “теребити “очищати … [… очищати поле від кущів, дерев]”, [теребівля] “місце,<br />
146
очищене від кущів”, [теребіж] “тс.” пор.: р. теребить “… теребити ”, бр. церабіць “прочищати; чистити, обрізувати; теребити …”,<br />
др. тєрєбити “розчищати, корчувати”, п. trzebić “… проріджувати, викорчовувати”, ч tříbit “очищати, просіювати …”, вл. trjebić<br />
“чистити …”, нл. tŕebiś “чистити;”корчувати …”, болг. трéбя “чистити, очищати”, м. треби, схв. Трубити, слн. trébiti “очищати,<br />
корчувати” цсл. трhбити “чистити, корчувати”; – псл. *terbiti “чистити, очищати” [ЕСУМ, т. V, с. 549-550]”. Пор. ще: д.-р. тeрeбити,<br />
тeрeблю<br />
“ розчищати” [17, т. III, c. 950]; у північно-російських говорах тереб – це “розчищена від чагарника під ниву земля” [19, т.<br />
IV, c. 45].<br />
Підтвердженням такої версії можуть служити сучасна й історична ойконімія, мікротопонімія та гідронімія з цією ж основою з<br />
інших слов’янських теренів, зосереджена на якійсь одній, вузьколокальній території:<br />
Ойконіми. Пор. кілька ННП з основою Тереб- : Теребежі (Лв.), Теребля (Зк.), Теребовичі (Вл.) [АТУ, 443]; хутір Теребовичі<br />
(Вл.), село Теребище (Брестська обл., Республіка Білорусь) [16, т. II, с. 397]; кол. Теребіж (Тр.), Теребище (Чрг.) [4, с. 157]; Terebin<br />
1492 [24, т. XIX, № 2242].<br />
Попри помилковість тлумачення назви самої Теребовлі, М.Л. Худаш назву хутора Теребежі (Лв.) цілком правильно вважає<br />
плюральним утворенням від апел. теребіж на позначення “витеребленого, очищеного від дерев і кущів місця під сільськогосподарські<br />
угіддя” [21, с. 246]<br />
У Польщі маємо назви поселень у басейні річки Trzebośnicy, лівої притоки Сяну; Trzebniska, Trzeboś над Середнім Віслоком<br />
(північніше м. Жешова), Trzebowisko, Terebin поблизу правої притоки Гучви. Поселення з таким типом іменування розташовані на<br />
захід від Бугу [44, с. 36]. Сюди ж відноситься й старожитня назва НП Terebiniec у міжріччі Вісли й Бугу [42, с. 352].<br />
Ретельний аналіз 7000 сільських поселень (яким відповідають 12000 назв сіл, сілець, починків, погостів) Московської держави<br />
XVI ст., зроблений на матеріалах писцéвих книг із території Новгородської, Псковської земель, Рязанського краю та 21 уїзду Росії,<br />
представив польський дослідник Ян Сосновський у праці “Toponimia Rosyjska: Nazwy wsi” [54]. Основу Тереб- із аналізованих<br />
ойконімів тут мають: Terebani (як назва етнічного походження < апел. terebani (в осн. tereb “викорчуване місце”) “люди, що заселяли<br />
викорчувані місця”) [54, с. 32]; Terebušino, Terebuša (як присвійна відособова назва секундарного походження з суф. -in) [54, с. 48];<br />
Tereben’, Terebeni, Terebuni, Terebuš (як антропогенні назви < апел. tereb, “корчовисько, місце, очищене від зарослів” та дієсл. terebiti<br />
“очищати”) [54, с. 73, 76].<br />
На решті слов’янських територій спостерігаємо численні ойконіми з цим коренем в основах, як-от: у районі Требішова в<br />
Словаччині [41, с. 190-191]; на Балканах – у Боснії, Герцеговині та Хорватії – наявні 35 топонімів, а саме: Terbegovci, Trbovće,<br />
Trbovići, Trbovlje, Trebanjski vrh, Trebća vas, Trebće, Trebećaj, Trebelno, Trebenće, Trebenista, Trebesinj, Trebeševo, Trebcz, Trebeż,<br />
Trebećino, Trebiće, Trebija, Trebijovi, Trebimlja, Trebino, Trebinje, Trebište, Trebiżani, Trebiżat, Trebnja Gorica, Trebnje, Trebnji vrh,<br />
Treboje, Treboš, Trebotin, Trebovec, Trebović, Trebovljani, Trebovlje [3, с. 44].<br />
Мікротопоніми. На Любельщині (Польща) – це, в основному, назви лук і полів, а також і лісів, що само собою вже вказує на<br />
колишні процеси викорчовування (лісів), розчищення під посіви територій (лук, полів) тут у минулому. Пор.: Tereba (ліс, поле),<br />
Terebeże (лука), Terebienica (лука), Terebież (поле), Terebina (лука), Terebiże (лука), Terebyhoszcz (лука) [43, с. 236]. Ярослав<br />
Рудницький онім Теребіж (у пол. транслітерації – Terebiž), що є назвою частини селища міського типу Верхнє Синьовидне<br />
Сколівського р-ну Львівської області [1, c. 185], виводить від апелятива теребіж (у пол. транслітерації – terebiž, пол. trzebież)<br />
“викорчуване на місці лісу місце, теребіж” і відносить його до назв місцевостей, пов’язаних із культурною діяльністю людини [13,<br />
с. 113]. Сучасна мікротопонімія північно-західної України і суміжних територій також представлена багатьма назвами, які можна<br />
зводити до основи: урочище Теребейки (Вл.), урочище Теребіж (Вл.), куток Теребіжка (Вл.), пасовище Теребіжки (Лв.), куток<br />
Теребляне (Вл.), озеро Теребовицьке (Вл.), куток Теребович (Вл.) [16, т. II, с. 397].<br />
Гідроніми. Ще надійніше підтвердження дають назви гідрооб’єктів, вміені в “Словнику гідронімів України” (К., 1979): р.<br />
Теребень (Чрг.), пот. Теребіж, (І.-Ф., Вн.), р. Теребля (Зк.), пот. Теребна (Тр.), пот. Теребовець (Вн.) [СГУ, с. 558] як онімів із<br />
найархаїчнішою семантикою основ, в яких відбиті процеси ведення підсічно-вогневого способу господарства в прирічкових зонах,<br />
звідки, власне, й починалося заселення (залюднення) життєвого простору. Етимологію назв рік Trzebinka, Trzebunka Лівобережного<br />
Мазовша басейну річки Пилиці (Польща) [34, с. 95], а також – Terebovec, Terebowiec, *Terebycz [31, 258] в басейні Бугу (Україна)<br />
польські вчені-гідронімісти Єжи Дума та Ева Білют також виводять від дієслівної основи теребити (пол. trzebić) “тс.” (див.).<br />
Отже, підводячи підсумок нашого аналізу, пропонуємо етнонімно-антропогенну версію походження міста Теребовлі, яку<br />
виводимо від племені требовлян. Появу цієї назви можна віднести до пізньої праслов’янської доби та структурно зарахувати до<br />
однієї з найпоширеніших словотвірних моделей на -ane // -ани для називання етнонімів, утворених від основних топографічних<br />
об’єктів, в межах яких проживали давні етноси – *berž-ane (< *bergъ), *buž-ane (< р. Буг), *moravj-ane (< Морава), *rěč-ane (<<br />
*rěka) [5, с. 415, 438] – та реконструювати у формі *terbo(v+jь)-ane > *terbovl’ane із семантикою “жителі витереблених, розчищених<br />
під посіви територій”. (Принагідно: l-epentheticum після губного приголосного є досить частим в основах багатьох давньоруських<br />
топонімів, таких як: Браславль, Любомль, Переяславль, Путивль, Ярославль ) .<br />
При такому підході гіпотетично можна побачити спільну формально-значеннєву типологію етноніма теребовляни з іншими<br />
вище наведеними слов’янськими етнонімами. Така беззаперечна вимога пояснюється тим фактом, що, як свого часу зауважив, С.<br />
Роспонд, “завжди і всюди більші чи менші нагромадження людей, групи, племена чи пізніше державні організми мали схожі назви,<br />
чи то з погляду фізіографічних умов (топографічні етноніми), чи відповідно до мешканців (антропонімічні етноніми)” [49, с. 21].<br />
Таким чином, етнічну назву теребовляни з центром у Теребовлі треба, услід за етнонімами поляни (*pol’ane) “жителі полів” й<br />
ленд(з)яни (*lędjane < *lędo / *lęda “цілина, необроблена земля”) “жителі цілинних земель” включити в коло ранніх племінних назв<br />
землеробського походження, пов’язаних із землею та її культивацією.<br />
З цього ще більше стає зрозуміло, що типологічні та структуральні дослідження мають зміст ще й з погляду повторюваності<br />
ідентичних слов’янських етнонімів на кшталт Slověne, Poljane, Sěverjane, *Dervljane у всій Славії [49, с. 23]).<br />
Література:<br />
1. Адміністративно-територіальний устрій. Українська РСР (1987). – К. : Головна редакція УРЕ, 1987. – 504 с.<br />
2. Архив Юго-Западной России, издаваемый Временною комиссиею для разбора древних актов высочайше учрежденною при<br />
Киевском, Подольской и Волынском генерал-губернаторе. – К., 1859–1914. – Ч. I–VIII. – T. I–XXXV.<br />
3. Войтович Л. Прикарпаття в другій половині I тисячоліття н.е.: найдавніші князівства / Л. Войтович // Вісник Львівського<br />
університету. Серія історична. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – Вип. 45. – С. 13–54.<br />
4. Етимологічний словник літописних географічних назв Південної Русі / І. М. Желєзняк, А. П. Корепанова, Л. Т. Масенко, О. С.<br />
Стрижак. – К. : Наукова думка, 1985. – 253 с.<br />
5. Иванов В.В., Топоров В.Н. О древних славянских этнонимах (Основные проблемы и перспективы) / В.В. Иванов // Из<br />
истории русской культуры. Древняя Русь. Статьи по истории и типологии русской культуры. – М., 2000. – Т. I. – C. 413-440.<br />
6. Жерела до історії України-Руси / [Вид. М. Грушевський, С. Томашевський]. – Львів, 1895–1913. – Т. I–VII.<br />
7. Йосифінська (1785–1788) і Францисканська (1819–1820) метрики. Перші поземельні кадастри Галичини. Покажчик населених<br />
147<br />
Philological sciences<br />
Slavic languages
Philological sciences<br />
Slavic languages<br />
пунктів. – К. : Наукова думка, 1965. – 353 c.<br />
8. Котляр М. Ф. Княжий двір Галича у XII ст. / М. Ф. Котляр // Київська старовина. – 2006. – № 4. – C. 5–7.<br />
9. Майоров А. В. О времени и обстоятельствах основания Галича: историография спорных и нерешенных проблем / А. В.<br />
Майоров // До джерел. Збірник наукових праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70 річчя. – К. ; Львів, 2004. – Т. 1. – С.<br />
688–711.<br />
10. Нерознак В. П. Названия древнерусских городов / В. П. Нерознак. – М. : Наука, 1983. – 207 с.<br />
11. Полное собрание русских летописей. Т. 1 Лаврентьевская летопись и Суздальская летопись по Академическому списку. –<br />
580 с. ; Т. 2 Ипатьевская летопись. – 938 с.; Т. 9 Никоновская летопись. – 256 с.; Т. 26 Вологодско-Пермская летопись. – 413 с.; Т. 30<br />
Владимирский летописец. – 240 с.; Т. 32 Литовская и Жмойская, и Быховца. – М. : Изд во вост. лит., 1962-1968.<br />
12. Риер Я. Г. Аграрный мир Восточной и Центральой Европы в средние века по археологическим данным / Я. Г. Риер. –<br />
Могилев : Могилев. гос. ун т, 2000. – 263 с.<br />
13. Рудницький Я. Географічні назви Бойківщини. Друге справлене видання праці: “Nazwy geograficzne Bojkowszczyzny” з 1939<br />
р. / Я. Рудницький // Українська Вільна Академія Наук. Серія : Назвознавство. – 1962. – Ч. 23–24. – 206 с.<br />
14. Русско-польский и польско-русский алфавитные перечни географическихъ названій помhщенных на картh Галицыі и<br />
Буковины инж. Корнмана. – Кіевъ : Изданіе Кіевскаго Округа Путей Сообщения, 1915. – 124 с. (60 с. + 64 с.).<br />
15. Скочиляс І. Від давньоруських десятин до намісництв-протопопій: особливості “впорядкування” сакрального простору<br />
Галичини в княжий період (до кінця XIV століття) / І. Скочиляс // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів : ЛНУ<br />
ім. Івана Франка, 2010. – Вип. 45. – С. 55–91.<br />
16. Словник мікротопонімів і мікрогідронімів північно-західної України та суміжних земель : у 2 х т. / [упоряд. Г. Л. Аркушин].<br />
– Луцьк : РВВ “Вежа” Волинського державного університету імені Лесі Українки, 2007. – Т. 2 (Л–Я). – 536 с.<br />
17. Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным источникам / И. И. Срезневский. – СПб.,<br />
1893–1903. – Т. I–III.<br />
18. Трубачев О. Н. Мысли по поводу новой книги: Leszek Moszyński. Die vorchristliche religion der slaven im lichte der slavischen<br />
sprachwissenschaft (Böhlau Verlag, Köln; Weimar; Wien, 1992) / О. Н. Трубачев // Этногенез и культура древнейших славян / [Отв. ред.<br />
Н. И. Толстой]. – Изд. 2 е, доп. – М. : Наука, 2003. – 489 с.<br />
19. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка / М. Фасмер. – М. : Прогресс, 1964–1973. – Т. I–IV.<br />
20. Худаш М. Л. Українські карпатські і прикарпатські назви населених пунктів (утворення від слов’янських автохтонних від<br />
композитних скорочених особових власних імен) / М. Л. Худаш. – К. : Наукова думка, 1995. – 362 с.<br />
21. Худаш М. Л. Українські карпатські і прикарпатські назви населених пунктів (відапелятивні утворення) / Михайло Худаш.–<br />
Львів, 2006. – 451 с.<br />
22. Центральний державний історичний архів України у місті Львові. Відділ рукописів. – Ф. 52. – Оп. 2. – Спр. 9. – Арк. 374.<br />
23. Шульгач В.П. Нариси з праслов’янської антропонімії / Шульгач В.П. – К., 2008. – 413 с.<br />
24. Akta grodzkie i ziemskie czasów Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum tak zwanego Bernardyńskiego we Lwowie. – Lwów, 1868–<br />
1935. – T. I–XXV.<br />
25. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (Головний архів давніх документів у Варшаві). – Ф. XVIII. – Т. 73. – K. 151.<br />
26. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (Головний архів давніх документів у Варшаві) / Metryka Litewska. – Sygnatury :<br />
IV; B 8, 4 ; B 9, 4 ; B 12, 4 ; B 17, 4 ; B 19, XLVI, 119.<br />
27. Archiwum Główne akt dawnych w Warszawie / Archiwum Skarbu Koronnego. – Ф. I. – Спр. № 17. – Арк. 349.<br />
28. Atlas historyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Epoka przełomu z wieku XVI na XVII. Dział II: Ziemie Ruskie Rzeczypospolitej /<br />
[Dział opracowany przez Aleksandra Jabłonowskiego]. – Warszawa ; Wiedeń, 1889–1904.<br />
29. Baliński M. Starożytna Polska pod względem historycznym, geograficznym i statystycznym / M. Baliński, Т. Lipiński. – Warszawa,<br />
1885. – T. II. – Z. 6. – 986 s.<br />
30. Balzer O. Corpus iuris Polonici / O. Balzer. – Lwów, 1906. – T. III. – 796 s.<br />
31. Bilut E. Gewässernamen im Flußgebiet des Westlichen Bug (Nazwy wodne dorzecza Bugu) / [Bearb. von Ewa Bilut] // Hydronymia<br />
Europaea. Lieferung 10. – Stuttgart : Franz Steiner, 1995. – 280 s.<br />
32. Dąbkowski P. Podział administracyjny województwa Ruskiego i Bełskiego w XV wieku (z mapą) / Przemysław Dąbkowski //<br />
Zabytki dziejowe. – Lwów : Towarzystwo Naukowe, 1939.– T. V. – 337 s.<br />
33. Decyk W. Transpozycja wschodniosłowiańskich nazw geograficznych na język Polski (na przykładzie materiału z kroniki Nestora )<br />
// Prace filologiczne. – T. XLI. – Warszawa, 1996. – S. 247-265.<br />
34. Duma J. Nazwy rzek Lewobrzeżnego Mazowsza (z całym dorzeczem Pilicy) / Jerzy Duma. – Warszawa : Towarzystwo Naukowe<br />
Warszawskie, 1999. – 202 s.<br />
35. Haliczer J. Słownik geograficzny: pochodzenie i znaczenie nazw geograficznych / Józef Haliczer ; [słowo wstępne napisał Eugenjusz<br />
Romer]. – Wyd. 2 popr. i znacznie powiększ. – Tarnopol : nakł. i dr. Drukarni Podolskiej, 1935. – 171 s.<br />
36. Historya Państwa Rossyiskiego M. Karamzina przełożona na język polski przez Grzegorza Buczyńskiego. – Warszawa : u<br />
Zawadzkiego i Węckiego, 1824. – T. I–II.<br />
37. Hosák L. Místní jména na Moravě a ve Slezsku / Ladislav Hosák, Rudolf Šrámek. – Praha : Academia, 1970, 1980. – D. 1–2.<br />
38. Latopis Nestora / [opr. August Bielowski i Jan Wagilewicz] // Monumenta Poloniae Historica. – Warszawa : PWN, 1960. – T. I. – S.<br />
521 862 [przedruk z 1864 r., Lwów].<br />
39. Lustracje dóbr królewskich XVI–XVIII wieku. Województwa Ruskie, Podolskie i Bełskie. Lustracja województw Ruskiego,<br />
Podolskiego i Bełskiego 1564–1565. Część I / [Wydali Krzysztof Chłapowski i Helena Żytkowicz]. – Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo<br />
Naukowe PWN, 1992. – 281 s.<br />
40. Matricularum Regni Poloniae Summaria / [wyd. T. Wierzbowski]. –– Varsoviae, 1905–1961. – T. I–IV (1905–1910).<br />
41. Młynarska-Kaletynowa M. Trzebowianie / M. Młynarska-Kaletynowa // Słownik starożytności słowiańskich. – Warszawa, 1977. – T.<br />
6. – Cz. 1. – S. 190–191.<br />
42. Nosek S. Materiały do badań nad historią starożytną i wczesnośredniowieczna międzyrzecza Wisły i Bugu / Stefan Nosek. – Lublin ;<br />
Kraków : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1957. – 502 s. – (Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F : Nauki<br />
Filozoficzne i Humanistyczne ; vol. VI (1951)).<br />
43. Olejnik M. Indeks alfabetyczny terenowych nazw własnych (mikrotoponimów) zawartych i opisanych w pracy Michała Łesiowa<br />
Terenowe nazwy własne Lubelszczyzny, Lublin 1972 / M. Olejnik // Mikrotoponimia na pograniczach językowo-kulturowych / [Red. M.<br />
Łesiów, M. Olejnik]. – Lublin : UMCS, 2005. – S. 181–245.<br />
44. Persowski F. Studia nad pograniczem polsko-ruskim w X–XI wieku / Franciszek Persowski. – Wrocław ; Warszawa ; Kraków :<br />
Zakład Narodowy im. Ossolińskich ; Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1962. – 151 s.<br />
45. Piekosiński F. Kodeks dyplomatyczny Małopolski. Monumenta medii aevi historica / Franciszek Piekosiński. – Kraków : Akad.<br />
148
Philological sciences<br />
Umiejętności, 1876–1905. – T. I–IV.<br />
46. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. Ziemie Ruskie: Ruś Czerwona / [Opisana przez A. Jabłonowskiego].<br />
– Warszawa, 1902. – T. XVIII. – Cz. I.<br />
47. Profous A. Místní jména v Čechách. Jejich vznik. původní význam a změny / Antonín Profous, Jan Svoboda. – Praha : Nakladatelství<br />
Československé akademie věd, 1947–1956. – D. 1–4.<br />
48. Regna Galicie et Lodomeriae Josephi II et M.Theresiae augg. Iussu … – 1790 r. Nomina Circulorum (numeris Chartae respondentia):<br />
9. Przemyslienſis; 10. Samborienſis; 11. Zolkievienſis; 12. Leopolienſis; 13. Stryenſis; 14. Złoczovienſis; 15. Brzezanyenſis; 16. Staniſlavovienſis;<br />
17. Tarnopolienſis; 18. Zaleſzczykienſis.<br />
49. Rospond S. Struktura pierwotnych etnonimów słówiańskich / Stanisław Rospond // Rocznik slawistyczny. – Wrosław ; Warszawa ;<br />
Kraków, 1966. – T. XXVI. – Cz. II. – S. 21–32.<br />
50. Rudnicki J. O nazwie miejscowej Trembowla / J. Rudnicki // Język Polski. – Rocznik XXII, 1937. – S. 134–140.<br />
51. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich / [Red. T. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski]. –<br />
Warszawa, 1880–1902. – T. I–XV.<br />
52. Sąd Grodzki Trembowelski / Актові книги Теребовлянського гродського суду Руського воєводства, що містяться в Центральному<br />
державному історичному архіві України у Львові // ЦДІАЛ – Фонд № 17. (Цифри, що йдуть після скорочення, вказують на номер<br />
тому і номер сторінки).<br />
53. Słownik staropolskich nazw osobowych / [Red. W. Taszycki]. –Wrocław etc., 1965–1987. – T. I–VII.<br />
54. Sosnowski J. Toponimia Rosyjska XVI wieku: Nazwy wsi / Jan Sosnowski. – Łódź : Wydaw. UŁ, 2002. – 202 s.<br />
55. Volumina legum. – Sankt Petersburg, 1859. – Vol. I–IX.<br />
ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПАРОДИЙНОГО ТЕКСТА КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ<br />
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ ПЕРЕВОДЧИКОВ<br />
Мирзоева Л.Ю., д-р филол. наук, ассоц. проф.<br />
Университет имени Сулеймана Демиреля, Казахстан<br />
Участник конференции,<br />
Национального первенства по научной аналитике,<br />
Открытого Европейско-Азиатского первенства по научной аналитике<br />
Статья посвящена анализу пародийного текста с позиций лингвостилистики, что представляется необходимым<br />
для профессиональной подготовки будущих переводчиков. В работе отражена лингвостилистическая специфика<br />
пародии, затронуты как вопросы актуализации фоновых знаний в процессе осуществления художественного перевода,<br />
так и проблемы развития критического мышления переводчиков, связанные с предпереводческим исследованием художественного<br />
текста.<br />
Ключевые слова: лингвостилистический анализ, художественный перевод, пародия, профессиональные компетенции<br />
переводчика, подтекст, стилистические приемы, оценочность, эмотивность, фоновые знания.<br />
The article is devoted to the problems of linguistic analysis due to parody as a very complicated literary text, characterized<br />
by such features as implication, emotive potential etc. The author treated the problem as one of the most important aspects of<br />
to-be translators training in the sphere of literary translation taking into consideration such factors as critical thinking and<br />
background knowledge improvement.<br />
Keywords: linguistic analysis, literary translation, translator’s proficiency, parody, implication, stylistic devices,<br />
evaluation, emotion, background knowledge.<br />
Анализ языковой специфики пародийного текста представляет особую трудность и интерес как в плане раскрытия<br />
его вторичности («пародийный смысл актуализируется в условиях органичного взаимодействия первого и второго<br />
планов пародии, выявляющего «несовпадение» идейно-художественных контекстов – пародируемого и пародирующего»)<br />
[4, c. 14],так и в плане отсылки к определенным, уже существующим речевым произведениям. Для будущих<br />
переводчиков такой анализ, по нашему мнению, может послужить, во-первых, своеобразной школой языкового<br />
мастерства и подготовкой к деятельности в сфере художественного перевода; во-вторых, позволит применить на<br />
практике знания, полученные в ходе изучения курсов «Стилистика» и «Художественный перевод»; и, в-третьих,<br />
может стать импульсом для развития критического мышления и аналитического подхода к тексту в целом, выявление<br />
подтекстуальной информации, что является частью профессионального «портрета» переводчика. Как указывают М.П.<br />
Брандес и В.И. Провоторов, необходимо, чтобы «будущий переводчик усвоил для себя, что он переводит не просто<br />
язык текста (т.е. язык, который накладывается на фактуальное, предметное содержание) и не просто текст как<br />
фактуальное содержание (т.е. содержание, лишенное внутренней оформленности), а пе¬реводит язык, который<br />
является результатом информационной переработки фактуального содержания текста, является выражением многократно<br />
осмысленного содержания» [2, с. 3]. Широкие возможности для этого предоставляются в процессе рассмотрения сатирических<br />
и юмористических произведений (в качестве материала для анализа нами избраны чеховские пародии и<br />
фрагменты «Истории одного города М.Е. Салтыкова-Щедрина, имеющие пародийный характер). При работе с<br />
пародийным текстом следует учитывать типологическую установку, выраженную М.М. Бахтиным: «Пародийное<br />
слово может быть весьма разнообразным. Можно пародировать чужой стиль как стиль; можно пародировать чужую<br />
социально-типическую или индивидуально-характерологическую манеру видеть, мыслить, говорить. Далее, пародия<br />
может быть более или менее глубокой: можно пародировать и самые глубинные принципы чужого слова» [3, с. 259].<br />
В качестве образца проанализируем рассказ «Случай из судебной практики». В плане композиционных особенностей<br />
(особенностей поэтики) перед нами – типичная новелла, краткая, лаконичная и емкая, с характерным неожиданным<br />
финалом:<br />
Тут не вынес и сам подсудимый. Пришла и его пора заплакать. Он замигал глазами, заплакал и беспокойно задвигался…<br />
— Виноват! — заговорил он, перебивая защитника. – Виноват! Сознаю свою вину! Украл и мошенства строил!<br />
Окаянный я человек! Деньги я из сундука взял, а шубу краденую велел свояченице спрятать… Каюсь! Во всем<br />
149<br />
Theory of literature. Textology
Philological sciences<br />
Theory of literature. Textology<br />
виноват!<br />
И подсудимый рассказал, как было дело. Его осудили.<br />
Пародийному фрагменту предшествует информация, относимая в разряд содержательно-подтекстуальной [3];<br />
(цель ее – создать определенный эмоциональный настрой, необходимый для последующего восприятия речи. Так,<br />
обратим внимание студентов прежде всего на «говорящее» имя подзащитного – Шельмецов (шельмец – просторечное<br />
«мошенник, плут».) С целью наиболее успешного анализа языковой структуры текста следует заранее подготовить<br />
раздаточный материал в виде карточек, включающих дефиниции ключевых слов и понятий, которые необходимо использовать<br />
в ходе лингвостилистического анализа, либо соответствующую презентацию. Особое внимание следует<br />
уделить понятиям, связанным с тропами и фигурами ораторской речи, таким, как анафора, антитеза, градация,<br />
метафора, повтор, период, риторическое восклицание.<br />
Авторская ирония реализована уже в контексте, предваряющем пародийный фрагмент: « В плохих романах, оканчивающихся<br />
полным оправданием героя и аплодисментами публики, он играет не малую роль. В этих романах<br />
фамилию его производят от грома, молнии …» Значимость деятельности адвоката снижена, во-первых, нарочитой гиперболизацией,<br />
и, во-вторых, семантическим сдвигом, актуализирующимся при синтагматическом соположении несочетающихся<br />
понятий: внушительные стихии.<br />
Сам пародийный фрагмент – речь знаменитого адвоката – характеризуется патетическим настроем, ср.: Знать его<br />
душу – значит знать особый, отдельный мир, полный движений. Я изучил этот мир. Изучая его, я, признаюсь,<br />
впервые изучил человека. Я понял человека… Каждое движение его души говорит за то, что в своем клиенте я имею<br />
честь видеть идеального человека… В то же время в процессе анализа следует подчеркивать неконкретность, расплывчатость,<br />
общий характер формулировок, рассчитанных исключительно на эмоциональное воздействие. Предшествующая<br />
работа, нацеленная на экспликацию специфики проявления авторской позиции в тексте, в частности, на выявлении<br />
неприятия ложной красивости, ложного пафоса, позволяет в процессе анализа данного текста вскрыть<br />
заложенную в данном фрагменте авторскую иронию. Так, за характерным для ораторской речи приемом градации,<br />
формально отмечаемом в данном текстовом отрезке, практически нет реального усиления (ослабления) признака, то<br />
есть нет градации в плане смысла.<br />
Речь адвоката изобилует также риторическими восклицаниями (в частности, «О, если бы вы посмотрели на этих<br />
детей!», «Да поглядите же!» и другими), которые призваны выполнять как эмотивную, так и изобразительную<br />
функцию (или, во всяком случае, имитировать изобразительность). В пародийный фрагмент искусно введен период<br />
как фигура, требующая высокой риторической подготовки оратора («Они (дети – Л.М.) голодны, потому что их<br />
некому кормить, они плачут, потому что они глубоко несчастны…); использован и повтор (анафорического характера)<br />
как средство выражения эмоциональной оценки, эмоционального воздействия, и одновременно – способ выделения<br />
наиболее значимого элемента: «Его посадили рядом с ворами и убийцами… Его!» Комизм и пародийная направленность<br />
ораторской речи заключается в том, что за пышной формой скрыто полное отсутствие содержательно-фактуальной,<br />
содержательно-подтекстуальной и содержательно-концептуальной информации. Повышенная эмоциональность и приподнятость<br />
речи, апелляция не к разуму, а к чувству приводят к непредсказуемому, неожиданному финалу: сам того не<br />
желая, адвокат затронул совесть своего подзащитного, что и повлекло за собой признание. В процессе анализа<br />
речевых особенностей текста следует обратить внимание студентов и на контраст стилистических характеристик речи<br />
Сидора Шельмецова и адвоката: выспренние фразы последнего противопоставлены в стилистической системе текста<br />
разговорной речи первого. «Украл и мошенства строил! Окаянный я человек!»<br />
Образцом пародии на ораторскую речь может послужить и рассказ Чехова «Оратор», который также целесообразно<br />
проанализировать в аудитории. При рассмотрении данного текста следует обратить внимание на контрастность<br />
оценок (высокая степень положительной оценки, отмечаемая в ораторской речи, противопоставлена отрицательно<br />
оценочным квалификациям того же персонажа в речи обыденной), а также на четкую стилистическую поляризацию:<br />
разговорно-просторечные пренебрежительные характеристики надгробной речи, данные «извне» (какая-нибудь<br />
чепуховина, мантифолия поцицеронистей), вступают в комическое противоречие с ее высоким стилем. Целесообразно<br />
акцентировать внимание и на том, что в самом начале текста уже задан контраст как ключевой прием, особенно ярко<br />
и выпукло проявляющийся в сочетании с абсурдностью, ср.: «В одно прекрасное утро хоронили коллежского асессора<br />
Кирилла Ивановича Вавилонова, умершего от двух болезней, столь распространенных в нашем отечестве: от злой<br />
жены и алкоголизма». Будущий переводчик должен развивать своеобразную стилистическую зоркость, которая<br />
позволит фиксировать и в дальнейшем адекватно воссоздавать в переводе те фрагменты текста, где имеет место соположение<br />
разнопорядковых явлений с целью создания комического эффекта и выражения оценки (как правило,<br />
негативной).<br />
В процессе анализа следует активизировать знания, полученные студентами при исследовании языковой специфики<br />
ораторской речи в рассказе «Случай из судебной практики».<br />
В цикле занятий, имеющих своей целью анализ и осмысление пародийных текстов или фрагментов текста,<br />
имеющих пародийную направленность, следует особо остановиться на тех из них, которые требуют активизации<br />
фоновых знаний и работают на повышение культуры восприятия языковой структуры художественного произведения.<br />
Так, по нашему мнению, благодатным материалом для анализа может послужить «История одного города» М.Е. Салтыкова-Щедрина<br />
– произведение, сложное и в плане раскрытия художественной маскировки, и в плане лингвокультурной<br />
специфики. Так, в целях активизации фоновых знаний будущих переводчиков следует особое внимание сосредоточить<br />
на пародировании зачина «Слова о полку Игореве»: Боян бо вещий, аще кому хотяше песнь творити, то растекашеся<br />
мыслью по древу, серым волком по земли, сизым орлом под облакы… О Бояне! Соловию старого времени! Абы ты сии<br />
полки ущекотал…(Слово о полку Игореве). / Не хочу я, подобно Костомарову, серым волком рыскать по земли, ни,<br />
поодобно Соловьеву, сизым орлом ширять под облакы, ни, подобно Пыпину, растекаться мыслью по древу, но хочу<br />
ущекотать прелюбезных мне глуповцев, показав миру их славные дела и предобрый тот корень, от которого<br />
знаменитое сие древо возросло и ветвями своими всю землю покрыло.<br />
(М.Е. Салтыков-Щедрин. История одного города.)<br />
В «Истории одного города» мы наблюдаем и скрытое пародирование, заключающееся в аллюзиях, которые<br />
связаны с «Повестью временных лет» (ср. хотя бы цитаты многие за землю свою поревновали – говорит летописец, и<br />
таково ласково усмехнулся, словно солнышко просияло, - сопровождающие рассказ о поиске князя, призванного<br />
«глуповцами володети»).<br />
В данном случае акцентирование внимания на пародийном характере фрагментов и на их языковой специфике<br />
(имитации древнерусского текста и пр.) служит своеобразным ключом к интерпретации всего произведения как<br />
150
сатиры на историю российской монархии. Облегчить восприятие произведения может и своевременное указание на<br />
создание языкового колорита XVIII века (сложность художественной маскировки, предпринятой М.Е. Салтыковым-<br />
Щедриным, заключается и в том, что «История одного города» выдавалась им за издание найденных в архиве<br />
тетрадей летописцев XVIII в.) Следует особо остановиться и на пародировании особенностей деловой речи («Опись»<br />
градоначальников, указы и пр.) М.Е. Салтыков-Щедрин достиг здесь своеобразного сочетания: с одной стороны,<br />
перед нами наполнение языковой формы – характерных лексических и синтаксических особенностей языка XVIII в.<br />
(старославянизмов, специфического порядка слов), мастерски воспроизведенных писателем – чуждым ей содержанием;<br />
с другой стороны – пародирование официально-делового стиля, причем также соотносимого по своей языковой<br />
специфике XVIII в.: Клементий, Амадей Мануйлович. Вывезен из Италии Бироном, герцогом Курляндским, за искусную<br />
стряпню макарон; потом, будучи внезапно произведен в надлежащий чин, прислан градоначальником. Прибыв в<br />
Глупов, не только не оставил занятия макаронами, но даже многих усильно к тому принуждал, чем себя и<br />
воспрославил. За измену бит в 1734 году кнутом, и, по вырвании ноздрей, сослан в Березов. Несоответствие языковой<br />
формы и содержания подчеркнуто постоянным упоминанием комичных и нелепых причинах смерти градоначальников,<br />
которые также сформулированы в виде характерных клише, штампов, характерных для официально-делового стиля.<br />
Ферапонтов, Фотий Петрович, бригадир. Бывый брадобрей оного же герцога Курляндского. Многократно делал<br />
походы против недоимщиков и столь был охоч до зрелищ, что никому без себя сечь не доверял. В 1738 году, быв в лесу,<br />
растерзан собаками. … Ламврокакис, беглый грек, без имени и отчества и даже без чина, пойманный графом<br />
Кирилою Разумовским в Нежине, на базаре. Торговал греческим мылом, губкою и орехами; сверх того, был сторонником<br />
классического образования. В 1756 г. был найден в постели, заеденный клопами. …Иванов, статский советник,<br />
Никодим Осипович. Был столь малого роста, что не мог вмещать пространных законов. Умер в 1819 году от<br />
натуги, усиливаясь постичь некоторый сенатский указ. Пародийный характер фрагмента усилен иллюзией реальности<br />
описываемых событий: писатель упоминает реальных исторических деятелей, ссылается на реальные ситуации,<br />
гротескно заостренные.<br />
Несмотря на то, что официально-деловой стиль (точнее, пародия на него) имеет в «Истории одного города»<br />
нарочито архаичный характер, знакомство с пародией на деловые документы, и в особенности – на законодательные<br />
акты, несомненно, представляет интерес для будущих переводчиков в плане профессиональном, т.к. одно из возможных<br />
направлений их будущей работы – перевод деловой документации. Остановимся вначале на пародийном характере<br />
заглавий, предваряющих созданные глуповскими градоначальниками документы и служащих ключом к осмыслению<br />
пародийного характера описания законотворческой деятельности в городе Глупове.<br />
• Указ о нестеснении градоначальников законами.<br />
• Устав о добропорядочном пирогов печении<br />
• О благовидной всех градоначальников наружности.<br />
• Устав о свойственном градоправителю добросердечии.<br />
• Устав о неуклонном сечении.<br />
• О вящем армии и флотов по всему лицу распространении, дабы через то возвращение древней Византии под сень<br />
Росийской державы уповательным учинить.<br />
Специфика данных заглавий уже дает представление об особенностях официально-делового стиля: в каждом из<br />
них отмечаем отвлеченные слова, обращаем внимание на характерный синтаксис заголовочных структур – предпочтение<br />
конструкций «О+предложный падеж существительного». Комический (точнее –пародийный) эффект создается несоответствием<br />
формы и содержания (ср. хотя бы парадоксальную формулировку – «Указ о нестеснении градоначальников<br />
законами»).<br />
При рассмотрении «Истории одного города» в этом аспекте целесообразным представляется также обращение к<br />
пародийному «Уставу», автор которого – градоначальник Беневоленский. Прочтение данного текста необходимо сопровождать<br />
лексическим комментарием; особо следует остановиться на словах устаревших, указать, что таковыми<br />
они являлись уже и во время написания «Истории одного города», определить их функции в тексте (стилизация под<br />
рукопись XVIII века в целях художественной маскировки и в то же время - использование архаичности этих<br />
лексических единиц в целях придания тексту торжественности) В процессе анализа акцентируем внимание и на том,<br />
что данный фрагмент также имеет пародийную направленность: такие особенности официально-делового стиля, как<br />
обилие отвлеченных существительных (строгость, авантаж, прибыток, занятие, осмотрительность, отдохновение,<br />
расточение и пр.), насыщенность текста сложными словами (мимоидущий, градоправитель, кровопролитие и пр.)<br />
доведены до абсурда; кроме того, «чужое слово» – в данном случае – деловой документ – подчеркнуто бессодержателен,<br />
так как призван в завуалированной форме сообщить читателю о бюрократизации всех сфер жизни в современной Салтыкову-Щедрину<br />
России. Отметим хотя бы милостивое разрешение обывателю «отдохновение (не отдых – Л.М.)<br />
иметь», а также предписание не наказывать, в т.ч. – на съезжей гуляющего обывателя. Пародирует писатель и синтаксические<br />
структуры деловой речи; так, в приведенном «документе» налицо преобладание характерных для данной<br />
речевой сферы инфинитивных предложений. Мастерство сатирика заключается именно в том, что пародируются особенности<br />
языкового инвентаря целого стиля, т.е. «схемы формы, которую находит не отдельный человек, а создает<br />
целое поколение, причем отдельный, принадлежащий к этому поколению человек, уже включен в поиски такой<br />
формы» [2, c. 47].<br />
В завершение хотелось бы отметить, что анализ приведенных текстов призван не просто развить языковое и стилистическое<br />
«чутье» будущих переводчиков, выработать определенные навыки восприятия художественного текста (в<br />
особенности – довольно сложного в содержательном и формальном плане текста пародийного), но и сформировать<br />
хотя бы общее понятие об особенностях ораторской и официально-деловой речи.<br />
Литература:<br />
1. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. 2-е изд. – М.: Худож.<br />
лит., 1990. – 543 с.<br />
2. Брандес М.П., Провоторов В.И. Предпереводческий анализ текста (для институтов и факультетов иностранных<br />
языков): Учеб пособие. - 3-е изд., стереотип. - М.: НВИ-ТЕЗАУРУС, 2001.- 224с.<br />
3. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М.: УРСС Эдиториал, 2006. – 144 с.<br />
4. Крутова Е.Ю. Вертикальный контекст и формы его реализации в пародийном тексте. Автореф. канд. дисс. –<br />
Алматы, 1998. – 28 с.<br />
151<br />
Philological sciences<br />
Theory of literature. Textology
Philological sciences<br />
УДК: 615.849(038):001.4<br />
РАДИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ<br />
Татаринова Л.А., канд. филол. наук<br />
Ничога В.Д., доцент<br />
Астраханская государственная медицинская академия, Россия<br />
Участники конференции,<br />
Национального первенства по научной аналитике<br />
Formation of the medical information systems and the systems of management is due to strengthening international scientific and<br />
economical relations. It calls for enrichment of terminological funds in the majority of sciences including radiological terminology. The most<br />
actual radiological vocabulary has been collected by L.D. Lindenbraten and N.I. Pilipenko. Structural-semantic analysis of these more than<br />
10000terms reflected their peculiar composition and semantic characteristics due to the radiological branch of science itself.<br />
English radiological terminology is the open dynamic system connected with the development of the technical and physical terms and<br />
needs further investigation and classification considering the parametres denoted both to the formation and functioning of the term and to<br />
composing the termiological dictionaries.<br />
Keywords: terminology, radiology, semantic, terms, dictionaries, structure, function.<br />
Open specialized section<br />
На современном этапе, в связи с укреплением международных научных и экономических связей, развитием новых<br />
технологий, в том числе и в области лучевой диагностики, созданием медицинских информационных систем и автоматизированных<br />
систем управления происходит стремительное обогащение терминологического фонда. Однако, до<br />
сих пор нет полных международных и национальных стандартов на радиологическую терминологию.<br />
Английская радиологическая терминология наиболее полно зафиксирована в словаре «Радиологическая терминология»<br />
составителей Л.Д. Линденбратена и Н.И. Пилипенко, но предлагаемые ими термины не являются обязательными для<br />
использования в нормативных документах, а имеют рекомендательный характер. Для преподавателей, аспирантов, организаторов<br />
здравоохранения и переводчиков такое пособие очень актуально, поскольку потребности и интересы медицинской<br />
радиологии тесно переплетены не только с практикой клинических дисциплин, но и с другими точными<br />
теоретическими науками. Достаточно отметить, что само понятие «радиолог» за рубежом, в отличие от России,<br />
включает в себя «радиолог-лучевой диагност», «радиодиагност», «радиотерапевт (онколог)».<br />
Являясь достаточно сложной дисциплиной, радиология включает в себя и сложную систему терминов, которая,<br />
главным образом, базируется на латино-греческой основе.<br />
Целью нашего исследования является структурно-семантический анализ радиологических терминов, включенных<br />
в анализируемый словарь. Мы намерены рассмотреть языковой состав терминов, особенно их структуру, семантические<br />
характеристики и, в конечном итоге, дать общую оценку лексикологической адекватности их использования.<br />
На включенные в словарь более 10000 терминов радиологии оказалось около 87% с латино-греческими корнями.<br />
Однако, в их числе чистых терминов классического генеза около 83%, поскольку в их состав нередко включена<br />
лексика английского происхождения. Особенно это относится к поливербальным терминам, число которых очень<br />
значительно (electron binding energy,- энергетические связи электрона; even dose field- равномерное дозное поле; firstpass<br />
isotope angiography - изотопная ангиография первого прохода; half-life period - период полураспада; half-wave rectification<br />
– полуволновое выпрямление; inverse square law – закон обратных квадратов). При этом термин может быть<br />
классического генеза, а аффиксы - английского (useful beam - рабочий пучок; sterilizing dose - стерилизующая доза;<br />
short-lived radiation - излучение короткоживущих радионуклидов).<br />
Чисто английские термины составляют не более 13% (А - display - А – дисплей; afterloading - афтерлодинг, последовательное<br />
введение; aliasing -- совмещение имен, дефект изображения линий; view - проекция, ring shadow -<br />
кольцевидная тень; overlap shadow - перекрывающая тень, stent - стент; tomography (tomos – ломать, срез) –<br />
томография). Однако процент может быть значительно выше, если учесть, что большое число их входит в состав поливербальных<br />
терминов, включающих лексику классического генеза (airways disease - заболевание дыхательных<br />
путей, button sign – в виде пуговицы; popcorn calcification – обызвествление в виде хлопьев воздушной кукурузы;<br />
willow fracture - перелом по типу «зеленой ветки»; alpha threshold - порог альфа-частицы; flushing technique -<br />
струйный метод; soft-focus image - неконтрастное изображение; fleck sign – симптом хлопьев; rendering data - данные<br />
воспроизведения; raw data - необработанные данные; scattered radiation dose - доза рассеянного излучения). Наличие<br />
такого типа терминов свидетельствует о возрастающем темпе развития радиологической практики и настоятельной<br />
необходимости в формировании ее терминов. Нередко при формировании таких терминов нарушаются общепринятые<br />
правила терминообразования и в состав новых единиц включаются даже служебные слова (bound-to-free ratio –<br />
отношение связанный/свободный; built-in printer – встроенный принтер; emulsion pick-off – отслойка эмульсии; manyfield<br />
irradiation – многопольное облучение; off-centre film – эксцентрический снимок; sharp-dose fall-off – резкое<br />
падение дозы; tree-in-bud sign – признак «дерево с почками»; time-of flight technique – методика «бега времени»).<br />
В составе английской радиологической терминологии особое место занимают многокомпонентные, поливербальные<br />
термины, которые хотя и «утяжеляют» структуру лексической единицы, тем не менее необходимы, так как передают<br />
понятие более точно и детализировано. Анализ этих структур требует специального внимания: (radiation exposure<br />
measurement system – система измерения облучения; fast spin-echo technique – быстрый спин-эхо метод; hair-standing–<br />
on-end appearance – вид «волосы дыбом»; high-amplification screen-film system – экранно-пленочная система высокого<br />
усиления; highly magnetic-susceptible contrast agent – высокомагнитно-чувствительное контрастное вещество; laser<br />
assisted coronary angioplasty – лазерная коронарная ангиопластика; low-dose radiation therapy – лучевая терапия<br />
малыми дозами; mean radiation absorbtion – средняя радиационная абсорбция).<br />
Среди многословных терминов не менее интересным представляется большое количество метафорических образований(cauliflower<br />
– like appearance - вид цветной капусты; cobra head appearance - вид головы кобры; inverse comma<br />
appearance - вид перевернутой запятой; railroad track appearance - вид железнодорожной колеи; fine needle aspiration<br />
biopsy - аспирационная тонкоигольная биопсия; sandwich irradiation - двустороннее облучение; jackknife position -<br />
положение в виде складного ножа; butterfly lesion - поражение виде бабочки; mirror effect - эффект зеркала; onion peel<br />
appearance - вид луковичной шелухи; “peacock” conformal radiotherapy - радиотерапия моделируемым пучком; picket<br />
152
fence sign - признак частокола; pin – hole - мелкорастворимый; frog - like - положение лягушки; reversed “3” sign -<br />
симптом перевернутой «З»; beaded septum sign - симптом просяных цепочек; iceberg sign - картина айсберга; sail sign<br />
- симптом паруса). Все это свидетельствует о том, что язык – это живое явление, он тесно связан с окружающим<br />
миром и является его отражением.<br />
Анализируя многословные термины радиологии, мы не можем обойти вниманием и такую актуальную проблему,<br />
как аббревиация. Ритм современной жизни требует экономии времени, а, следовательно, и средств его сохранения.<br />
Поэтому на современном этапе особенно заметно появление огромного числа аббревиатур, в том числе и в специальной<br />
терминологии.<br />
В составе английской радиологической терминологии мы выделили наличие инициальных аббревиатур и акронимов.<br />
Инициальные аббревиатуры состоят, как правило, из 3 букв (реже – 4-х) и составляют около 15 % всего объема<br />
словаря. Большей частью они относятся к методике определения клинической картины: АСТ - axial computed<br />
tomography – АКТ – аксиальная компьютерная томография; ARS – acute radiation syndrome – ОРС – острый<br />
радиационный синдром; АД – absorbed dose – ПД – поглощенная доза; АТМ – asynchronous transfer mode - РАП –<br />
режим асинхронной передачи; новая телекоммуникационная технология; BSS – Basic Safety Standards – НРБ – нормы<br />
радиационной безопасности; CNB contrast – to noise ratio - отношение «контраст» / шум; ADC - analog-to-digital<br />
convertor – АЦП - аналоговый цифровой преобразователь; MRT – МРТ – Магнитно-резонансная томография, MSCT –<br />
МСКТ – Мультсрезовая компьютерная томография . Чуть меньше инициальных аббревиатур относится к наименованиям<br />
медицинских учреждений и обществ: CHORUS (Collaborative Hypertext of Radiology) – CCOPA (Сверхтекст для Сотрудничества<br />
Радиологов), ECR – Европейский конгресс радиологов.<br />
Как разновидность аббревиатур в словаре выступают акронимы, занимая не меньше места, чем все аббревиатуры.<br />
Эти образования способствуют лучшему запоминанию самого понятия и легко расшифровываются (ALARA (as low as<br />
reasonably achievable) – принцип АЛАРА – насколько возможно мало; BOLD (blood ‘ oxygenation level detection) -<br />
ОУОК – определение уровня оксигенации крови; CAT (computerized axial tomography) КАТ - компьютерная аксиальная<br />
томография; FLASH (fast low angle shot imaging) – быстрая узкоугловая визуализация; MAA (mucro aggregates of radioiodinated<br />
albumin) - МАРЙА – макроагрегат радиойодированного альбумина, BOLUS – инжекторное введение<br />
контрастного вещества.<br />
В этот же раздел можно, вероятно, отнести и символы, выраженные буквами разного стиля написания в сочетании<br />
с цифрами ( A – mode – amplitude mоdulation - А - режим; 3 D anatomy – three dimentional anatomy - трехмерная<br />
анатомия; D 50 (median lethal dose ) - ЛД 50 – средняя летальная доза; Cu HVL ( copper half – value level ) - слой<br />
половинного ослабления меди; mAs ( milliAmper – seconds ) - мАс - миллиампер – секунда; P - 31- MR spectroscopy -<br />
МР – Р -31 – спектроскопия; T ( T – tesla) – ( longitudinal relaxation time constant ) - Т L – время восстановления<br />
продольной релаксации, Т2 – время восстановления поперечной релаксации (спин-решеточной релаксации). Бывает и<br />
словесное выражение букв греческого алфавита (gamma heavy chain disease ).<br />
Привлекшие наше внимание двусловные термины распадаются по структуре на субстантивные и атрибутивные.<br />
Двусловные субстантивные термины состоят, как правило, из двух существительных, одно из которых выполняет<br />
роль идентификатора, указывающего на тип явления, качество, местоположение, временной параметр (chromosome<br />
aberration, time leg action, sandwich irradiation, dead time). Среди них отмечается метафорические образования типа<br />
coin lesion – «поражение в виде монеты», popcorn calcification – «обызвествление в виде хлопьев», mirror effect -<br />
«эффект зеркала», mulberry appearance - «вид тутовой ягоды», batterfly shadow - «бабочкоподобная тень», bat wing<br />
shadow - «крылья летучей мыши», button sign - «признак пуговицы». В их составе нам встретились три термина из<br />
немецкого языка: magenstrasse - желудочная дорожка (рентгеновское обозначение просвета желудка вдоль малой<br />
кривизны) и bremsstrahlung radiation - тормозное излучение, Rö-strale - рентгеновские лучи (Roentgen– 1895г.)<br />
Более разнообразными по структуре оказались атрибутивные двусловные образования, которые выполняют роль<br />
определения для основного значения.<br />
Как правило, они представлены прилагательными с наиболее часто употребляющимися суффиксами: -ic, - al, -ar, -<br />
ous, - ive, - y (chronic exposure – хроническое облучение, biological dose – биологическая доза, annular shadow –<br />
кольцевидная тень, contiguous scan – смежный скан, cumulative dose – накопленная доза, contrary irradiation –<br />
встречное облучение, eddy currents – наведенные токи).<br />
Сравнительно небольшую долю (около 1%) занимают причастия I и II (doubling dose - удваивающая доза; delayed<br />
action - отдаленный эффект) и прилагательные со служебными составляющими ( half – shadow - полутени; infra – red<br />
imaging - тепловидение; off – centre film - эксцентрический снимок). Встречаются двусловные сочетания с непроизводным<br />
прилагательным ( absolute field - полное поле, complete resolution - полное разрешение, deep - rays - жесткое<br />
рентгеновское излучение; fast screen - высокочувствительный экран; incoherent scattering - некогерентное рассеивание).<br />
Завершая неполный обзор английских терминов радиологии, можно сделать вывод, что это открытая динамическая<br />
система, связанная с развитием понятийной системы, с углублением и усложнением понятийного аппарата радиологии,<br />
с внедрением технических и физических терминов. Она требует дальнейшего изучения и классификации с учетом параметров,<br />
предъявляемых как к формированию и функционированию термина, так и к составлению терминологических<br />
словарей.<br />
Литература:<br />
1. Радиологическая терминология. Radiological Terminology. Москва – Харьков, 1999, 392 с., составители: проф. Л.Д.<br />
Линденбратен, проф. Н.И. Пилипенко.<br />
2. Holger Pettersson. A Global Textbook of Radiology, NICER Institute, Sweden, w.I-II, 1995, 1330 pp.<br />
3. Новодранова В.Ф. Когнитивное терминоведение как отражение интеграции когнитивных наук. Москва, 2003 г., стр 4-6 Сб.<br />
«Научные и методические проблемы медицинской терминологии».<br />
4. Бурнов О.И., Ионенко И.Р. Об учебных пособиях и словарях. Москва, 2003 – 130 с.<br />
5. Татаринова Л.А. Структурно-семантические особенности латино-англо-русской офтальмологической терминологии. Дисс.<br />
канд. фил. наук, Одесса, Госуниверситет, 1985.<br />
153<br />
Philological sciences<br />
Open specialized section
Philological sciences<br />
ЯЗЫКОВАЯ ИГРА В ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ<br />
Якоба И.А., канд. социол. наук, доцент<br />
Иркутский государственный технический университет, Россия<br />
Участник конференции,<br />
Национального первенства по научной аналитике,<br />
Открытого Европейско-Азиатского первенства по научной аналитике<br />
Статья посвящена обзору и анализу использования лингвистического явления языковой игры в процессе общения в сети<br />
Интернет. Автор выделяет причины и виды языковой игры. Рассматривает языковое шифрование как наиболее распространенный<br />
вид языковой игры. Приводит примеры языковой игры. Размышляет о противостоянии языковой игры и информатизации<br />
текстов. Это определяет актуальность темы статьи.<br />
Библиогр. 11 назв.<br />
Ключевые слова: интернет-коммуникация, игра, языковая игра, лингвистическая игра, языковой эксперимент, игра слов,<br />
причины языковой игры, виды языковой игры, языковое шифрование, теория игр.<br />
The article is devoted to analysis of use of linguistic phenomenon of language game in online communication. The author points the<br />
causes of language games, demonstrates language encoding as the most wide spread type of language games, gives examples of language<br />
games in online communication. This determines the urgency of the article.<br />
Keywords: online communication, game, language game, linguistic game, language experiment, word game, language game causes,<br />
language game types, language encoding, theory of games.<br />
Open specialized section<br />
Понятие лингвистическая игра является одной из составляющих общей теории игр, куда также входят такие понятия, как<br />
спортивные игры, любовные игры, компьютерные игры, общественные игры [4]. Языковую игру при этом следует понимать не<br />
только как языковой прием, но более широко – как преобразование окружающей действительности в условиях нового технического<br />
ресурса – интернет-коммуникации. В данном процессе наблюдается отражение извечного стремления человека к преобразованию<br />
окружающей действительности, реализованное в неизбежном техническом усовершенствовании подобного воздействия. Надо<br />
отметить, что область влияния наблюдаемого преобразования распространяется не только на взаимодействие человека с миром материальным,<br />
но и трансформирует сферу языка как естественное оформление названной деятельности человека. Интернеткоммуникация<br />
предлагает широкие возможности для языковой игры в процессе подачи и последующего восприятия информации,<br />
способствует тому, что человек, внося изменения в повседневные коммуникативные ситуации, преобразует окружающую действительность.<br />
Знаменитый историк культуры Йохан Хейзинга считал, что «человеческая культура возникает и развертывается в игре и<br />
как игра» [10, с. 7]. Утверждая игровую природу оперирования человеком языком, Хейзинга замечает: «человечество все снова и<br />
снова творит свое выражение бытия, рядом с миром природы свой второй, измышленный мир» [10, с. 14].<br />
Языкова́я игра́ (нем. Sprachspiel) — термин Людвига Витгенштейна, введённый им в «Философских исследованиях», в 1953<br />
году, для описания языка как системы конвенциональных правил, в которых участвует говорящий. Понятие языковой игры<br />
подразумевает плюрализм смыслов. Концепция языковой игры приходит на смену концепции метаязыка.<br />
В отечественном языкознании термин вошел в широкий научный обиход после публикации одноимённой работы Е. А. Земской,<br />
М. В. Китайгородской и Н. Н. Розановой [7], хотя сами лингвистические явления, обозначаемые данным термином, имеют<br />
достаточно длительную историю изучения. Как указывается в данной работе, это «те явления, когда говорящий «играет» с формой<br />
речи, когда свободное отношение к форме речи получает эстетическое задание, пусть даже самое скромное. Это может быть и<br />
незатейливая шутка, и более или менее удачная острота, и каламбур, и разные виды тропов (сравнения, метафоры, перифразы и т.<br />
д.)». Исследователи изучают факты языковой игры в разговорной речи и считают, что языковую игру следует рассматривать как<br />
реализацию поэтической функции языка. Игрой в широком смысле можно считать всякое поэтическое творчество. «Поэзия в своей<br />
первоначальной функции как фактор ранней культуры рождается в игре и как игра. Это освященная игра, но в своей священности<br />
эта игра все же постоянно остается на грани необузданности, шутки, развлечения» [10, с. 141]. Во все времена поэты играли со<br />
словом. Но если, например, в ХIХ веке тексты строились по принципу парадокса, не нарушая при этом грамматических форм и<br />
структурных компонентов предложения (Эдвард Лир, Льюис Кэрролл, Козьма Прутков и др.), то в начале ХХ века игра со словом<br />
породила философию зауми (Велемир Хлебников, Игорь Северянин, Алексей Крученых, Даниил Хармс) и язык абсурда.<br />
Выделим следующие причины распространения языковой игры в интернет-коммуникации:<br />
1. прагматические установки автора; скрытая манипуляция (как способ достижения поставленной цели путем скрываемого неосознаваемого<br />
влияния на собеседника);<br />
2. флирт (привлечение внимания объектов, обычно противоположного пола с целью повышения собственной значимости в<br />
своих глазах и глазах виртуального собеседника, повышения настроения и уверенности в себе, установление доброжелательного<br />
контакта). При этом часто наблюдается снижение стилистических стандартов. В интернет-коммуникации флирт наиболее часто<br />
представлен фонетическим имитированием произносимого варианта жанра бытового диалога в письменном виде, как правило, утрированно<br />
искажённого, комичного (низя = нельзя, не = нет, када = когда, щас = сейчас, бум = будем, мона = можно, чесс слово =<br />
честное слово, моська = мордочка, шутливый вариант слова «лицо»), а также просторечными оборотами (харе = достаточно);<br />
3. иллюзия свободы вследствие «карнавализации» интернет-коммуникации (см. 11);<br />
4. неосознанные маркеры речевого поведения (профессиональная принадлежность, социальное положение, личностностные<br />
характеристикики, гендерная принадлежность – маскулинный, фемининный, андрогинный или неопределенный тип);<br />
5. шифрование с целью развлечения, привлечения внимания, оттачивания навыков остроумия, развития чувства юмора,<br />
уменьшение психологической дистанции во время коммуникации (так называемый эффект сближения посредством разделения<br />
тайны); шифрование рассматривается как средство, побуждающее посылателя сообщения к шифрированию, а реципиента к дешифрированию<br />
(ребусное представление слов, словосочетаний; остроты, эллиптические конструкции, метафоризация, обобщение<br />
и др.).<br />
К лингвистическим видам языковой игры отнесем различные типы языкового шифрования:<br />
1. компрессия (принцип экономии усилий отправителя и получателя); аббревиация (CU = See You «Увидимся, пока», 4U = for<br />
you «для тебя»);<br />
2. заимствования из других языков, использование разных языковых регистров (в рамках билингвизма и диглосии); «латинизация»<br />
русскоязычных пользователей Сети (Cdшка = компакт-диск (произносится: сидúшка); от скуки пом.ru; Тсой жыff! = Цой жив);<br />
3. изменение известных изречений, пословиц, поговорок, цитат из книг и фильмов и т.п. (Пирамида>Чайковский: ты не знаешь,<br />
что завещал нам Ленин? / Чайковский>Пирамида: знаю – лениться, лениться и еще раз лениться»; Doni>Гвоздь: а как ты<br />
154
собираешься жить без работы и денег? Гвоздь>Doni: пойду работать, а учиться не обязательно. Ученье – свет, а неученье – кайф».);<br />
4. «клавиатурные кальки» - сочетания кириллических букв, для записи международных и английских частотных клише, где<br />
каждая латинская буква заменяется той кириллической буквой, которая расположена на одной клавише с латинской (англ. BYE!<br />
(bye, до свидания) передается русскими буквами как ИНУ!; англ. PLS (please, пожалуйста) — как ЗДЫ; лат. P.S. (постскриптум) —<br />
как ЗЫ; лат. RE (повтор сообщения) — как КУ);<br />
5. графико-морфемные и графико-лексические гибриды (…начали не с литературы, а с «help’oв», компьютерных учебников, энциклопедий<br />
и словарей; обзавелись nickname’ом; как нас love’ят операторы);<br />
6. игровая фонетизация письма (йад =яд; пруцца= прутся; исчо=еще);<br />
7. «албанское письмо» - клишированные фразы и обороты в шутливой «фонетической» орфографии и с особыми сленговыми<br />
значениями (аццкий сотона = адский сатана; пазитиф = отлично, готичьно, прекольно = нормально, здóрово; криатифф = шутливый<br />
рассказ) и написания без пробелов (ржунимагу; фтему);<br />
8. идиомизация некоторых компьютерных словосочетаний (включи компьютер = подумай, пошевели мозгами; диск<br />
отформатировать = (шутл.) избить кого-л. (чаще как угроза); файлы не сошлись = (молодежн., шутл.) кто-л. недоумевает, не<br />
понимает чего-л., сильно удивлен чем-л.);<br />
9. использование слов из специальных профессиональных подсистем (медицинская (virus – вирус, clone – пиратская версия<br />
программного обеспечения; военная сфера (password – пароль, explode – полететь (о компьютере, системе); из социальной<br />
подсистемы – сленга (geek – компьютерный эксперт, nerd – компьютерный профессионал, dweeb – пользователь, который<br />
неправильно использует возможности Интернета, например, отправляет большие по объёму сообщения);<br />
10. использование паравербальных факторов и экстралингвистических явлений, креолизация текстов (смайлики и<br />
знак @) и т. п.<br />
Языковая игра строится по принципу намеренного использования отклоняющихся от нормы и осознаваемых на фоне системы<br />
и нормы явлений: «Языковая игра порождает иные, чем в узусе и норме, средства выражения определенного содержания или<br />
объективирует новое содержание при сохранении или изменении старой формы» [4, c.7]. В современной лингвистике при<br />
«заведомо неправильном употреблении слов для выявления закономерностей и правил функционирования языка» [9, с. 64], а также<br />
при изучении аномальных (периферийных) явлений в языке все чаще используется понятие «языковой эксперимент» [2, с. 50-71].<br />
Прием остранения, которым так широко пользуются в литературоведении для осознания и исследования нормативных явлений, в<br />
лингвистике приобрел статус языковой игры, языкового эксперимента. «Экспериментами над языком занимаются все: поэты,<br />
писатели, остряки и лингвисты. Удачный эксперимент указывает на скрытые резервы языка, неудачный - на их пределы» [3, с. 6].<br />
В современной культуре понятия игры и эксперимента тесно переплетаются. Играя с языком, с самим собой, с читателем автор<br />
бросает вызов читателю, дразнит его. За маской (персоной) автора, пишущего порой с явными отклонениями от литературного<br />
языка, прячущегося за нелепыми ошибками, якобы не понимающего и не различающего стили, смешивающего высокое и низкое,<br />
серьезное и смешное, стоит своего рода «юродивый», переворачивающий традиционные представления, провоцирующий всеобщее<br />
поругание и смех. [1]<br />
В общем, можно сказать, что языковая игра как средство передачи мыслей, чувств, эмоций, ощущений, невербализованных<br />
идей автора становится все более востребованной и в разговорной речи, и в художественном тексте, и в интернет-коммуникации,<br />
прежде всего в связи со стремлением сказать что-то, не повторяясь, не прибегая к «избитым формулировкам», потерявшим уже не<br />
только образность, но и четко различимый смысл. Установка на языковую игру, т. е. на остроумие, характерна для обоих партнеров<br />
сетевой коммуникации: человек не только сам стремится писать «прикольно», но и ожидает «приколов» со стороны партнера.<br />
Стремление к языковой игре сказывается также в любви пользователей Сети к сленгу. Истоки подобных интенций связаны с эмоционально-экспрессивными,<br />
эстетическими и соревновательными потребностями человека [5, c. 289-321]. С помощью языковой<br />
игры можно выразить оценку окружающей реальности, самоидентифицироваться, отразить свои эмоции. Отсутствие визуального<br />
контакта в интернет-коммуникации акцентирует внимание на используемых языковых средствах, что обусловливает эстетическую<br />
ориентацию при употреблении языковых единиц.<br />
Если же рассматривать языковую игру в общем контексте современной языковой ситуации, то можно сказать, что это<br />
один из двух возможных путей переходного периода русского языка, по мнению М.В. Захаровой [6]. Вторым возможным<br />
путем она считает информатизацию текста, то есть значимое преобладание фактического содержания над всеми иными компонентами,<br />
что превращает текст (и письменный, и устный) в сжатое сухое сообщение. Если в разговорной речи и интернеткоммуникации<br />
подобное явление может вызвать лишь эстетическое неприятие, то в письменной, особенно в художественных<br />
текстах, — это печальное зрелище. Художественное произведение, созданное в стиле sms-сообщение (если, конечно, это не<br />
творческий замысел автора), теряет все признаки литературы: и образность, и эмоциональность, и подтекст, и многозначность…<br />
В отличие от сторонников языковой игры люди, избирающие информатизацию, отказываются от работы над<br />
словом, не обращают на форму сообщаемой информации никакого внимания. Информационная направленность общения и<br />
вызывает отмечаемое сейчас «оскудение словаря русского языка»: оценочная лексика, эмоционально насыщенные языковые<br />
элементы, эпитеты — все это не используется некоторыми носителями языка, так как не нужно для реализации<br />
информационной функции речевого общения.<br />
Не смотря на информатизацию текстов, в целом, можно утверждать, что на данном этапе развития интернет-коммуникации, повышенная<br />
метаязыковая рефлексия (термин Н.Б. Мечковской [8]) вливается в тенденцию к возрастанию насыщенности интернеткоммуникации<br />
метаязыковыми значениями, что проявляется в графико-орфографической рефлексии (графико-орфографических<br />
игры, шутки с буквами и азбуками, игры с английскими заимствованиями и т.д.). Таким образом, языковая игра становится<br />
неотъемлемой частью интернет-коммуникации.<br />
Литература:<br />
1. Аксенова О. Языковая игра как лингвистический эксперимент поэта (Лексика и грамматика в стихах Александра Левина).<br />
Режим доступа: http://levin.rinet.ru/ABOUT/Aksenova1.html<br />
2. Апресян Ю.Д. Языковые аномалии: типы и функции // Res Philologica. М., 1990,<br />
3. Арутюнова Н.Д. Аномалии и язык // Вопросы языкознания. 1987, № 3, с. 6<br />
4. Гридина Т.А. Языковая игра: стереотип и творчество. Екатеринбург, 1996.<br />
5. Гусейнов Г. Заметки к антропологии русского Интернета: особенности языка и литературы сетевых людей // Новое<br />
литературное обозрение. 2000. № 43. С. 289—321.<br />
6. Захарова М.В. Языковая игра как факт современного этапа развития русского литературного языка // «Знамя» 2006, №5.<br />
http://magazines.russ.ru/znamia/2006/5/za12-pr.html<br />
7. Земская Е.А., Китайгородская М.В., Розанова Н.Н. Русская разговорная речь. Фонетика. Морфология. Лексика,<br />
Жест. М., 1983.<br />
155<br />
Philological sciences<br />
Open specialized section
Philological sciences<br />
8. Мечковская Н.Б. Естественный язык и метаязыковая рефлексия в век интернета //Русский язык в научном освещении. - № 2<br />
(12). - М., 2006. - С. 165-185.<br />
9. Щерба Л.В. О частях речи в русском языке // Избранные работы по русскому языку. М., 1975.<br />
10. Хейзинга, Й. Homo ludens. М., 1992.<br />
11. Якоба И.А. Особенности Интернет-коммуникации (лингвистический, социальный, гендерный аспекты) //Вестник ИрГТУ,<br />
2012. - № 3. С.365- 372.<br />
УДК 801.61 -> 81'342.8/.9<br />
ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КОГЕЗІЇ У АНГЛОМОВНІЙ НАВЧАЛЬНІЙ ІНСТРУКЦІЇ<br />
Назмєєва Н.А., викладач, здобувач<br />
Волинський національний університет ім. Лесі Українки, Україна<br />
Національний університет водного господарства та природокористування, Україна<br />
Стаття присвячена дослідженню основних засобів вираження когезії у англомовній навчальній інструкції.<br />
Ключові слова: когезія, навчальна інструкція, інформація, метамовна функція, конструкція.<br />
The article highlights the basic means of cohesion expression in English exercises.<br />
Keywords: cohesion, exercise, information, metalinguistic function, construction.<br />
Учасник конференції<br />
Open specialized section<br />
Когезія – це одна з найважливіших текстових категорій, якій належить провідна роль у процесі текстотворення. Її основна<br />
функція полягає у встановленні ієрархії складових елементів тексту залежно від авторської інтенції, що веде до інтеграції тексту та<br />
реалізації метамовної інформації. Когезія скріплює, «зшиває» цю послідовність в окреме гармонійне ціле. Аналіз текстових<br />
коннекторів як компонентів єд иного функціонального поля зв’язності дозволяє стверджувати, що не існує незв’язного тексту.<br />
Висуваючи дану гіпотезу, ми розуміємо, що когезія – у певній мірі інтерпретаційна категорія, тобто намір адресанта може не<br />
досягнути перлокутивного ефекту, і, побудований за всіма правилами текст, може інтерпретуватися адресатом як незв’язний.<br />
Актуальність запропонованого дослідження полягає у вивченні основних засобів зв’язності у англомовних навчальних інструкціях.<br />
Дана категорія не була предметом спеціального вивчення. Її дослідження необхідне для розуміння процесів та механізмів мовленнєво-розумової<br />
діяльності людини, яка постійно у пошуках вирішення побудови, інтерпретації та засвоєння змісту у напрямку від<br />
навчальної інструкції до змісту (для адресата) та від змісту до навчальної інструкції (для адресанта). Матеріалом дослідження стали<br />
1000 формулювань навчальних інструкцій із оригінальних навчально-методичних комплексів з англійської мови, підготовлених видавництвами<br />
Oxford University Press, Cambridge University Press, Longman, Macmillan.<br />
Загалом вся інформація у навчальних інструкціях структурується у простих або складних (складносурядних та складнопірядних)<br />
наказових реченнях, а також у різних комбінаціях простих та складних речень. У більшості випадків смислова цілісність таких<br />
навчальних інструкцій доповнюється засобами текстової когезії. Міжфразовий зв'язок між предикативними одиницями<br />
складнопідрядного наказового речення здійснюється сполучником and, що виражає порядок виконання дій. На дану особливість<br />
сполучника and вказує і Т.А. ван Дейк: «Вживання and у складносурядному реченні виражає … явну чи неявну співвіднесеність<br />
фактів, про які йде мова у реченнях, з’єднаних даним сполучником. В цьому випадку у фокусі знаходиться сама послідовність<br />
зображених дій» [1, с 259-336]. Таким чином, виконання адресатом першої дії складносурядного наказового речення є попередньою<br />
умовою для переходу до виконання другої (та) наступної дії (дій). Хоча подібні відношення зустрічаються і в навчальних<br />
інструкціях, що складаються із ланцюжка простих наказових речень, смислова співвіднесеність дій виражається найчіткіше у<br />
складносурядних наказових конструкціях:<br />
Research idioms connected with time and add them to your vocabulary book.<br />
Imagine you have applied to join a fitness club and you have been asked to describe your lifestyle on an application form. Write about<br />
your habits in one paragraph.<br />
Read the class survey and add two questions of your own. Stand up! Ask three students the questions and complete the chart. Remember<br />
to add some information in your reply.<br />
Look at the photos of the three hotels and answer these questions.<br />
Не менш важливу роль у текстотворенні формулювання навчальної інструкції відіграють прислівники (finally, then, after, now та<br />
ін.) та форми перерахування (first, second, third …), що теж створюють часову перспективу інструкції. Г. Вежбицька зазначає: «Що<br />
стосується виразів «по-перше», «по-друге», «по-третє» и т.д., то вони насправді вживаються тільки у метатекстовій функції:<br />
1) можна трактувати вирази «по-перше», «по-друге», «по-третє» як синоніми (позиційні варіанти) порядкових числівників<br />
«перший», «другий», «третій» і т.д., що зумовлені наявністю метаплеоназма «я скажу».<br />
2) можна трактувати вирази «по-перше», «по-друге», «по-третє» і т.д. (так як і primo, secundo і т.д.) як скорочені показники<br />
речень «скажу як перше», «скажу як друге», «скажу як третє» і т.д. Без сумніву, більш логічною буде перша інтерпретація» [2, с.<br />
413]. Розглянемо приклади:<br />
Work in small groups. Choose a few nationalities that you know. First describe them in stereotypical fashion, second discuss how much<br />
your experience of them fits the stereotype.<br />
Read the extract and match the characters with their descriptions, then make up sentences about them. Finally explain the words in bold.<br />
Work in small groups. What important dates in the 20th century can you remember? What happened in the world? What happened in your<br />
country? Make a list of events. Then make questions to ask the other groups.<br />
Look at these pictures showing various people at work. Talk to each other about the different kinds of working environments shown. Then,<br />
say which working environments are likely to be the most and least stressful. Finally, select the picture which, in your opinion, shows the<br />
working environment which needs the most improvements.<br />
У наведених прикладах смислова та структурна зв’язність доповнюється єдністю часового континуума: лексичні темпоральні<br />
маркери виражають часову кореляцію дій із більш віддаленим майбутнім відносно єдиного темпорального центра першого<br />
наказового речення. У композиційному плані такі навчальні конструкції являють собою цілісну єдність та формують стрижневу<br />
композиційну структуру.<br />
156
Philological sciences<br />
Часова співвіднесеність дій імператива з більш віддаленим майбутнім може передаватися у навчальній інструкції за допомогою<br />
підрядного речення обставини з дієсловом в теперішньому часі дійсного способу:<br />
On a piece of paper write a short account of how you get ready in the morning. Don’t write your name on it. When you’ve finished, fold<br />
the piece of paper and give it to your teacher. Then take another student’s piece of paper and guess who it belongs to.<br />
Work in four groups A-D. Listen to the weather forecast and make notes about your part. When you have finished, swap information.<br />
Work in small groups. Choose one of the following situations and design a suitable meal. The meal should consist of at least three courses.<br />
When you have finished, read out your menu to the rest of the class and ask them to guess which situation you chose.<br />
When you have finished, discuss these questions.<br />
Синтаксично залежна предикативна структура When you have finished,… бере участь у створенні часового континууму у<br />
навчальній інструкції. В усному мовленні викладача еквівалентом подібної конструкції є висловлювання типу ‘Finished?’, яка<br />
виконує функцію контрольно-стимулюючої репліки та маркує перехід до наступної навчальної дії.<br />
Отже, своєрідність морфологічної форми імперативу як найпоширенішого способу передачі спонукальної семантики у<br />
навчальних інструкціях знаходить своє відображення у способі репрезентації часової перспективи в інструкціях, а також у засобах<br />
текстової когезії, яка відіграє значну роль у процесі комунікації, тобто передачі певної інформації від адресанта до адресата. Завдяки<br />
цьому текст навчальної інструкції набуває визначення повідомлення, що складається з певної кількості висловлювань, об’єднаних<br />
різними видами лексичних, граматичних, логічних зв’язків в рамках комунікативної інтенції адресант – адресат.<br />
Література:<br />
1. Ван Дейк Т.А. Вопросы прагматики текста // Новое в зарубежной лингвистике. – М.: Прогресс, 1978. – Вып. VIII. – С. 259-336.<br />
2. Вежбицка А.Метатекст в тексте // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. VIII: Лингвистика текста. М.,1978. С. 413.<br />
3. Cunningham S., Moor P. Elementary New Headway. Pronunciation Course. Oxford University Press. 2002.<br />
4. Jefferies А. Clockwise. Advanced Classbook. Oxford University Press. 2001.<br />
5. Norris R. Straightforward. Advanced student’s book. Macmillan.<br />
6. Soars L. & J. New Headway Advanced. Student's Book. Oxford University Press. 2001.<br />
Open specialized section<br />
157
PSYCHOLOGICAL SCIENCES<br />
УДК: 159.9.07<br />
ВЗАИМОСВЯЗЬ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ С ФОРМОЙ ОБУЧЕНИЯ<br />
Маркелов В.И., аспирант<br />
Каращан В.А., канд. психол. наук, доцент<br />
Российский государственный университет туризма и сервиса, Россия<br />
Участник конференции,<br />
Национального первенства по научной аналитике<br />
В статье рассматриваются особенности самоактуализации респондентов очной и заочной форм обучения. На выборке (N =<br />
465), состоящей из студентов кафедры психология и социальная работа исследовались связи формы обучения с самоактуализацией<br />
личности. Статистический анализ проводился с помощью критериев t Стьюдента и U Манна-Уитни.<br />
Ключевые слова: самоактуализация, форма обучения, личность, образование, вуз.<br />
Features of self-actualization of respondents of full-time and correspondence forms of studies are examined in the article. Connections of<br />
the form of studies and person’s self-actualization were examined within the sample (N=465), which consists of students of psychology and<br />
social work division. Statistical analysis was carried out with the help of student’s t-test and the Mann–Whitney U.<br />
Keywords: self-actualization, form of studies, personality, education, college, university.<br />
Correctional psychology<br />
В условиях современных социальных и экономических преобразований предъявляются высокие требования к личности<br />
человека и, в первую очередь, к его способности самостоятельно определять свой жизненный выбор и добиваться поставленных<br />
целей. Проблема развития и реализации человеческого потенциала встает качественно новым образом. Особенно актуальным<br />
становится вопрос о необходимости создания условий для мотивации к личностному росту, развития творческого потенциала<br />
личности и ее самоактуализации. А в условиях вуза, предпосылки для «самодвижения», инициативы, самостоятельности, творческой<br />
активности в жизни развивающейся личности [2, с. 116] Следовательно, становится насущной проблема изучения условий<br />
саморазвития личности, ее самоактуализации в новой социально-экономической ситуации. Нами была разработана программа исследования,<br />
которая на первом этапе изучения условий самоактуализации личности предусматривала констатирующий эксперимент.<br />
Основной задачей эксперимента являлось определение особенностей процесса самоактуализации в условиях образовательной<br />
деятельности вуза<br />
Для измерения самоактуализации мы использовали методику «Самоактуализационный тест» в адаптации Ю.Е. Алешиной,<br />
Л.Я. Гозмана, М.В. Загика и М.В. Кроз [1]. Объект исследования: студенты кафедры психологии и социальной работы Российского<br />
государственного университета туризма и сервиса (Москва) всех курсов и форм обучения, мужчин и женщин, в возрасте от 18 до 41<br />
года, всего 465 респондентов. Средний возраст респондентов по выборке в целом составил 25 лет, очной формы обучения – 20 лет,<br />
заочной – 29 лет.<br />
После обработки данных по результатам самоактуализационного теста (САТ), была сформирована шкала, объединившая две<br />
базовые в САТ. Необходимость создания новой шкалы обусловлена тем, что наличие самоактуализации в САТ определяется<br />
значениями двух базовых шкал – Компетентности во времени (Tc) и Поддержки (I), для разделения респондентов на группы по<br />
признакам самоактуализации, «сырые» значения базовых шкал, после перевода в Т-баллы, преобразованы в новую шкалу<br />
«Объединенная базовая», где каждому наблюдению соответствует среднее значение двух базовых шкал. Более подробно о методике<br />
обработки эмпирических данных САТ можно посмотреть в [3].<br />
В результате подсчета эмпирических данных и обработки их с помощью программ SPSS Statistics 17.0 и Excel из пакета<br />
Microsoft Office 2010, респонденты были разделены на три группы, в зависимости от выраженности самоактуализации:<br />
1 группа – самоактуализирующиеся (СА) – 145 респондентов (≥ 55 Т-баллов; M = 60,4; σ = 4,4).<br />
2 группа – среднестатистическая (СС) – 219 респондентов (45÷54 Т-баллов; M = 49,5; σ = 3,1).<br />
3 группа – рубежная (Р) – 101 респондент (< 45 Т-баллов; M = 38,9; σ = 4,0).<br />
Таким образом, почти треть (31,2%) респондентов из исследуемой выборки находятся в зоне самоактуализации. Это высокий<br />
показатель так как, по мнению автора теории самоактуализации А. Маслоу самоактуализирующихся людей не более одного<br />
процента от всего населения.<br />
Исследуемую выборку по форме обучения мы разделили на две группы:<br />
– очная форма 205 респондентов (M = 50,4; σ = 9,1), из которых СА – 59 (M = 61,1; σ = 4,9), СС – 101 (M = 49,6; σ = 3,2), Р – 45<br />
(M = 38,2; σ = 4,3);<br />
– заочная форма 260 респондентов (M = 50,7; σ = 8,2), из которых СА – 86 (M = 59,9; σ = 3,9), СС – 119 (M = 49,2; σ = 3,0), Р – 55<br />
(M = 39,6; σ = 3,7).<br />
Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова не выявил отличий в распределении данных по исследуемым выборкам от<br />
нормального (очная форма – z = ,717; p = ,683; заочная форма – z = ,535; p = ,937), поэтому для сравнения данных по очной и заочной<br />
формам обучения применялся t-критерий Стьюдента.<br />
В выраженности самоактуализации у респондентов заочной и очной форм обучения не имеется статистически значимых<br />
различий (p = ,722). В соответствующих группах по выраженности самоактуализации t-критерий Стьюдента определил сходство<br />
(СА – p = ,120; СС – p = ,329; Р – p = ,090). Поэтому было принято решение сравнить средние значения выраженности<br />
самоактуализации респондентов очной и заочной форм обучения по отдельным шкалам, которые характеризуют основные<br />
жизненные сферы личности.<br />
На рис. 1 приведен график средних значений по шкалам САТ для обеих форм обучения, эллипсами выделены значения шкал,<br />
где различия статистически подтверждены с помощью t-критерия Стьюдента, одинарной линией на достоверном уровне (р < ,05), а<br />
двойной – на высоком уровне статистической значимости(р < ,01). Первые выделенные значения относятся к базовой шкале Тс –<br />
Компетенции во времени (р = ,046), эта шкала оценивает психологическую зрелость личности. Соотношение значений респондентов<br />
очной и заочной форм обучения вполне закономерно, т.к. студенты заочной формы старше по возрасту и уже в силу этого должны<br />
быть более зрелыми в личностном развитии, что и отражено на диаграмме. Вторая базовая шкала I – Поддержки у нас не выделена,<br />
т.к. значения t-критерия ниже значимых (р = ,092), но еще не оцениваются как не значимые (р > ,1), а имеющие тенденцию к<br />
достоверности. Шкала базовая и обойти ее вниманием было бы не совсем правильно. Шкала Поддержки (I) измеряет степень независимости<br />
субъекта от воздействий извне – опора в жизни на собственные ценности, цели, убеждения, установки и принципы.<br />
158
Psychological sciences<br />
Рис. 1. Соотношение средних значений САТ респондентов очной и заочной форм обучения.<br />
На диаграмме видно, что значения этой шкалы у респондентов очной формы обучения выше, чем у респондентов заочной (I).<br />
Это конечно не значит, что студенты очной формы обучения руководствуются в своих поступках собственными целями,<br />
убеждениями, установками и принципами, а респонденты заочной формы обучения несамостоятельны, зависимы и конформны.<br />
По нашему мнению студенты-заочники более осмотрительны и ответственны в поступках и действиях, чем студенты очной формы<br />
обучения. Это подтверждается тем, что значения шкалы I, у респондентов обеих форм обучения не выходят за пределы средней<br />
зоны (45÷54 Т-баллов), и поэтому интерпретируются аналогично друг другу.<br />
Остальные значимые в статистическом отношении различия относятся к дополнительным шкалам САТ и касаются Гибкости<br />
поведения (Ех, р = ,007), Сензитивности (Fr, р = ,003), Спонтанности (S, р = ,021) к себе, Принятия агрессии (А, р = ,022) и<br />
Контактности (С, р = ,015). Для повышения содержательности анализа изучаемых переменных в различных формах обучения,<br />
считаем целесообразным объединить родственные шкалы, отражающие разные стороны одного процесса. Сензитивности к себе<br />
(Fr) и Спонтанности (S), составляющие блок чувств, одна (Fr) определяет, насколько человек ощущает и рефлексирует свои чувства,<br />
другая (S) как эти чувства выражаются в общении и поведении. Принятия агрессии (А) и Контактности (С), образующие блок межличностной<br />
чувствительности, который оценивает крайние выражения чувств (А) и способность к быстрому установлению эмоционально-насыщенных<br />
контактов с людьми (С). И отдельной остается шкала Гибкости поведения (Ех), которая измеряет<br />
способность быстро и адекватно реагировать на изменяющуюся ситуацию, гибкость субъекта во взаимодействии с окружающими<br />
людьми.<br />
Во всех анализируемых переменных (шкалах) респонденты очной формы обучения показывают более высокие значения, чем<br />
респонденты заочной формы (рис.1). Объединяет выделенные переменные то, что все они относятся к разным аспектам процесса<br />
общения (эмоциональная насыщенность, экспансивность, динамичность) и коммуникативной деятельности. Следовательно,<br />
респонденты очной формы обучения активнее и быстрее реагируют на изменяющуюся ситуацию во взаимодействии с окружающими<br />
(Ех), естественнее и раскованнее проявляют свои чувства в разнообразных взаимоотношениях (Fr, S), способны быстрее<br />
устанавливать тесные эмоционально-насыщенные контакты с людьми (А, С).<br />
Исследуемые выборки отличаются не только формой обучения, но и возрастом (20 и 29 лет). Поэтому необходимо установить,<br />
с каким фактором связаны выявленные особенности. Для выяснения этого вопроса мы сравнили показатели по шкалам САТ<br />
респондентов очной (N = 205) и заочной (N = 50, М = 49,38; σ = 7,39) форм обучения одного возрастного периода – до 25 лет (см.<br />
рис. 2).<br />
Не все эмпирические данные соответствовали нормальной форме распределения, поэтому различия в показателях определялись<br />
с помощью критерия U Манна-Уитни. На рис. 2 выделены показатели только одной шкалы – Познавательных потребностей (Cog).<br />
Средние значения, отражающие самоактуализацию респондентов очной и заочной форм обучения, по всем шкалам не имеют<br />
различий, кроме одной (Cog). Показатели только этой шкалы имеют достоверные статистически значимые различия (р = ,035), и<br />
они свидетельствуют о том, что стремление к приобретению знаний выше у респондентов очной формы обучения. Однако, это не<br />
говорит о более низкой степени выраженности стремления к приобретению знаний респондентами заочной формы обучения, т.к.<br />
эмпирические значения этой шкалы (Cog) обеих форм обучения находятся в одной зоне (45÷54 Т-баллов) – среднестатистической.<br />
По нашему мнению, выявленное различие свидетельствует о том, что познавательный компонент в мотивах получения образования<br />
респондентами заочной формы обучения в большей степени сочетается с другими побуждениями (например, профессиональными,<br />
карьерными соображениями), чем у респондентов очной формы обучения.<br />
Рис. 2. Сравнительная диаграмма средних значений шкал САТ респондентов очной<br />
и заочной форм обучения одного возрастного периода.<br />
Correctional psychology<br />
159
Psychological sciences<br />
Таким образом, выявленные различия в показателях САТ респондентов очной и заочной форм обучения, отражающие<br />
особенности самоактуализации в общении и коммуникативной деятельности никак не связаны с формой обучения, а исключительно<br />
с возрастом. Это подтверждается нашим исследованием, где сравнивались респонденты одного возраста, но разной формы<br />
обучения (рис. 2).<br />
Выводы. 1. Выраженность самоактуализации не зависит от формы обучения.<br />
2. Респондентам заочной формы обучения свойственно целостное мироощущение, адекватное психологическое восприятие<br />
времени, что свидетельствует о более высокой личностной зрелости по отношению к респондентам очной формы обучения<br />
3. Респонденты очной формы обучения более активнее, мобильнее и эмоциональнее в процессе общения чем респонденты<br />
заочной формы обучения. Однако это связано не с формой обучения, а с возрастом.<br />
4. Респонденты заочной формы обучения мотивированы к образовательной деятельности не только познавательными<br />
потребностями, но и профессиональными, карьерными и т.п. целями.<br />
Литература:<br />
1. Алешина Ю.Е., Гозман Л.Я., Дубовская Е.М. Измерение уровня самоактуализации личности // Социально-психологические<br />
методы исследования супружеских отношений. Спецпрактикум по социальной психологии. М.: Изд-во<br />
Моск. ун-та, 1987., с. 91–114.<br />
2. Костерюк Г.С. Избранные психологические труды. М.: Педагогика, 1988. –304 с.<br />
3. Маркелов В.И. Об уровнях самоактуализации и необходимости их выделения // «Актуальные проблемы и современные<br />
тенденции развития психологии и педагогики»: сборник материалов XIV-ой Международной научно-практической конференции<br />
(Киев, Лондон, 24 ноября – 28 ноября 2011 года). Psychological and pedagogical sciences / All-Ukrainian Academic Union of specialists<br />
for professional assessment of scientific research and pedagogical activity; Organizing Committee: B. Zhitnigor (charman); Chief editor –<br />
Pavlov V.V. – Odessa: InPress, 2011. – 226 p. – С. 162-164.<br />
КОРРЕКЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ КАК НАПРАВЛЕНИЕ КОРРЕКЦИИ<br />
АСОЦИАЛЬНОСТИ ПОДРОСТКОВ<br />
Яковлева Н.В., канд. психол. наук, доцент<br />
Рязанский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова, Россия<br />
Участник конференции<br />
В статье представлен опыт исследования и коррекции асоциального поведения подростков. Приведены психодиагностические<br />
данные о личностных свойствах, особенностях социальной адаптации подростков, демонстрирующих асоциальное поведение.<br />
Показаны преимущества авторского тренинга ресоциализации, включающего коррекцию индивидуальных моделей здоровья.<br />
Ключевые слова: асоциальное поведение, ресоциализация, тренинг активного здоровьесбережения, мишени коррекции<br />
индивидуальных моделей здоровья.<br />
This article presents the experience of the study and correction of adolescentantisocial behavior. Given psychodiagnostic data on<br />
personal characteristics, features ofsocial adaptation of teenagers demonstrating antisocial behavior. The advantages of the author's resocialization<br />
training, including the correction of individual models of health.<br />
Keywords: antisocial behavior, re-socialization, training, active health-saving, the target correction of individual models of health.<br />
Correctional psychology<br />
В настоящее время большинство отечественных исследователей отмечают рост асоциальных проявлений, а также многообразие<br />
форм асоциального поведения современных подростков (Э.Г. Костяшкин, Д.И. Фельдштейн, Т.В. Писарёва, Н.И. Болдырев, А.И.<br />
Кочетов, Н.Ю. Максимова и др.) [1,4,9,12]. Асоциальное поведение, как пишет И.А. Епифанова, - это субъективно-индивидуальное<br />
или групповое, отклоняющееся от нравственных ценностей, общественных норм и правил, поведение, вследствие которого<br />
происходит закрепление опыта дезадаптации, десоциализации, деморализации личности [4].<br />
В качестве причин асоциального поведения в отечественной литературе исследователи чаще всего рассматривают средовые<br />
факторы: от биологических до социальных. Возникает закономерный вопрос: почему в одной и той же среде один склонен к<br />
асоциальному поведению, а другой нет? Ответ на данный вопрос лежит в области личностных особенностей и смысло-жизненных<br />
ориентаций подростков. Средовое неблагополучия является катализирующим условием развития асоциальности личности. На наш<br />
взгляд, работа психолога с асоциальными личностями может существенно оптимизировать процесс ресоциализации, проводимый<br />
социальными работниками, педагогами, юристами и врачами. Только психолог (еще лучше - клинический психолог, хорошо осведомленный<br />
не только в области психической нормы, но и патологии) может изучить психологические причины и механизмы<br />
ценностного выбора асоциального поведения, следовательно, сформировать оптимальную коррекционную программу ресоциализации<br />
конкретной личности.<br />
В нашем исследовании представлен опыт работы клинического психолога по ресоциализации «трудных» подростков. Работа<br />
проводилась на базе Центра психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям и подросткам г. Рязани в марте-мае<br />
2010 года. Было исследовано 57 подростков в возрасте от 12 до 15 лет (средний возраст 13,2 +0,8 года). Из них 42 человека (73,6%<br />
юноши). Первичное психодиагностическое обследование выявило достоверное отклонение (для r£ 0,05) исследуемой группы в<br />
сравнении с контрольной выборкой подростков данного возраста по следующим характеристикам:<br />
• вербальной агрессии (тест Басса-Дарки);<br />
• личностной тревожности (тест Спилбергера-Ханина (шкала STAI);<br />
• выраженности отдельных типов акцентуаций характера (гипертимической, циклотимической, демонстративной) (тест<br />
Смишека).<br />
Различные индивидуально-типические сочетания агрессивности, тревожности и отдельных форм акцентуаций характера<br />
достаточно часто упоминаются в литературе как наиболее характерные особенности подростков, склонных к асоциальным<br />
проявлениям, что подтверждает репрезентативность выборки нашего исследования [10].<br />
Для исследования уровня социальной дезадаптации «трудных» подростков использовалась шкала социально-психологической<br />
адаптивности Роджерса-Даймонда (шкала СПА в адаптации А.К. Осницкого) [13].<br />
160
Psychological sciences<br />
Были получены данные о достоверном отличии экспериментальной группы (для r£ 0,1) по следующим показателям дезадаптированности<br />
(рис. 1):<br />
• низкое самопринятие,<br />
• конфликт с окружением,<br />
• моциональный дискомфорт.<br />
В экспериментальной и контрольной выборке наблюдалось также различие по шкалам интернальность и ведомость. Однако,<br />
эти различия не достигали порога достоверных различий.<br />
Рис. 1 Сравнительная таблица показателей социальной адаптированности группы «трудных» подростков<br />
и контрольной возрастной группы<br />
Таким образом, подростки, составляющие экспериментальную группу «асоциальных», действительно отличались от контрольной<br />
группы не только по личностным особенностям («асоциальный» преморбид), но и по уровню и качеству социальной адаптации.<br />
• Основной практической задачей нашего исследования было создание программы ресоциализации. Трудность этой задачи<br />
состояла в том, что подростки данной группы сложно интегрируются в психокоррекционный процесс. Их представления о<br />
социальном поведении, базирующиеся на сложном, иногда жестоком, опыте выживания во враждебной среде, создают сложности<br />
как в установлении контакта с группой, так и в организации коррекционного воздействия. Традиционно используемые для<br />
ресоциализации тренинги общения и педагогические технологии моделирующих коммуникативных игр, на наш взгляд, имеют относительно<br />
невысокую эффективность для подростков с данным личностным профилем. Агрессивные, тревожные, зачастую<br />
неуверенные в себе юноши и девушки неоднозначно реагируют на жесткую нормативную заданность смоделированных в тренинге<br />
коммуникативных ситуаций. Как указывает в фундаментальном исследовании социализации подростков Т.В. Костяк, «невозможность<br />
соответствовать значимым критериям оценки взрослых …приводит к формированию эмоционально амбивалентного отношения<br />
детей не только к конкретным правилам, но и к общим культурным и нравственным ценностям мира взрослых» [7] .<br />
• Для создания эффективной стратегии психологической ресоциализации подростков, на наш взгляд, нужен более широкий<br />
контекст психокоррекционного воздействия. Наша точка зрения созвучна с мнением М.Н. Добруновой, которая указывает о<br />
необходимости направлять коррекционный процесс не столько на изменение сложившихся у подростка с девиантным поведением<br />
асоциальных установок, ценностей, мотивов и стереотипов поведения, сколько на формирование новых высокофункциональных<br />
поведенческих стратегий [3]. Именно такой высокофункциональной интегральной поведенческой стратегией мы считаем активное<br />
здоровьесбережение[16]. Здоровьесберегающее поведение личности базовый процесс в конструировании человеком социальной<br />
реальности. Здоровье воспринимается личностью как основной базовый ресурс жизни: «Я считаю себя здоровым, если я считаю,<br />
что мне хватит сил осуществить свои жизненные планы». Индивидуальное здоровье человек соотносит не только и не столько с<br />
текущей оценкой состояния, а со всем жизненным путем, с возможностями реализации жизненных сил и прогнозом успешности в<br />
социуме. Такое понятие здоровья хорошо вписывается в социально-психологический контекст исследований. Оно созвучно с<br />
базовыми понятиями социально-когнитивной теории самоэффективности Банудры, теории самодетерминации Деси и Райана,<br />
теории вынужденной беспомощности Селигмана, с современными работами по мотивации достижений [11,15]. Нам представляется,<br />
что опора ценность здоровья, на осознание необходимости усилий по его поддержанию может стать основой коррекции асоциального<br />
поведения человека, развить умения управлять собой. Возможно, связь асоциального поведения и неэффективного здоровьесбережения<br />
глубже. Так исследователи Кардиффского университета (Уэльс, Великобритания) доказали, что продолжительность жизни и<br />
уровень соматического здоровья лиц, демонстрирующих асоциальное поведение значительно ниже. По результатам наблюдения<br />
(1961-2011гг) за 411 жителями Южного Лондона было выяснено, что среди тех, кто в десятилетнем возрасте отличался асоциальным<br />
поведением, к 48 годам умер или стал нетрудоспособным каждый шестой 16,3% (исследователи рассматривали только соматические<br />
заболевания и причины нетрудоспособности). Среди мужчин, не создававших в детстве проблем окружающим, умирал или<br />
становился инвалидом лишь каждый сороковой (2,6%) [ 5].<br />
Согласно нашему теоретическому конструкту, тренинг здоровьесберегающего поведения основывается на следующих процессах<br />
личностной психодинамики.<br />
Во-первых, десоциализация. Процесс работы с телом, исследование функциональных возможностей своего организма снимает<br />
остроту проблемы жесткого самоутверждения, межличностных конфликтов в группе. Каждый участник тренинга работает со<br />
своим состоянием и формирует индивидуальные стратегии здоровьесбережения. Такой подход приводит к снижению конфликтности<br />
в группе. Асоциальные навыки самоутверждения теряют актуальность. Происходит «погружение в себя», что, зачастую, является<br />
новым опытом для подростков данной категории.<br />
Во-вторых, формирование осознанной стратегии управления собственным здоровьем посредством развития системы<br />
метакогнитивной регуляции поведения: процессов рефлексии, жизненного планирования, программирования, тактической<br />
реализации здоровьесберегающих действий, анализа и контроля достигнутых результатов. Управленческие навыки универсальны.<br />
Навыки жизненного планирования, рефлексии психического состояния, контроль поведения, сформировавшись в области здоровьесбережения,<br />
могут быть успешно использованы в социальных ситуациях.<br />
В- третьих, смыслообразование. Оценка уровня своего здоровья, как указывалось выше, – это оценка жизненных сил и<br />
161<br />
Correctional psychology
Psychological sciences<br />
возможностей. Работа со здоровьесбережением всегда актуализирует смысложизненные ориентации. Перед участниками тренинга<br />
активного здоровьесбережения встают вопросы: «Зачем мне нужно здоровье? Для чего мне быть здоровым?» Смыслообразование<br />
проходит «красной нитью» через все пространство тренинга: от мотивации участия в тренинговых занятиях до области целеполагания<br />
и планирования своей будущей жизни.<br />
Цель тренинга активного здоровьесбережения - коррекция индивидуальных моделей здоровья. В качестве методической<br />
основы для коррекционной работы может быть использованы социально-психологические модели здорового поведения: Модели<br />
представлений о здоровье (Нealth belief model) (Becker, Maiman, Sheeran , Abraham), модель защитной мотивации (Rogers), модель<br />
планируемого поведения ( Fieshbein, Ajzen 1975) [ 2,6].Мишени коррекции соответствуют отдельным уровням индивидуальных<br />
моделей здоровья:<br />
1) системообразующий уровень: интегрированность ценности здоровья в общую концепцию жизни;<br />
2) интрасистемный уровень: развитие социальных критериев здоровья;<br />
3) интерсистемный уровень: формирование эффективных стратегий здоровьесберегающего поведения;<br />
4) интегральный уровень: повышение самоэффективность в области здоровья.<br />
Обязательным компонентом тренинга ресоциализации был социально-психологический тренинг. Он проводился по стандартной<br />
схеме [14]. Схема эксперимента предполагала сравнение эффективности тренинга ресоциализации в двух группах (рис. 2).<br />
Тренинг<br />
активного<br />
здоровьесбережения<br />
Социальнопсихологический<br />
тренинг<br />
Социально-психологический тренинг<br />
Тренинг активного здоровьесбережения проводился в экспериментальной группе (30 человек из числа обследованных) как этап<br />
тренинга ресоциализации. В контрольной группе подростков (27 человек из числа первично обследованных) тренинг ресоциализации<br />
проводился в традиционном коммуникативном русле без опоры на активное здоровьесбережение. Исследование показало, что<br />
позитивная личностная динамика в экспериментальной группе была более ярко выражена. Психодиагностические показатели адаптированности<br />
(шкала СПА Роджерса-Даймонда) имели хорошую устойчивость в средне-дальной перспективе (ретестирование<br />
проводилось через 4 месяца) (рис 3).<br />
Correctional psychology<br />
Рис. 3. Динамика показателей адаптированности в экспериментальной и контрольной тренинговых группах.<br />
В экспериментальной группе наблюдалось тенденция к снижению выраженности «асоциального преморбида»: вербальной<br />
агрессивности, личностной тревожности, уровня выраженности демонстративной и циклотимической акцентуации по Смишеку. В<br />
контрольной группе данные психодиагностические показатели не имели однонаправленной динамики.<br />
Таким образом, эффективность более широкого социально-психологического контекста в психокоррекционной работе данного<br />
профиля подтвердилась. Коррекция индивидуальных моделей здоровья позволяет создать позитивное отношения к себе, как<br />
уникальной психосоматической целостности, сформировать базовые навыки метакогнитивной регуляции поведения, особую<br />
атмосферу «статусного равенства» и позитивного принятия в тренинговой группе.<br />
162
Psychological sciences<br />
Литература:<br />
1. Болдырев Н.И. Методика воспитательной работы в школе. - М., 1974.<br />
2. Гордеева, Т.О. Мотивация достижения: теории, исследования, проблемы Текст. / Т.О. Гордеева //Современная психология<br />
мотивации / Под. ред. Д.А. Леонтьева.- М., 2002. - С. 47-103.<br />
3. Добрунова М.Н. Коррекция девиантного поведения подростков в условиях оздоровительно-образовательных центров.-<br />
Автореферат дисс.кандидата педагогических наук.- Ярославль 2008.<br />
4. Епифанова И.А. Виды и формы дезадаптации подростков с отклоняющимся поведением // Воспитание школьников. - 2006. -<br />
N 1. - С. 23-25<br />
5. Исследование влияния асоциальности на эффективность здоровьесбережения http://medici.ru/news/4803.htm<br />
6. Климчук В.А. Тренинг внутренней мотивации.- М., 2006<br />
7. Костяк Т.В. Границы формирования индивидуального стиля социализации детей и подростков [Электронный ресурс] // Психологические<br />
исследования: электрон. науч. журн. 2009. N 6(8). URL: http://psystudy.ru<br />
8. Костяк Т.В. Границы формирования индивидуального стиля социализации детей и подростков [Электронный ресурс] // Психологические<br />
исследования: электрон. науч. журн. 2009. N 6(8).<br />
9. Кочетов А.И. Педагогическая диагностика в школе. - Минск, 1987<br />
10. Личко А.Е. Подростковая психиатрия. – Л.,1985.<br />
11. Майерс Д. Социальная психология.- М., 2005.<br />
12. Максимова Н. Ю. О склонности подростков к аддиктивному поведению // Психологический журнал.- т. 17.-<br />
№3, 1996.- С.23-27<br />
13. Осницкий А.К. Психологический анализ агрессивных проявлений учащихся. //Вопросы психологии.- 1994.- №3 - с. 61-68<br />
14. Петровская Л.А. Теоретические и методические проблемы социально-психологического тренинга. М., 1982.<br />
15. Хьюстон М., Штребе В. Введение в социальную психологию. Часть 5 Психология здоровья: социально-психологическая<br />
перспектива. С. 502-540. -М. 2004<br />
16. Яковлева Н.В. Метажизнедеятельность: опыт применения метасистемного подхода к анализу жизнедеятельности человека//<br />
Прикладная юридическая психология.-2011.-№2.-С.18-22.<br />
УДК 159.922 + [001.895:37](035.3)<br />
АКМЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ<br />
КУЛЬТУРЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ<br />
Долгова В.И., д-р психол. наук, проф<br />
Челябинский государственный педагогический университет, Россия<br />
Выявлена характеристика инновационной культуры; представленыкритерии, показатели и уровни её эффективногоразвития,раскрытасистема<br />
психолого-педагогических условий и факторов эффективного развития инновационной культурыруководителей.<br />
Ключевые слова: инновационная культура;критерии,показатели, уровни развития инновационной культуры, система психолого-педагогических<br />
условий развития инновационной культуры, факторы эффективного развития инновационной культуры руководителей.<br />
Reveals characterization and presents of the innovational culture, indexes and levels of its effective development, the system of psychological-pedagogical<br />
conditions and factors of effective development of the innovational culture of the educational system supervisors has been<br />
reveale.<br />
Keywords: innovational culture, the indexes of the development of the innovational culture, the system of psychological-pedagogical<br />
conditions of the innovational culture development, the factors of effective development of the innovational culture supervisors.<br />
В акмеологических исследованиях профессиональной деятельности факторы рассматриваются как содействующие<br />
или препятствующие достижению вершин профессионализма (Деркач А.А., Кузьмина Н.В); как объективная причина,<br />
обуславливающая самодвижение индивидуальности к вершинам профессиональной деятельности, т.е. к высоким показателям<br />
достижения (Кузьмина Н.В.).<br />
Существуют три вида факторов успешности профессиональной деятельности: объективные, связанные с реальнойсистемой и<br />
последовательностью действий, направленных на достижение искомого результата; субъективные, связанные с субъективными<br />
предпосылками меры успешности профессиональной деятельности - к ним относятся мотивы, направленность, способности,<br />
умелость, компетентность и др.; мера их проявления объясняет субъективные причины, содействующие росту профессионализма<br />
или препятствующие этому процессу; объективно-субъективные, связанные профессиональной среды, профессионализмом руководителей,<br />
качеством управления системой.<br />
Морфологический анализ системы условий и факторов развития инновационной культуры.<br />
1. Объективные условия и факторы: развертывание большого инновационного цикла в политической сфере (1 - цифра<br />
обозначает порядковый номер условия), существование большого инновационного цикла в экономической сфере (2), возникновение<br />
большого инновационного цикла в социальной сфере (3).<br />
2. Субъективные (психологические) условия и факторы, играющие роль защитного пояса инновационной культуры субъекта<br />
личности.<br />
2.1. Внутренние психологические факторы развития инновационной культуры (активность (4), направленность(5), индивидуально-типологические<br />
особенности (6), индивидуальный стиль деятельности (7), установка на инновационную деятельность(8), «Я<br />
– концепция личности» (9), ценностные ориентации и ценностные отношения (10), способность к творческой деятельности (11),<br />
инновационно-важные качества (12), профессионализм (13), готовность к риску (14)).<br />
2.2. Внешние психологические условия и факторы развития инновационной культуры – группы руководителей (направленность<br />
групповой деятельности на социально-значимые цели внедрения (15), групповой ценностный стандарт (16), совместимость членов<br />
группы (17), сплоченность членов группы (18), позитивные межличностные отношения (19), организованность (20), стимулирование<br />
творческой деятельности членов группы (21)).<br />
163<br />
Developmental psychology, acmeology
Psychological sciences<br />
Таблица 1. Показатели и критерии сформированности защитного пояса инновационной культуры<br />
личности руководителей школы<br />
Таблица 2. Показатели и критерии сформированности защитного пояса инновационной культуры<br />
группы руководителей школы<br />
Developmental psychology, acmeology<br />
2.2. Внутренние психологические условия и факторы развития инновационной культуры – коллектива руководителей<br />
(сотрудничество входящих в коллектив групп (22); создание благоприятного социально-психологического климата в коллективе<br />
(23); совершенствование управления (24); осуществление индивидуального и дифференцированного подхода (25); стимулирование<br />
164
групповой творческой деятельности (26).<br />
Psychological sciences<br />
Таблица 1. Показатели и критерии сформированности защитного пояса инновационной культуры<br />
коллектива руководителей школы<br />
3. Объективно-субъективные (психолого-педагогические) условия и факторы развития инновационной культуры.<br />
3.1. Научно-методические условия и факторы, являются одним из средств и условий решения задач (задача есть<br />
цель, данная в определенных условиях). Постановка целей (27) происходит в процессе изучения и анализа нормативных<br />
документов, в процессе проектирования выхода из противоречия между «сущным» и «должным».<br />
Содержание этой группы условий: наличие концепции (системы взглядов, общего замысла) нововведения (28);<br />
наличие концепции прогнозирования (29); наличие концепции системного подхода (30); наличие концепции предмета<br />
внедрения (31); анализ сложившегося опыта (выявление «западающих мест» и причин обнаруженных недостатков;<br />
выявление имеющихся инновационных тактик; создание перспективной модели внедрения (32); моделирование<br />
процесса внедрения (33).<br />
3.2. Учебно-материальные условия и факторы.Накопление и систематизация в учебной базе системы повышения<br />
квалификации: необходимой научно-методической литературы, что снимает затраты времени на ее поиск (34);<br />
обеспечение методическими рекомендациями, доведение их до слушателей (35); создание банка наглядности,<br />
повышение ее содержательной емкости за счет выделения смысловых опорных пунктов, семантической и пространственной<br />
группировки учебного материала, представления его в форме наглядного зрительного образа (наглядность продлевает<br />
длительность воздействия учебной информации) (36); создание банка информации о ходе внедрения инновационных<br />
технологий; о новаторстве (создании нового в определенных условиях с целью исследования), накопление материалов<br />
о совокупности необходимых для управления знаний и умений, заложенных в схемах, планах, программах (37).<br />
1. Организационнные условия и факторы: целевая направленность подготовки к внедрению (38); перспективность<br />
и плановость (39); взаимодействие всех средств учебной информации (40); организация пропаганды передового<br />
опыта (41); широкое вовлечение самих слушателей во все виды обратных связей (42) с теми, кто уже прошел базовое<br />
повышение квалификации, оно способствует созданию внутренних форм саморегуляции деятельности: чувства долга<br />
и ответственности.<br />
С целью выявления наиболее значимого влияния необходимых и достаточных условий на формирование и развитие<br />
инновационной культуры нами был проведен факторный анализ с последующим варимакс вращением, который<br />
привел к выделению семи факторов с общей информативностью 44,49 %.<br />
Первый фактор (F1 = 10,37 %) - «Я - концепция».<br />
Второй фактор ($2 = 8,26 %) - «Направленность »<br />
Третий фактор (F3 = 6,21 %) - «Способности».<br />
Четвертый фактор (F4 = 5,74 %) - «Ценностные отношения и ценностные ориентации».<br />
Пятый фактор (F5 = 5,17 %) - «Инновационно-важные качества».<br />
Шестой фактор (F6 = 4,67 %) - «Готовность к риску».<br />
Седьмой фактор (F7 = 4,07 %) - «Профессионализм ».<br />
Выявленные факторы составляют среду для успешного формирования и развития инновационной культуры как<br />
системы условий, инвариантных при некоторых преобразованиях. Системы, которая представляет собой совокупность<br />
всех условий 1-42, обеспечивающих её целостность, тождественность самой себе и сохранение основных свойств.<br />
Литература:<br />
1. Долгова В.И. Готовность к инновационной деятельности в образовании: монография/В.И.Долгова. – М.: КДУ, – 2009.<br />
2. Долгова В.И., Шумакова О.А. Психологические закономерности формирования инновационной культуры // Мир науки,<br />
культуры, образования. – №1 (13). – 2009. – с. 206-209.<br />
165<br />
Developmental psychology, acmeology
Psychological sciences<br />
КРИТЕРИИ ЭМПАТИЙНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ПЕРЦЕПТИВНЫХ ОЦЕНКАХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ<br />
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ<br />
Скляр Н.А., канд. психол. наук<br />
Богданова С.В., канд. пед. наук, доцент<br />
Петров А.А., канд. пед. наук<br />
Прянишникова О.А., канд. биол. наук, ст. преподаватель<br />
Великолукская государственная академия физической культуры и спорта, Россия<br />
Участники конференции,<br />
Национального первенства по научной аналитике,<br />
Открытого Европейско-Азиатского первенства по научной аналитике<br />
В работе рассмотрены критерии эмпатийного поведения в перцептивных оценках преподавателей в области физкультуры и<br />
спорта, такие как: перцептивно-ориентационная оценка эмпатийного поведения, ориентационно-педагогическая и предметнодеятельностная<br />
направленность формирования эмпатии, востребованность эмпатии в образовательной сфере.<br />
Ключевые слова: эмпатия, эмпатийное поведение, эмпатийные способности, перцепция.<br />
Criteria of empathic behavior in perceptive evaluations of educators in the field of physical culture and sports are presented in the article.<br />
These are perceptive-orientational evaluation of empathic behavior, orientationally-pedagogical and object-activity orientation of the<br />
empathy forming, demand for empathy in education.<br />
Keywords: empathy, empathic behavior, empathic abilities, perception.<br />
Developmental psychology, acmeology<br />
Изучение эмпатии в педагогике и психологии характеризуется определенной диспропорцией между небольшим количеством<br />
фундаментальных теоретических исследований и значительной разработкой отдельных сторон явления.<br />
Ряд работ посвящен исследованию эмпатии в структуре педагогических способностей (1, 2, 3, 7).<br />
Роль эмпатической способности в деятельности учителя физической культуры недооценивается. Однако в некоторых<br />
публикациях эмпатия рассматривается как необходимая составляющая педагогических способностей учителя физической культуры<br />
(4, 5, 6, 8).<br />
Эмпатия развивается в процессе взаимодействия с другими людьми. Педагог может сформировать у студентов только то, чем он<br />
обладает сам. Поэтому, формирование искомых способностей у студентов предполагает достаточный уровень сформированности<br />
их у преподавателей, обеспечивающих выработку соответствующих педагогических стратегий воздействия (10, 11).<br />
Низкий уровень базовых профессионально-эмпатийных качеств является одной из главных причин непродуктивной стандартизации<br />
поведения педагога, без эмпатии невозможно построить полноценную теорию воспитания, так как именно она помогает организовать<br />
процесс взаимодействия со студентом и создать необходимый эмоциональный фон общения. В состоянии эмпатии педагог чутко<br />
воспринимает психическое состояние молодого человека, его тончайшие смысловые и эмоциональные оттенки. Он как бы сам<br />
становится студентом и не со своей, а с его позиции, его чувствами и переживаниями оценивает занятие и себя, преподавателя.<br />
Чутко улавливает то, что иногда не осознает даже сам студент. Он умеет «забыть» на время о своем возрасте, специальности,<br />
жизненном опыте, чтобы войти во внутренний мир студента. Эмпатия педагога помогает избежать многих конфликтов. В этой<br />
связи нам необходимо было изучить критерии эмпатийного поведения в перцептивных оценках преподавателей высших учебных<br />
заведений физической культуры.<br />
В своем исследовании мы условно разделили преподавателей на две группы, так как считаем, что содержание деятельности откладывает<br />
отпечаток на процесс формирования эмпатии. Первую группу составили преподаватели кафедр спортивно-педагогических<br />
дисциплин, а вторую группу респонденты кафедр теоретического цикла.<br />
Большинство опрошенных первой и второй группы под термином «эмпатия» подразумевают сопереживание (86,3% и 83,3%).<br />
Понятие «эмпатия» связывают с чувственностью 13,7% преподавателей кафедр спортивно-педагогических дисциплин и 4,2%<br />
кафедр теоретического цикл, а 8,3% респондентов второй группы затрудняются ответить на этот вопрос и 4,2% утверждают, что<br />
эмпатия это самостоятельность.<br />
По мнению испытуемых, наиболее значимыми качествами для педагога являются: знание своего предмета (4,5% и 6,8%),<br />
умение преподавать, научить (4,3% и 6,9%) и организаторские способности (10% и 10,8%). «Актерские» качества учителя, по их<br />
мнению, имеют наименьший удельный вес в структуре представленных качеств гипотетически идеального педагога (16,4% и<br />
14,7%). Умение чувствовать настроение ученика респонденты поместили на шестое место (13,5% и 11,9%).<br />
Для развития эмпатии ничем не заменимое значение имеет психологический климат, царящий в семье, школе, вузе. Без<br />
внимания, заботы, уважения друг к другу матери и отца в семье, учителей и преподавателей не развивается эмпатия у детей.<br />
Степень и качество влияния многочисленных факторов на развитие в студентах сочувствия, сопереживания различна.<br />
Так преподаватели первой и второй группы считают, что положительное влияние в большой степени оказывает семья (95,8% и<br />
100%), и как считают респонденты кафедр теоретического цикла, еще и церковь (45,8%). В небольшой степени вуз (41,1% и 79,2%),<br />
школа (49,4% и 75%), друзья (40,7% и 41,7%), организации по интересам (42,1% и 50%) и, утверждают испытуемые кафедр<br />
теоретического цикла, радио (33,3%). Большая часть респондентов считает, что телевидение отрицательно влияет на развитие<br />
сочувствия (53,2% и 50%). По мнению преподавателей кафедр спортивно-педагогических дисциплин радио (49%) и периодическая<br />
печать (31,2%) не оказывают никакого влияния на развитие эмпатии, а большинство респондентов теоретического цикла считают,<br />
что периодическая печать все-таки оказывает в небольшой степени отрицательное воздействие (33,3%).<br />
Изучая востребованность и направленность формирования эмпатийного поведения, мы определили, что 69,4%<br />
преподавателей кафедр спортивно-педагогических дисциплин и 91,7% преподавателей кафедр теоретического цикла утверждают,<br />
что в какой-то мере учебно-воспитательный процесс в вузе сориентирован на развитие сочувствия, сопереживания к другим людям.<br />
Около половины опрошенных (56,3% и 54,2%) указывают, что некоторые темы, преподаваемых дисциплин, способствуют развитию<br />
эмпатии. Но 62,1% преподавателей кафедр спортивно-педагогических дисциплин и 70% преподавателей кафедр теоретического<br />
цикла задачи, по развитию эмпатических способностей, на занятиях не ставят, все, по их мнению, получается само собой и лишь<br />
20,6% и 12,5% педагогов на некоторых занятиях решают эту проблему.<br />
Сближению людей, их взаимопониманию способствуют добрые, чуткие, внимательные отношения между ними, проявления<br />
сопричастности проблемам ближнего, отзывчивость, сочувствие и сопереживание.<br />
Определяя специфику эмпатийных отношений педагогов со студентами, мы выявили, что большинство респондентов (82,7% и<br />
66,7%) почти всегда понимают своих студентов, а 8,3% испытуемых обеих групп понимают их всегда. Но среди преподавателей<br />
есть те, кто не понимает своих воспитанников.<br />
166
Psychological sciences<br />
Эмпатическое переживание может быть с любым знаком эмоционального состояния субъекта (положительным – радость, удовлетворение<br />
и отрицательным – печаль, неудовлетворенность). Вполне логично, что при переживании удовлетворенности, радости<br />
человек не так остро нуждается в эмоциональном или действенном отклике, хотя это также важно для него. Более существенной<br />
для человека является ситуация, когда он испытывает неблагополучие, и когнитивная эмпатия других людей, и тем более<br />
эмоциональная и поведенческая эмпатия, так или иначе помогают ему справиться с переживаемым неприятным чувством.<br />
Педагоги кафедр педагогических дисциплин (45.9%) считают, что чем больше педагог проявляет внимание к студентам, тем<br />
больше они «садятся» ему на шею, а 70,4% опрошенных кафедр спортивно-педагогических дисциплин так не считают.<br />
Таким образом, результаты исследования выявили, что содержание деятельности преподавателей оказывает влияние на<br />
формирование эмпатии. Так преподаватели спортивно-педагогических дисциплин чаще, по сравнению с педагогами кафедр<br />
теоретического цикла, ставят на занятиях задачи по развитию эмпатийных качеств у студентов и лучше понимают их. Это на наш<br />
взгляд связано с тем, что основной задачей тренера (педагога кафедр спортивно-педагогических дисциплин) является духовнофизическое<br />
совершенствование воспитанников и успешность его деятельности зависит от способности понимать своих учеников в<br />
целях дальнейшей коррекции их действий. Воспитанники всегда ждут от тренера правильного, поддерживающего их слова. Это их<br />
сближает, создает взаимопонимание, способствует улучшению отношения студентов к тренировкам, стремлению выполнить<br />
задание и сформировать необходимые двигательные умения и навыки.<br />
Основной же задачей теоретических занятий является усвоение определенной суммы знаний студентами, а итогом работы на<br />
занятии является оценка. Педагоги полагают, что, желая получить хорошую оценку, студент может прибегнуть к манипулированию<br />
и это заставляет преподавателей кафедр теоретических дисциплин соблюдать осторожность во взаимодействии со своими<br />
воспитанниками, проявлять недоверие к ним. Такая позиция, занимаемая педагогом, затрудняет достижение взаимопонимания со<br />
студентами.<br />
Проведенное исследование показало, что многие преподаватели не уделяют должного внимания развитию профессиональнопедагогической<br />
эмпатии и не считают эмпатию одним из наиболее важных качеств педагога. Однако они признают, что организация<br />
и проведение учебных занятий и других видов деятельности в вузе является одним из факторов, оказывающих положительное<br />
влияние на развитие внимательности к людям, сочувствия, сопереживания.<br />
Литература:<br />
1. Афанасьева, Н.В. Формирование готовности будущих учителей начальных классов к эмпатийному взаимодействию с<br />
учащимися: дис. … канд. пед. наук / Н.В. Афанасьева. - Казань, 2001. – 189 с.<br />
2. Ахрямкина, Т.А. Формирование эмпатии студентов в процессе обучения в педагогическом вузе: дис. … канд. психол. наук /<br />
Т.А. Ахрямкина.- Самара, 2003. – 178 с.<br />
3. Веденеева, Л.В. Становление эмпатии у будущих учителей в условиях гуманизации учебно-воспитательного процесса: дис.<br />
… канд. психол. наук / Л.В. Веденеева. – Волгоград, 2001. – 194 с.<br />
4. Волков, И.П. Спортивная акмеология: учебное пособие / И.П. Волков. – СПб., 2004. – 129 с.<br />
5. Ильин, Е.П. Психология спорта. Современные направления в психологии / Е.П. Ильин, Ю.Я. Киселев, В.К. Сафонов. – Л.,<br />
1989. – 312 с.<br />
6. Казакова, Т.Б. Структура профессионально-педагогической направленности личности тренера / Т.Б. Казакова, М.К. Павлова<br />
// Тезисы докладов ХI Всесоюзной научно-практической конференции психологов спорта.- Ч.1. – Минск, 1990. – С. 37-38.<br />
7. Мозговая, Н.А. Формирование педагогической установки учителя на эмпатию во взаимодействии с учащимися: дис. … канд.<br />
пед. наук / Н.А. Мозговая. - М.,1999. – 230 с.<br />
8. Основы педагогического мастерства учителя физической культуры / И.Н.Решетень [и др.] - Алма-Ата: РАУАН, 1990. – 64 с.<br />
9. Приставкина, М.В. Некоторые особенности личности успешно работающих тренеров по художественной гимнастике / М.В.<br />
Приставкина // Тезисы докладов ХI Всесоюзной научно-практической конференции психологов спорта.- Ч.1. – Минск, 1990. – С.<br />
58-60.<br />
10. Штейнмец, А.Э. Развитие эмпатии в подготовке учителя / А.Э. Штейнмец // Вопросы психологии. – 1983. - №2. – С.79-83.<br />
11. Юсупов, И.М. Психологические условия повышения эффективности обучения в педвузе / И.М. Юсупов // Межвузовский<br />
сборник научных трудов. - М.: МГПИ,1992. – 125 с.<br />
ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНТЕРНЕТ – ЗАВИСИМОСТИ<br />
И КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ<br />
Скляр Н.А., канд. психол. наук<br />
Богданова С.В., канд. пед. наук, доцент<br />
Петров А.А., канд. пед. наук<br />
Прянишникова О.А., канд. биол. наук, ст. преподаватель<br />
Великолукская государственная академия физической культуры и спорта, Россия<br />
Участники конференции,<br />
Национального первенства по научной аналитике<br />
В работе рассматривается работа в интернет сетях как фактор негативного развития на личность подростков, в<br />
частности его влияние на коммуникативную сферу развивающейся личности<br />
Ключевые слова: интернет зависимость, коммуникативные способности, коммуникативные умения<br />
Work within the Internet networks as a factor of negative development of teenagers’ personalities and it’s influence on the communicative<br />
sphere of the developing personality is described in the article.<br />
Keywords: internet-addiction, communicative abilities, communicative skills.<br />
В настоящее время темпы компьютеризации превышают темпы развития всех других отраслей. Без компьютеров и<br />
компьютерных сетей не обходится работа ни одной средней фирма, не говоря о крупных компаниях. Современный<br />
человек взаимодействует с компьютером постоянно: на работе, дома, в машине, в самолете. Компьютеры стремительно<br />
внедряются в человеческую жизнь, занимая свое место в сознании, а человек зачастую не осознает того, что начинает<br />
во многом зависеть от их работоспособности (2, 5).<br />
167<br />
Developmental psychology, acmeology
Psychological sciences<br />
Developmental psychology, acmeology<br />
С совершенствованием компьютеров совершенствуются и сети интернета, привлекая все больше и больше людей. С каждым<br />
новым витком в области компьютерных технологий растет количество людей, которых называют «компьютерными фанатами».<br />
Основной деятельностью этих людей является нахождение в виртуальном мире. Круг социальных контактов у них очень узок, вся<br />
другая деятельность направлена лишь на выживание, на удовлетворение физиологических потребностей, а главное - на удовлетворение<br />
потребности в интернете (1, 3).<br />
Подростковый возраст – это один из самых трудных и сложных из всех детских возрастов, представляющий собой период<br />
становления личности. Переход к нему характеризуется глубокими изменениями условий, влияющих на личностное развитие<br />
ребенка. Они касаются физиологии организма, отношений, складывающихся у подростков с взрослыми людьми и сверстниками,<br />
уровня развития познавательных процессов, интеллекта и способностей.<br />
Коммуникативная сфера подростка является сферой повышенной активности в данный период развития и характеризуется проявлением<br />
себя как личности и самореализацией в общении с окружающими людьми. В подростковом возрасте стабилизируются<br />
черты характера и основные формы межличностного поведения (4, 6).<br />
По мнению ряда авторов на проявление коммуникативных способностей в подростковом возрасте влияют<br />
множество факторов, но особое положение среди них занимают увлечения, которые появляются в данный возрастной<br />
период. Компьютерные и интернет-технологии в частности, могут крайне негативно сказаться на коммуникативной<br />
сфере, особенно, если существует зависимость от них (7, 8).<br />
Интернет-зависимость – это психологическая зависимость человека от интернет-ресурсов, которая влияет на его физическое и<br />
психическое здоровье.<br />
В ходе проведённого исследования, в котором приняло участие 105 человек в возрасте 14-17 лет, было изучено влияние интернет-зависимости<br />
на проявление коммуникативных способностей подростков.<br />
В соответствии с задачами нашего эксперимента, прежде всего, необходимо было выявить наличие или отсутствие интернет-зависимости<br />
в подростковой группе и определить уровень сформированности данной зависимости.<br />
Результаты исследования показали, что из общего количества диагностируемых подростков 47 человек (45%) имеют различный<br />
уровень проявления интернет-зависимости. У большинства из них уровень интернет-зависимости выше среднего (43%). Этот<br />
показатель свидетельствует о том, что количество часов, проводимых учащимися в сети интернет довольно высоко (в среднем до 5-<br />
7 часов). Причиной данной зависимости, в первую очередь, является рост популярности социальных сетей и количества их<br />
пользователей. Одинаковое количество подростков имеют высокий и низкий уровень зависимости (15%), средний уровень<br />
зависимости выявлен у 27% исследуемых.<br />
В дальнейшей работе респонденты были разделены на 2 условные группы. В I группу вошли подростки с низким<br />
и среднем уровнем зависимости, а II группу составили лица, имеющие высокий и выше среднего уровень. В ходе исследования<br />
определяли уровень коммуникативных способностей. Так в I первой группе подростков диагностирован<br />
средний уровень у 45% и у 55% высокий уровни коммуникативных склонностей. Во II группе преобладает высокий<br />
(60%) и низкий (32%), а также присутствует очень низкий уровень коммуникативных склонностей (8%), средний<br />
уровень не выявлен.<br />
Для всех изучаемых групп характерно отсутствие подростков с высшим уровнем, что может быть обусловлено как<br />
причинами длительного нахождения в интернете многих респондентов, так и другими факторами. Наличие среднего<br />
уровня наблюдается в обеих группах. Для лиц со средним уровнем коммуникативных склонностей характерно<br />
стремление к общению, к контактам с людьми, но их потенциал не высок, и необходима воспитательная работа по выработке<br />
и дальнейшему формированию этих качеств.<br />
Во II группе наблюдается наличие подростков с «низким» и «очень низким» уровнями коммуникативных способностей, это характеризуется<br />
тем, что они не стремятся к общению, предпочитают проводить время наедине, а в коллективе чувствуют себя<br />
скованными.<br />
В целом результаты исследования коммуникативных способностей показывают явную зависимость их от степени увлечения<br />
интернетом.<br />
Для подтверждения гипотезы был проведен «Тест оценки коммуникативных умений». Уровень коммуникативных умений,<br />
изучаемый нами, включает в себя 2 критерия: оценку самого себя, как собеседника и умение слушать собеседника.<br />
Анализ данных первого варианта теста показал, что в 2-х группах исследуемых преобладает процент, для которых присущи<br />
недостатки в общении, I группа – 75%, вторая II – 82%. Для данной группы лиц характерно критическое отношение к высказываниям,<br />
возможность поспешных выводов, заострение внимания на своей манере речи. Наибольший процент респондентов, которые характеризуют<br />
себя как «хорошего собеседника» наблюдается в I группе - 25%, а во II группе их всего 6%. Для II группы характерно<br />
наличие респондентов «плохой собеседник» (12%). Для таких подростков необходима работа над собой. Ни в одной из групп не<br />
было выявлено уровня отличных собеседников.<br />
Второй вариант данного теста выявляет уровень умения слушать. Во II группе имеется значительный процент<br />
респондентов, которых можно охарактеризовать как слушатель «ниже среднего уровня» (44%). В I группе данный тип<br />
слушателя встречается лишь в 16% случаев. Для такого типа партнера по общению характерна навязчивость, они<br />
постоянно перебивают собеседника, поправляют его. Средний уровень данного коммуникативного умения выявлен во<br />
всех двух группах и четкой зависимости от уровня интернет-зависимости не наблюдается. Слушатели «выше среднего<br />
уровня» преобладают в I группе (44% респондентов). Возможно, это связано, в первую очередь с характером<br />
деятельности человека, находящегося в интернете, которая иногда сопровождается вербальной речью.<br />
Проведенный эксперимент, подтверждает явное влияние интернет-зависимости на степень проявления коммуникативных<br />
склонностей, коммуникативных умений. У большинства подростков с более низким уровнем интернет-зависимости выявлены<br />
наиболее высокие показатели по проведенным методикам, они обладают достаточными навыками общения, и умеют слушать.<br />
Достоверность полученных нами данных проверялась с помощью компьютерной программы SPSS версии 12.0 t-<br />
критерия Стьюдента для независимых выборок. Достоверные различия между группами были выявлены при изучении<br />
коммуникативных склонностей (t = 3,791, p≤0,05) и в оценке себя как собеседника (t = -1,890, p≤0,05). При<br />
исследовании умения слушать, достоверных различий выявлено не было (t = -0,877, p ≥0,05). Это можно объяснить<br />
тем, что подростки, проводящие значительное время в сети интернет, не имеют достаточного количества непосредственных<br />
социальных контактов и не имеют возможности развивать свои коммуникативные способности по сравнению со<br />
своими сверстниками, не предающим интернету столь большого значения.<br />
Таким образом, можно сделать следующий вывод, что влияние интернет-зависимости довольно высокое, респонденты,<br />
проводящие большое количество времени в сети интернет не могут на долгое время отказаться от него. В большинстве случаев интернет-зависимые<br />
не имеют достаточных навыков общения и не умеют выслушать, что снижает ощущение взаимопонимания и эффективность<br />
любого общения.<br />
168
Psychological sciences<br />
Литература:<br />
1. Войскунский, А.Е. Актуальные проблемы зависимости от интернета /А.Е. Войскунский // Психологический журнал.- 2004. -<br />
Т. 25, № 1.- С. 90-100.<br />
2. Джолдыгулов, Г.А. К вопросу о механизмах формирования чрезмерной увлеченности компьютерными играми / Г.А.<br />
Джолдыгулов, Р.М. Гусманов, Ю.С. Шевченко // Дискуссионные вопросы наркологии: профилактика, лечение и реабилитация: мат.<br />
Российской научно-практич. конференции / под общ. ред. проф. А.В. Худякова. - Иваново, 2005.- С. 111-112.<br />
3. Егоров, А.Ю. Нехимические (поведенческие) аддикции / А.Ю. Егоров // Аддиктология.- 2005.- № 1.- С. 65-77.<br />
4. Крайг, Г. Психология развития / Г. Крайг. – СПб., 2000.- 309 с.<br />
5. Митина, О.В. Программная среда ЛОГО глазами психолога / О.В. Митина // Информатика и образование.- 2005.<br />
- № 5.- С. 50-53.<br />
6. Мякушев, В.Н. Психология отношений / В.Н. Мякушев.- М.; Воронеж, 2007.- 361 с.<br />
7. Семенов, С.А. Самопрезентация в виртуальной коммуникации - особенности идентичности подростков-пользователей<br />
Интернета / С.А. Семенов // Образование и информационная культура: социологические аспекты. Труды по социологии образования.-<br />
/ под редакцией В.С. Собкина.- Том 5. - М.: Центр социологии образования РАО, 2000.- С. 92-93.<br />
8. Харитонов, А.Н. Опосредстование и переопосредствование общения людей компьютерными системами телекоммуникации /<br />
А.Н. Харитонов // Теоретические и экспериментальные проблемы психологии в современных условиях.- М., 2000.- С. 124-125.<br />
УДК 330.342:338.24:378<br />
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА СОСТОЯНИЙ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДОМИНАНТ<br />
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ<br />
Черняк В.И., канд. техн. наук, доцент<br />
Национальный горный университет, Украина<br />
Участник конференции,<br />
Национального первенства по научной аналитике,<br />
Открытого Европейско-Азиатского первенства по научной аналитике<br />
В статье рассматриваются теоретические основы и порядок построения пространства состояний индивидуума для анализа<br />
его поведенческих характеристик. Приведены результаты их реализации на примере данных психологического тестирования<br />
студентов экономических специальностей ВУЗа.<br />
Ключевые слова: пространство состояний, механизм самоорганизации, доминанты поведения, тестирование<br />
In the article theoretical basis and the method of building up an individual state space for analyzing behavior characteristics are<br />
investigated. The results are shown of their implementation within the example of the data of psychological tests of the economic courses<br />
students of university.<br />
Keywords: the state space, self-organization mechanism, dominants of behavior, testing<br />
В процессе эволюции по отношению к определенным внешним импульсам у человека появились «наработанные» алгоритмы<br />
поведения. В мышлении их реализация происходит по следующей логической цепочке: импульс извне - прием в формате<br />
однозначной (единичной) Логики (Я Верю) - передача в формат двузначной (двоичной) логики - формирование образа в<br />
многозначной Логике - свертывание образа в формат двузначной Логики - принятие решения в формате однозначной Логики (Я<br />
Уверен) - передача импульса наружу (действие по принятому решению).<br />
Но такова упрощенная, линейная схема. Реальное, функциональное взаимодействие естественно более разветвлено, за счет<br />
наличия между отдельными звеньями обратных связей и протекает в режиме «задействования» как отдельных органов человека,<br />
так и их совокупностей (физиологических систем или по П.К. Анохину – функциональных ансамблей [1]). Причем одни и те же<br />
органы могут быть задействованы на разных стадиях мышления. Поэтому целесообразно логическую цепочку процесса мышления,<br />
преобразовать в функциональную, введя понятия соответствующих механизмов:<br />
1. Механизм восприятия (импульс извне + однозначная Логика) - это взаимодействие на уровне системы ощущений,<br />
периферийной и центральной нервной системы. Фактически здесь происходит Идеализация того объективного (звука, прикосновения<br />
и т.п.), что мы восприняли. Переход от однозначной Логики к двузначной - это кодировка энергетического импульса в информационный<br />
двоичной системы кодирования.<br />
2. Механизм Трансформации (интеллектуальная работа в рамках всех видов Логики), это собственно то, что мы часто имеем в<br />
виду под собственно мышлением, - раздельная и общая работа полушарий мозга. Здесь мы преобразуем Идеализированное<br />
объективное, в субъективное и оперируем им. Переход к многозначной Логике - это перекодирование информации из формата<br />
двоичного кода в формат троичного и выше.<br />
3. Механизм представления (принятие решения + действие) - работа лобных долей мозга с отдачей команды нервной системе.<br />
Субъективное, через фазу обратной Идеализации, переводится в объективное, информационный импульс двоичного кода<br />
декодируется в энергетический (нервный) импульс.<br />
«Результатом» работы этих механизмов и является поведение индивидуума. Наличие множества внутренних и внешних<br />
факторов, которые могут оказывать влияние на проявление тех или иных поведенческих качеств делает практически сложным<br />
представить этот «результат» каким-либо одним, или даже группой (комплексом) показателей. Кроме того, следует учитывать, что<br />
один и тот же человек, может проявлять себя по разному - в «режимах» индивидуального, группового и массового поведения (сознания).<br />
На основе ранее полученных и представленных выводов [2, 3] для анализа особенностей индивидуального поведения<br />
предлагается сформировать пространство состояний «развивающейся части» индивидуума, которое представляет собой матрицу<br />
3х3 размещенную в двухмерной (декартовой) системе координат (рис. 1).<br />
Горизонтальная ось ее отображает проекцию каждого единичного импульса, полученного индивидуумом извне и соответствующую<br />
его реакцию.<br />
Так, например, если аффективные качества индивидуума выразить характеристикой «темперамент», то логическая<br />
169<br />
Developmental psychology, acmeology
Psychological sciences<br />
последовательность восприятия внешнего импульса, его трансформация и выдача соответствующей реакции имеет вид: «холерик –<br />
меланхолик – флегматик - сангвиник». Холерик, в силу широты своего энергетического диапазона, обеспечивает «вылавливание»<br />
внешних импульсов. Меланхолик снижает их интенсивность для «удобства» логической обработки флегматиком. Ну а сангвиник<br />
«принимает решение» о соответствующей реакции на принятый импульс.<br />
Вертикальная шкала представляет собой проекцию «накопленных» поведенческих особенностей индивидуума<br />
(житейский опыт).<br />
Рис. 1 – Пространство состояний индивидуума<br />
Для отображения единичных или комплексных проявлений той или иной доминанты в поведении индивидуума, используются<br />
понятия, приведенные в таблице 1. (С характеристиками «новых» терминов можно познакомиться в уже указанных работах [2, 3]).<br />
Таблица 1 – Компоненты, оказывающие влияние на формирование доминант индивидуального поведения<br />
Для примера анализа, приводятся данные психологического тестирования студентов.<br />
В процессе тестирования приняло участие 208 студентов экономических специальностей Национального горного университета,<br />
в том числе: основной («нормативный») статистический массив составили результаты студентов 2-го курса (177 анкет). В качестве<br />
сравнительных были взяты группы 1-го (12 анкет) и 5-го (19 анкет) курсов. Результаты тестирования представлены в табл. 2.<br />
Таблица 2 – Результаты тестирования студентов-экономистов НГУ (горизонтальная шкала «импульса-реакции»)<br />
Open specialized section<br />
170
Psychological sciences<br />
В процессе тестирования использовались популярные тесты на определение типа темперамента, активности полушарий<br />
головного мозга, самооценки волевых качеств и склонности к риску, возрастной структуры личности, взятые из источников [4, 5]<br />
При обработке результатов учитывались рекомендации специалистов Санкт-Петербургского (Ленинградского) университета [6].<br />
Безусловно, что это существенно упрощенная версия набора характеристик для построения пространства состояний. Набор<br />
качеств, в принципе, не ограничивается. Единственное ограничение – вертикальная шкала должна иметь «зрелостно-возрастную»<br />
основу. Как пример, предлагается использовать результаты обработки теста «Ребенок, взрослый, родитель» (табл. 3).<br />
Таблица 3 – Данные для вертикальной «шкалы жизненного опыта»<br />
Такого типа пространства состояний могут формироваться по любым классификационно-возрастным признакам – в рамках<br />
различных социальных групп. Например, по данным имеющегося массива можно было провести дифференциацию по специализациям<br />
(менеджеры, финансисты, маркетологи, экономкибернетики) либо по годам (2-й курс 2011 года, 2-й курс 2012 года) и т.д.<br />
Что в данном пространстве состояний означает «проявление того или иного поведенческого психотипа?<br />
Например, психотипу «игроман» соответствует вертикаль повышенной активности механизма восприятия: холерик – правополушарный<br />
- с низким самоконтролем и высокой склонностью к риску. Если, любому индивидууму «создать» условия высокого<br />
уровня эмоциональной напряженности (холерик), загруженности правополушарной (абстрактно-творческого плана) работой и<br />
жесткой зависимости от «внешнего» (например, «сделать должником»), то в такой ситуации он погружается в состояние<br />
«игромании». Другое дело – устойчивость конкретного индивидуума к такой обстановке. Сангвиник, например, достаточно легко<br />
(при прочих сопутствующих условиях) может покинуть эту область поведения, флегматику – уже труднее, меланхолику – еще<br />
тяжелее. Ну, а для холерика – это «родная стихия».<br />
Но не надо искать в приведенных названиях только «негатив». Например, работа брокера в момент биржевых торгов, требует<br />
171<br />
Open specialized section
Psychological sciences<br />
естественного погружения – в атмосферу психотипа «игроман». И умение его самоконтролируемо поддерживать себя в этом<br />
состоянии, способно обеспечивать высокую эффективность работы. Аналогично, для каждого психотипа, существуют сферы<br />
эффективного использования его особенностей.<br />
В силу ограниченности объема публикации, эти варианты, а также «экстремальные случаи» отдельных студентов, которые свидетельствуют<br />
о склонности к проявлению того или иного поведенческого психотипа, здесь не рассматривались.<br />
Сформулируем лишь несколько обобщающих выводов из результатов тестирования, которые имеют характер скорее «гипотезы»,<br />
поскольку более детальных исследований для их подтверждения не проводилось:<br />
- Те, кто имеет одну выраженную эмоциональную доминанту приходят в университет «художниками» (А=0,821), а к 5-му курсу<br />
«превращаются в логиков» (А=1,167).<br />
- В 70% случаев наличия парной доминанты присутствует Сангвиник. Возможно, что при нехватке («вынужденном<br />
ограничении») внешних контактов Сангвиник находит «партнера» внутри себя. При этом, чаще всего он «дружит» со своим<br />
Флегматиком (43%), реже с Меланхоликом и почти никогда – с Холериком.<br />
- Флегматики «уходят из детства» раньше других.<br />
- У студентов, которые имеют один (в редких случаях два) «приглушенных» типа темперамента, в 55% случаев это холерическая<br />
составляющая. И соответственно сангвиники и меланхолики практически «не задавливаются».<br />
На данный момент автором не ставилась задача детальной работы с характеристиками индивидуального поведения. Целью<br />
являлось формирование методической основы для перехода к исследованию характеристик группового поведения (количество одновременных<br />
взаимосвязей индивидуума превышает 7 +/- 2). В этом случае он (индивидуум), даже при отсутствии внешних<br />
иерархических отношений с окружающими, склонен выстраивать свою «внутреннюю иерархию», в результате чего взаимосвязи<br />
типа «взаимодействие» преобразуются во взаимосвязи типа «взаимоотношения».<br />
Литература:<br />
1. Анохин П.К. Принципиальные вопросы общей теории функциональных систем // Принципы системной организации<br />
функций. – Москва: Наука, 1973. – С. 5-61.<br />
2. Черняк В.И. Механизмы формирования доминирующих моделей поведения личности в теории управления гармоническим<br />
развитием социально-экономических систем [Електронний ресурс] // Материалы VII международной научно-практической<br />
конференции «Современные проблемы развития человеческого общества», 21-28 июля 2011, гг. Лондон, Одесса. – Режим доступа:<br />
http://www.icp-ua.com/ru/node/702<br />
3. Черняк В.И. Формирование «системы» для сопоставления морально-этических и материальных критериев развития<br />
[Електронний ресурс] // Материалы ХVII международной научно-практической конференции «Система ценностей современного<br />
общества», 19-23 января 2012, гг. Лондон. – Режим доступа: http:// http://gisap.eu/ru/node/4240<br />
4. Жариков Е.С., Крушельницкий А.Л. Для тебя и о тебе. Учеб. издание. – М.: Просвещение, 1991. – 226 с.<br />
5. Щекин Г.В. Практическая психология менеджмента: Науч. практ. пособие. – К.: Украина, 1994. – 399 с.<br />
6. Практикум по экспериментальной и прикладной психологии: Учеб. пособие / Вансовская Л.И., Гайда В.К., Горбачевский В.К.<br />
и др.; Под ред. А.А. Крылова. – Л.: Издательство Ленинградского университета, 1990. – 272 с.<br />
General psychology, psychology of person, history of psychology<br />
КОММУНИКАТИВНЫЕ РОЛИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН В ПРОЦЕССЕ ОБЩЕНИЯ<br />
Грошев И.В., д-р эконом. наук, д-р психол. наук, проф., заслуж. деятель науки РФ, проректор по социальной работе<br />
и молодёжной политике<br />
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина<br />
Участник конференции,<br />
Национального первенства по научной аналитике,<br />
Открытого Европейско-Азиатского первенства по научной аналитике<br />
В статье рассматривается проблема общения через призму половозрастных и гендерных особенностей. Приводятся<br />
результаты многих исследований, подтверждающих наличие факта перебивания в процессе общения, в том числе детерминированных<br />
половой принадлежностью коммуникантов. Отмечается влияние на частоту перебивания возраста, а также степени<br />
фемининности и маскулинности. Делается вывод о перспективности исследований данного направления процесса общения.<br />
Ключевые слова: речевое поведение, перебивание, доминирование, мужчина, женщина, частота.<br />
The article deals with communication problem through the prism of age specific, sex and gender peculiarities. The results of much<br />
research are given, which prove the fact of interlocutor's interrupting in the process of communication, including those determined by<br />
communicants' sex. The fact of age influencing on interrupting frequency, as well as feminine and masculine degree is noted. The conclusion<br />
is drawn about perceptiveness of the research of this area of communication process.<br />
Keywords: speech behaviour, interrupting, dominance, man, woman, frequency.<br />
Люди обнаруживают склонность к различным тактикам включения в разговор, лежащим в основе речевого взаимодействия в<br />
общении и регулирующим его. Различие способов, как указывает Т.Н. Ушакова [11], основывается не столько на личных<br />
склон¬ностях человека, сколько на его роли в данной ситуации, его статусе, в том чис¬ле и половой/гендерной принадлежности.<br />
Однако мало кто может признать свою гендерно-психологическую «необразо-ванность», обнаруживающуюся при вступлении в<br />
коммуникативный контакт с человеком даже своего пола, не говоря уже о человеке противоположного пола. При этом каждый<br />
человек имеет свой стиль общения, который зависит от многих факторов: воспитания, образования, возраста, общественного<br />
положения, а также пола/гендера.<br />
Процесс общения, характерной особенностью которого является диалогический принцип построения [1], всегда предполагает<br />
распределение инициативы между партнерами (иногда обстоятельства вынуждают одного из них бороться за инициативу в коммуникативном<br />
процессе). Это означает, что собеседники попеременно выполняют функцию и говорящего, и слушающего. Иными<br />
словами, процесс речевого общения характеризуется частой сменой ролей говорящий/слушающий. Среди сигналов смены ролей<br />
выделяют вербальные, паравербальные (темпоральные, мелодические акценты) и невербальные действия (средства кинесики и<br />
проксемики) [10]. Механизм смены (мены) коммуникативных ролей, как указывают некоторые исследователи, является важнейшим<br />
172
Psychological sciences<br />
механизмом в процессе речевого общения [1; 10]. Таким образом, основой смены коммуникативных ролей является попеременное<br />
включение в процесс общения обоих коммуникантов, т.е. каждый выполняет функцию и говорящего, и адресата попеременно.<br />
Идеальной схемой смены ролей является именно поочередное включение в разговор, т.е. в то время как один коммуникант говорит,<br />
другой должен находиться в состоянии слушания. Однако, как отмечают некоторые исследователи [22; 23], данная схема практически<br />
никогда не реализуется. В результате чего можно наблюдать явление перебивания собеседника. В связи с этим, говоря о процессе<br />
общения, по-нашему мнению, необходимо учитывать существование такого явления как перебивание. Прерывание собеседника<br />
можно наблюдать в повседневной жизни: в общении начальника с подчиненным, врача с пациентом, родителя с ребенком,<br />
женщины с мужчиной и в других ситуациях.<br />
Е.В. Пищикова [9] выделяет два вида доминирования в общении: а) содержательное доминирование; б) формальное<br />
доминирование. Содержательное доминирование характеризу-ется манипулированием содержания высказываний, прозвучавших в<br />
ходе интеракции; основы-вается на взаимодействии «своего» и «чужого», что стимулирует образование экспрессивных и оценочных<br />
коннотаций, развитие диалогической тактики. Формальное доминирование устанавливается с помощью контроля над параметром<br />
говорения, т.е. чем длиннее высказывание, тем дольше говорящий удерживает инициативу говорения и доминирует над интеракцией.<br />
Следовательно, можно заключить, что явление перебивания собеседника, в данном случае, является одним из тактических ходов<br />
формального доминирования.<br />
Тот факт, что один человек перебил другого, можно объяснить случайностью, однако многие исследования процесса общения<br />
[16; 17] определяют такие нарушения как попытки взять верх над собеседником и навязать свою точку зрения. Именно последнее<br />
лежит в основе определения нарушения по S.O. Murray [19] и D. Tannen [21], которые относят также к нарушениям окончание<br />
разговора первым, неожиданное перебивание собеседника, утверждение чего-либо в разговоре, когда уместнее было бы задать<br />
вопрос, уточнить и т. д. По их мнению, навязывание своей точки зрения человеку, невысказывавшему свое отношение к предмету<br />
разговора, может отличаться не только по форме, но и степени интенсивности воздействия на ход диалога. С нашей точки зрения,<br />
перебивание может выражаться и в излишней активности (агрессивности) включения в разговор, необоснованности захвата<br />
«канала говорения» (по Т.Н. Ушаковой). Еще одной довольно распространенной формой перебивания мы считаем подсказывание<br />
говорящему партнеру своей версии продолжения развиваемой им мысли, причем, не дослушав последнего до конца. Эта форма перебивания<br />
и включения в разговор неприятна по разным основаниям: ча¬сто, не попадая в цель, подсказка нарушает течение мысли<br />
говорящего, требует оп-ровержения и т.д. Это становится особенно очевидным, если вспомнить о том, какую важную роль в<br />
общении людей играет реактивная речь.<br />
Как один из показателей, характеризующих организацию диалога, явление перебивания собеседника изучалось Н.Д. Павловой<br />
[8], которая разработала трехшаговую методику анализа диалогов, представленную на рисунке 1.<br />
Данная методика определяет частоту различных вариантов реплик, число переключений говорящий/слушающий, а также<br />
количество перебиваний. Подобный анализ, как отмечает Н.Д. Павлова, позволяет выявить своеобразие диалогов, а также<br />
индивидуальные паттерны активности участников [8].<br />
Считается, что перебивание (прерывание) одного человека другим − явление редкостное в разговоре воспитанных, культурных<br />
и цивилизованных людей, но исследования, проведенные H. Sacks, E.A. Schegloff, G. Jefferson [20], показали, что перебивания<br />
встречаются достаточно<br />
Рис. 1. Трехшаговая методика анализа организации диалога<br />
часто и не всегда поровну распределены между собеседниками. В частности, авторитарность в вербальном плане проявляется<br />
в стремлении говорить громко, большую часть времени, перебивать собеседника. Чтобы перехватить инициативу, необходимо, по<br />
мнению П.М. Ершова [4], предъявить повышенные требования к громкости голоса, построению фразы и т. д. Кроме того,<br />
существенным в данном случае представляется также предположение о том, что в любой коммуникативно-диалогичной системе<br />
язык, языковые средства и коммуникативные технологии выступают как своеобразный «инструмент» власти. Выбор отправителем<br />
сообщения того или иного слова, например, из ряда синонимов, использование какой-либо грамматической формы, предпочтение<br />
определенной коммуникативной системы понятий, в которой осуществляется обсуждение темы, – все это оказывает структурирующее<br />
воздействие на восприятие получателя, делая отправителя ведущим (лидером), а реципиента – ведомым. Следовательно, то, как<br />
часто человек перебивает собеседника, не только влияет на оценку поведения этого человека, но и подтверждает или, наоборот,<br />
про¬тиворечит его социальному положению.<br />
В многочисленных исследованиях [14; 16] был выявлен тот факт, что пол человека влияет на то, как часто он перебивает своего<br />
собеседника. Так, например, F.N. Willis, S.J. Williams [24] показали, что слушающие более склонны к одновременному разговору,<br />
когда говорит женщина, причем в очень значительной степени это оказалось свойственно мужчинам. Слушающие женщины<br />
предпочитали демонстрировать согласие с говорившими мужчинами. Представите¬ли обоих полов чаще демонстрировали<br />
несогласие с говорившими женщинами. Исходя из этого, авторы пришли к выводу о возможности использования полового<br />
признака, как показателя доминирования в диадно-гендерном вербально-коммуникативном общении. R.A. Bell [13] выявил, что<br />
нарушения разговорных норм случается чаще, когда люди стремятся самоутвердиться, независимо от половой принадлежности<br />
или желания унизить собеседника. M. LaFrance, B. Carmen [18] считают, что люди, обла¬дающие качествами, противоположными<br />
General psychology, psychology of person, history of psychology<br />
173
Psychological sciences<br />
тем, которые имеются у их собеседников, перебивают последних чаще. Так, например, мужчины чаще прерывают партнера по<br />
деловым переговорам, а подчиненные чаще используют позитивное прерывание партнера, чем начальники [14]. Однако, с другой<br />
стороны, женщины чаще задают вопросы; легче, чем мужчины переходят с одной темы на другую; более активны в установлении<br />
и поддержании контакта с собеседником. При разговоре двух мужчин и двух женщин, частотность перебивания в однополых парах<br />
примерно одинакова [15]. Чаще же перебивание встречается в смешанных по половому признаку парах, где коммуникативное преимущество<br />
принадлежит мужчине. Различия в коммуникативных «партитурах», речевых «тактиках» и вербально-невербальном<br />
поведении мужчин и женщин подтверждают многие исследователи. Установлено, что женщины в большей мере проявляют<br />
тенденцию задавать вопросы, поддерживать диалог, выражая солидарность и соглашаясь с собеседником, часто стимулируют<br />
беседу минимальными ответами, если же их прерывают или не поддерживают в беседе, то они принимают стратегию «молчаливого<br />
протеста» [6]. Мужчины чаще прерывают собеседников, расположены не соглашаться с высказываниями своих партнеров,<br />
игнорируют комментарии других участников беседы или реагируют без энтузиазма, более жестко контролируют тему разговора,<br />
включая как развитие, так и переключение темы, склонны к прямому выражению мнения и сообщению о факте.<br />
Мужчины и женщины обладают разными степенями маскулинности и фемининности. Они могут быть более/менее маскулинными,<br />
фемининными или андрогинными, сочетающими в себе мужские и женские свойства. В настоящее время выявлена частота<br />
перебивания, связанная с фемининностью/маскулинностью. Так, установлено, что чем больше человеку присуще мужских свойств,<br />
чем он более маскулинизирован, тем он чаще перебивает собеседников, чувствуя в разговоре себя увереннее и свободнее [14; 22].<br />
Кроме того, люди (и мужчины, и женщины), наделенные в большей степени женскими качествами, вовсе не перебивают<br />
собеседника в процессе общения. Дальнейшие исследования, проведенные в других группах людей, не нашли явного подтверждения<br />
детерминации перебиваний человека полом его собеседника. Однако анализ исследований, проведенных Т.В. Кирюшкиной [7]<br />
показал, что женщины инициируют большее количество прерываний, чем мужчины. Женщины чаще прерывают женщин, а<br />
мужчины – мужчин. Это, по всей видимости, указывает на желание женщин выделиться среди женщин и желание мужчин<br />
привлечь к себе внимание среди других мужчин. Не все перебивы в спонтанных разговорах носят доминантный характер. Иногда<br />
перебивы могут являться приемом говорения, нацеленным на поддержку и согласие. Примером такого типа прерываний может<br />
служить прерывание говорящего с целью переспроса. Чаще всего подобную поддержку получают женщины.<br />
Анализируя явление перебивания в процессе общения, мы рассматриваем его в следующих аспектах, различая при этом<br />
определенные виды и формы прерывания речи: 1) позитивное; 2) негативное; 3) нейтральное; 4) успешное; 5) неуспешное.<br />
Успешное и неуспешное прерывание может выражаться в позитивной, негативной и нейтральной форме. Перебивание может быть<br />
позитивным в случае, если тот, кто перебивает, выражает согласие с говорящим; негативным – в случае, если тот, кто перебивает,<br />
выражает несогласие; нейтральным. Если в процессе общений прерванный собеседник уступает право говорить прерывающему, то<br />
в данном случае перебивание собеседника является успешным. Если же прерванный участник продолжает говорить, то перебивание<br />
собеседника считается неуспешным. Успешное и неуспешное прерывание может выражаться в позитивной, негативной и<br />
нейтральной форме (рис. 2).<br />
General psychology, psychology of person, history of psychology<br />
Рис. 2. Структура явления перебивания<br />
Возрастные особенности. Говоря о влиянии возраста на речевое поведение человека, важно отметить, что любой основной<br />
возрастной период (детство, юность, зрелость, пожилой возраст) особым образом отражается в коммуникативно-речевых<br />
«партитурах» человека, в тактико-стилевых особенностях речи, включая и процессы перебивания [5].<br />
Исследуя явление прерывания собеседника как факт доминирования в общении с учетом возрастных особенностей, мы<br />
обнаружили следующие данные по данному аспекту в однополых и смешанных половых группах старшеклассников. Приведем<br />
некоторые количественные данные исследования (рис. 3–6), проведенного Е.В. Пищиковой [9], которые отражают явление<br />
174
Psychological sciences<br />
перебивания собеседника в процессе общения.<br />
Рис. 3. Динамика использования перебивов<br />
в общении юноша-юноша<br />
Рис. 4. Динамика использования перебивов<br />
в общении девушка-девушка<br />
Рис. 5. Динамика использования перебивов<br />
в общении девушка-юноша<br />
В паре юноша–девушка продолжительность говорения юноши на 10% больше продолжительности говорения девушки. В<br />
смешанной паре юноши проявляют тенденцию некорректного узурпирования времени говорения оппонента, а девушки широко используют<br />
тактические ходы эксплицитного перехвата инициативы, не присущие их речевому поведению в однополых парах коммуникантов,<br />
в частности, ограничивающий вопрос с целью удержания контроля над временем говорения и перебивания. Выявленные<br />
результаты свидетельствуют о большом значении фактора адресата, предопределяющего «подстраивание» (добровольное или вынужденное)<br />
коммуниканта под поведение собеседника, и под его реакции на предложенное высказывание. В смешанных парах<br />
коммуникантов поведение юношей, направленное на ограничение возможностей реализации девушками «переключения на<br />
позиционную роль», провоцирует со стороны девушек использование нетипичных для их речевого поведения эксплицитно<br />
агрессивных ходов, которые содержат максимальную степень «угрозы лицу» коммуниканта. Пищикова Е.В. делает вывод о том,<br />
что именно гендерный фактор предопределяет поведение девушек в смешанных группах. Более того, С.Ю. Тюрина [10], ссылаясь<br />
на А. Greenwood, отмечает, что чем больше диалог детей содержит прерываний, тем более комфортно они себя чувствуют.<br />
Социокультурные особенности и социальный статус. Как известно, одним из инструментов утверждения социального<br />
статуса участников общения является язык. В результате ряда исследований отмечается прямая зависимость частоты перебивания<br />
от социального статуса человека: чем больше значимость в обществе, более высокий социальный статус, тем больше и чаще<br />
допускается прерываний в общении [2; 22; 23]. Кроме того, перебивание не только отражает неравное положение говорящих, но и<br />
способствует еще большему утверждению данного положения [3]. Однако, из наблюдений С. Тремель-Плец (см.: [12]), которая<br />
исследовала вербальное поведение общающихся на материале телевизионных дискуссий, можно прийти к заключению о том, что,<br />
несмотря на одинаковый социальный и профессиональный статус, значительно чаще по сравнению с мужчинами перебивают<br />
женщин, лишая тем самым их возможности закончить высказывание. Как отмечают некоторые исследователи, в непринужденных<br />
разговорах, относительно русскоязычного общества, женщины нередко протестуют против того, чтобы их перебивали. Перебивание<br />
может вызывать как нейтральную, так и резкую отрицательную реакции. Так, например, если тематика речи довольно не серьезная,<br />
не требующая сосредоточенности, собеседники относятся к перебивам довольно спокойно [5].<br />
Таким образом, приведенные данные показывают, что в процессе общения мужчины и женщины выполняют разные<br />
коммуникативные роли.<br />
Литература:<br />
1. Богданов, В. В. Речевое общение: прагматический и семантический аспекты. – Л., 1990. – 88 с.<br />
2. Грошев, И. В. Психология половых различий. – Тамбов, 2001. – 685 с.<br />
3. Грошев, И.В. Половые различия общения // Человек. Власть. Общество. Материалы Азиатско-Тихоокеанского Международного<br />
Конгресса психологов 21-24 мая 1998 г. – Хабаровск, Дальний Восток, 1998. – С. 22–28.<br />
4. Ершов, П. М. Режиссура как практическая психология. – М., 1972. – 213 с.<br />
5. Земская, Е. А. Особенности мужской и женской речи // Русский язык в его функционировании. – М., 1993. – С. 90–136.<br />
6. Карасик, В. И. Язык социального статуса. – М., 2002. – 234 с.<br />
7. Кирюшкина, Т. В. Особенности речи мужчин и женщин на примере немецкоязычных и русскоязычных ток-шоу // Гендерный<br />
фактор в языке и коммуникации: Сб. науч. тр. – М., 1999. – Вып. 446. – С. 78–88.<br />
175<br />
Рис. 6. Динамика использования перебивов<br />
в общении юноша-девушка<br />
General psychology, psychology of person, history of psychology
Psychological sciences<br />
8. Павлова, Н. Д. Коммуникативная функция речи: интенциональная и интерактивная составляющие: автореферат дис. … д-ра<br />
психол. наук. – М., 2000. – 58 с.<br />
9. Пищикова, Е. В. Стратегии доминирования в аргументативном дискурсе: гендерный анализ: автореферат дис. … канд. филол.<br />
наук. – Харьков, 2003. – 21 с.<br />
10. Тюрина, С. Ю. Лексико-фонетические характеристики связующих элементов дискурса в английской деловой речи (на<br />
материале фраз вежливого прерывания разговора): автореферат дис. … канд. филол. наук. – Иваново, 2003. – 20 с.<br />
11. Ушакова, Т. Н. Речевое искусство // Психологическое обозрение. – 1995. – № 1. – С. 6–13.<br />
12. Шаповалова, О. Н. Гендерный аспект управления коммуникационным поведением собеседника // Гендер: Язык, культура,<br />
коммуникации. – М., 2001. – С. 333–342.<br />
13. Bell, R. A. Conversational involvement and loneliness // Communication Monographs. − 1985. − Vol. 52. − № 10. − P. 218–235.<br />
14. Dindia, K. The effects of sex of subject and sex of partner on interruptions // Human Communication Research. – 1987. – Vol. 13. –<br />
№ 6. – P. 345–371.<br />
15. Drass, K. A. The effect of gender identity on conversation // Social Psychology Quarterly. − 1986. − Vol. 49. − № 4. − P. 294–301.<br />
16. Esposito, A. Sex differences in children's conversations // Language and Speech. – 1979. –Vol. 22. – № 11. – P. 213–220.<br />
17. Kennedy, C. W. Interruptions and non-verbal gender differences // Journal of Nonverbal Behavior. – 1983. – Vol. 8. –<br />
№ 9. – P. 91–108.<br />
18. LaFrance, M. The nonverbal display of psychological androgyny // Journal of Personality and Social Psychology. –<br />
1980. – Vol. 38. – № 12. – P. 36–49.<br />
19. Murray, S. O. Toward a model of members' methods for recognizing interruptions // Language in Society. – 1985. –<br />
Vol. 13. – № 9. – P. 31–41.<br />
20. Sacks, H. A simplest systematics for the organization of turn-taking for conversation // Language. – 1974. – Vol. 50. –<br />
№ 5. – P. 696–735.<br />
21. Tannen, D. When is an overlap not an interruption? One component of conversational style. In R. J. DiPietro, W.<br />
Brawley, A. Wede (Eds.) // The first Delaware Symposium on Language Studies. – N.Y: University of Delaware Press, 1983.<br />
– P. 119–129.<br />
22. West, C. When the doctor is a ‘lady’: Power, status, and the gender in physician-patient encounters // Symbolic<br />
interaction. – 1984. – Vol. 7. – № 9. – P. 87–105.<br />
23. West, C. Women’s place in everyday talk: Reflection on parent-child interaction // Social Problems. – 1977. – Vol. 24.<br />
– P. 521–529.<br />
24. Willis, F. N. Simultaneous talking in conversation and sex of speakers // Perceptual and Motor Skills. – 1976. – Vol.<br />
43. – № 3. – Part 2. – P. 1067–1070.<br />
СИСТЕМНО-ИНТЕГРАТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ТВОРЧЕСТВА<br />
General psychology, psychology of person, history of psychology<br />
Стариков П.А., канд. филос. наук, доцент<br />
Сибирский федеральный университет, Россия<br />
Участник конференции,<br />
Национального первенства по научной аналитике,<br />
Открытого Европейско-Азиатского первенства по научной аналитике<br />
В статье обсуждается проблематика формирования современной педагогики и культуры творчества, связанная<br />
с развитием психо- и социотехнологий. Показывается, что все более актуальными становятся интегративные<br />
аспекты творчества, востребованные в контексте личностного развития, развития систем, решения проблем<br />
растущей комплексности современного мира.<br />
Ключевые слова: творчество, интеграция, психотехнологии, развитие систем, социотехнологии, сложность.<br />
The article deals with the problem of the contemporary creativity cultural formation, which is related to psycho- and social technologies<br />
development. It demonstrates the updating of the integrative creativity function claimed to take part in the personal development, system<br />
development, solving issues of the global increasing complexity.<br />
Keywords: creativity, integration, the psycho-technologies, the development of the systems, social technologies, complexity.<br />
В центре обсуждения данного доклада - системно-интегративные функции творчества. В современной культуре эти функции<br />
пока являются латентными: неосознанными, рационально недостаточно осмысленными и мало оформленными в соответствующих<br />
практиках, ментальных представлениях. В данной работе делается попытка отразить целостный контекст, в котором формируется<br />
системно-интегративный подход к природе творчества, показать, что именно такая позиция вводит проблематику творчества в<br />
центр процессов развития индивидуальности, равно как и развития эффективных социальных систем. В конечном счете, такой<br />
подход позволяет выделить творчество, его рационализацию в качестве решающего фактора социальной эволюции, а психологию<br />
и педагогику творчества (формирование творческой компетентности) – основным проводником трансформации общества по пути<br />
торжества нравственности, гуманности.<br />
Понимание творческого акта, с одной стороны, как источника личностного развития, индивидуальности, с другой – необходимого<br />
ресурса системного развития, уже сегодня позволяет выйти из относительно узких рамок отдельных концепций творчества к<br />
«новым горизонтам» многоуровневой, комплексной концепции творческого процесса. Необходимость такого подхода в свое время<br />
остро чувствовал русский философ Николай Бердяев. В его работах суть происходящих и необходимых для мира изменений<br />
определяется как рождение этики Творчества. Этика Творчества выходит за рациональное видение мира, есть этика энергетическая<br />
и динамическая. «Повышение энергии жизни, качественное и количественное, творческий подъем энергии становится при этом<br />
одним из критериев нравственной оценки» [6, с. 214] . Как писал Н. Бердяев, творческий опыт есть нечто первичное, он – духовен<br />
в религиозном смысле слова. Творчество есть преодоление мира в евангельском смысле, преодоление иное, чем аскетизм, но<br />
равноценное ему. В творческом акте не устраивается «мир сей», а созидается мир иной, подлинный космос. «Творчество по<br />
существу своему есть расковывание, разрывание цепей. В творческом экстазе побеждается тяжесть мира, сгорает грех и просвечивает<br />
иная, высшая природа» [6, с. 146].<br />
176
В целом, дальнейшее развитие на Земле вида homo sapiens требует качественного совершенствования механизма его эволюции.<br />
В частности, Н.Н. Моисеев указывает на постепенное идеологическое и методологическое оформление практики коэволюционного<br />
подхода. Концепция коэволюции предполагает развитие нового типа эволюционизма – от отбора наиболее приспособленных в<br />
условиях определенной системы соревнований (РЫНОК) к творческой эволюции (исцеление, обучение, сотворчество – НООСФЕРА).<br />
Ключевое место в этом инновационном процессе занимает становление понятийного каркаса соответствующих идей, методов,<br />
техник и процедур, актуализирующих проблематику системно-интегративных функций творчества.<br />
Важно осознавать, что в историческом процессе представления о смысле, значении творчества менялись существенным<br />
образом, диалектически проявляя все новые его грани. Современное, здесь и сейчас формирующееся понимание творчества,<br />
креативного акта отражает особенности нашей эпохи. Среди них следует отметить несколько, как представляется, наиболее<br />
важных: во-первых, формирование новой картины мира, нового мировоззрения на принципах системности, холизма, синергичности;<br />
во-вторых, актуализация значимости интегративных процессов для решения глобальных проблем, вставших перед человечеством.<br />
Так, в рамках разнообразных научных концепций рождается представление о фундаментальной целостности мироздания, обнаруживается,<br />
что мы не можем разложить мир на отдельные "строительные кирпичики", все связано со всем. В контексте<br />
формирующейся холистической парадигмы современные технологии организации творческого процесса предполагают не просто<br />
«манипулирование» информацией с целью получения решения – они включают человека в многомерность креативного процесса, в<br />
котором преобразуется и сам субъект творчества.<br />
Эту универсальность творчества, его универсумный, космический характер, отразили уже первые концепции творчества, сформировавшиеся<br />
в архаических культурах в форме космогонических мифов, повествующих о времени, когда первый порядок был<br />
сотворен усилиями Богов и Героев. Для этих культур характерно деление времени на две части: сакральное время и профанное.<br />
Сакральное время – это время первотворений, первопредметов, перводействий, когда из Хаоса был сотворен Космос. Бесчисленные<br />
ритуалы повторяли акт Творения, перенося архаического человека в мифическую эпоху начала мира, наделяя его через<br />
космогонический ритуал героическими и божественными силами. Как писал Мирча Элиаде, через исполнение космогонического<br />
мифа, воспроизведение его через песнопения, танцы, символические рисунки человек «погружается в состояние первоначального<br />
рассвета; в него проникают гигантские силы, которые in illo tempore сделали возможным сотворение мира» [1, с. 52]. Отождествление<br />
с творящими Космос силами дает омоложение, исцеление, возрождение.<br />
Сегодня взгляд на творчество как на совершенный модус человеческого бытия (становления, целостности, свободы и<br />
самовыражения), взятый в контексте системности и универсумности, развивается в рамках гуманистической, экзистенциальной,<br />
трансперсональной психологии. Так, К. Роджерс (один из известных представителей гуманистической психологии) определяет<br />
творчество как «усиление себя» [2, с. 413], приписывая ему следующие свойства. Во-первых, каждый человек обладает потенцией<br />
к глубокому и конструктивному творчеству. Во-вторых, соприкосновение со своей творческой сущностью есть одновременно соприкосновение<br />
с универсумом, с универсальным источником энергии. К.Роджерс фиксирует сущностный характер творчества как<br />
интегративный процесс, который порождается всем нашим организмом, а не только интеллектом, который может приводить к<br />
созданию некоторого продукта, но может проявляться и в построении взаимоотношений между людьми, который результируется в<br />
усилении нас самих и в новом состоянии сознания себя и мира вокруг нас.<br />
Близкий по смыслу подход к пониманию творчества развивал А. Маслоу в контексте проблематики здоровья, зрелости и самореализации.<br />
С точки зрения Маслоу, ошибкой является попытка мерить творчество категориями «продукции», бессознательно<br />
связывать творчество только с определенными общепризнанными сферами человеческой деятельности. Маслоу ставил знак<br />
тождества между творчеством и способностью интегрировать, соединять воедино разные, противоположные элементы. Понятие<br />
интеграции имплицитно является ключевым конструктом концепции творчества Маслоу, давая возможность поставить проблему о<br />
взаимодействии между внутренней интеграцией индивида и его способностью интегрировать то, что он делает в этом мире.<br />
Насколько творчество окажется синтезирующим, конструктивным, объединяющим, с точки зрения Маслоу, зависит от внутренней<br />
интеграции личности.<br />
Здесь, в представлениях А. Маслоу, К. Роджерса, других авторов мы видим оформление нового, современного видения<br />
творческого процесса, в центре которого оказываются системно-интегративные аспекты творчества, сотворчество объекта и<br />
субъекта действия.<br />
Важно отметить, что выделяя признаки творческого акта, практически все исследователи творчества и сами творцы подчеркивают<br />
его внесознательность, спонтанность, неподконтрольность прямому воздействию воли и разума. Значимый подход к пониманию<br />
природы бессознательных процессов, лежащих в основе творческого акта, сформировался на основе выделения двух стратегий<br />
обработки информации (неосознаваемой, холистической, правополушарной и осознаваемой, левополушарной).<br />
Так, согласно модели В. Роттенберга, различие между стратегиями обработки информации полушарий человеческого мозга<br />
сводится к различным способам организации контекстуальной связи между предметами и явлениями [3]. Словесно-логическое<br />
мышление (левое полушарие) выделяет из всего обилия реальных связей между предметами и явлениями лишь немногие<br />
определенные и тем самым обеспечивает восприятие этих связей как однозначных. Для того чтобы отразить все многообразие<br />
связей между явлениями, нужен принципиально иной способ мышления. Этой задачей занято правополушарное мышление. Оно<br />
«схватывает» реальность во всем многообразии, богатстве, противоречивости и формирует многозначный контекст.<br />
Близкие концепции качественного различия стратегий при обработке информации: сознательного и бессознательного, вторичного<br />
и первичного процессов, левополушарной и правополушарной были созданы К. Юнгом, Г. Бейтсоном, Р. Сперри, другими авторами.<br />
Как следствие, среда, которая востребует, проявляет человеческую креативность, должна обладать высокой степенью<br />
неопределенности и богатством возможностей. Творческие люди, в свою очередь, сами ищут и создают такие среды. Верно и<br />
обратное утверждение – способность легко переносить неопределенность, любовь к приключениям, открытость для опыта,<br />
сильный самоконтроль, эмоциональная стабильность и готовность к риску являются качествами, которые присущи творческим<br />
личностям. Исследователи отмечают у творческих людей беглость, порывистость, импульсивность, предпочтение асимметричных<br />
форм. Одаренные лица способны выдерживать неловкое и двусмысленное положение значительно дольше людей нетворческого<br />
склада.<br />
С другой стороны, сложность, неопределенность, скрытые от сознания порядки – те условия, попадая в которые человек,<br />
лишенный поддержки бессознательного, первичных процессов, поликонтекстности правополушарных стратегий испытывает<br />
тревожность. Затруднения в восприятии временного хаоса, неверие в спонтанные, упорядочивающие силы бессознательного и<br />
страх неведомого блокируют творческий процесс, провоцируют стереотипизацию и унификацию человеческого поведения.<br />
Жизнь всегда вызывает тревогу, констатирует экзистенциальная психология, поскольку почти все важные вещи, которые<br />
случаются с людьми, имеют неопределенный, неоднозначный и неясный исход. Рутинизация человеческого действия – естественная<br />
реакция на сложность и непредсказуемость, которая и создает иллюзию психологической безопасности. Можно согласиться с<br />
Кьеркегором, назвавшим такую реакцию на жизнь «замолкнувшей индивидуальностью». Эрих Фромм определил это состояние<br />
177<br />
Psychological sciences<br />
General psychology, psychology of person, history of psychology
Psychological sciences<br />
General psychology, psychology of person, history of psychology<br />
как бегство от свободы, хотя это состояние можно было бы определить и как бегство от сложности.<br />
Парадоксально, но именно состояние творческой свободы дает человеку необходимые ресурсы для того, чтобы справляться с<br />
тревожностью, ориентироваться в сложном и непредсказуемом мире, осуществляя этот процесс системосозидательно. Ситуация<br />
сложности и неопределенности, как бы «блокирующая» естественное освобождение творческости человека предполагает разрешение<br />
данного противоречия в ходе рационализации организации творческого процесса, формирования культуры творчества, сегодня, все<br />
в большей степени, в рамках развития психо- и социотехнологий. Страх неизвестности определяет границу, с пересечения которой<br />
начинается пробуждение творческости на основе интеграции сознания и бессознательного, рождая особые состояния активности<br />
человека, сопряженные с подлинным ядром его личности и мотивации – идеальные модели человеческого бытия и действия<br />
(различные авторы описали их как пиковые переживания, потоковые состояния, Кайрос, состояния гениальности, озарения, саморегуляции).<br />
Важно отметить, что в этих состояниях соединяются вместе универсальный творческий принцип или архетип<br />
творческой Самости и творческая личность, принцип удовольствия и принцип реальности, эрос и логос, расширяя возможности<br />
Разума человека в целостном восприятии текущего момента со всеми присущими ему скрытыми возможностями, потенциями,<br />
смыслами.<br />
Кайрос – это особый момент полноты времени, время, как писал Пауль Тиллих, исполненное смысла. Только для абстрактного,<br />
отстраненного созерцания время является всего лишь пустой формой, способной вместить любое содержание. «Но для того, кто<br />
осознает динамический творческий характер жизни, время насыщено напряжениями, чревато возможностями, оно обладает<br />
качественным характером и преисполнено смысла» [4, с. 217].<br />
Есть ли возможность выявить некое сущностное ядро такого рода состояний? Сравнительный анализ показывает, что, по всей<br />
видимости, таким ядром, моделью процессов, лежащих в основе пиковых переживаний, является металогика архетипа Самости,<br />
как функции интеграции системы в целостность. Именно интегративные, объединяющие способности такого рода состояний, сочетающиеся<br />
с трансценденцией, выходом системы за ограниченные пределы, были выявлены А.Маслоу, Э.Ярлнесом, К.Юнгом,<br />
другими авторами. Так, Ярлнес обращает внимание на следующие сущностные моменты пиковых переживаний. «Пиковое<br />
переживание – это миг, когда человек чувствует, что все объединяется, … когда нормальное восприятие расширяется так, что<br />
становится возможным лежащее за гранью обычных способностей» [7, с.224]. К. Юнг определил такого рода состояния через интегративную,<br />
компенсационную роль бессознательного и функцию трансценденции как проявления архетипа творческой Самости.<br />
Согласно феноменологии А. Маслоу, пиковое переживание несет тот же интегративный смысл – «это эпизод или «прорыв», в<br />
котором все силы личности чрезвычайно эффективно сливаются воедино, доставляя интенсивное удовольствие, когда человек<br />
обретает единство» [5, с. 132].<br />
Сначала Маслоу, а затем другие авторы (М. Чиксентмихайи, Г. Бенсон, У. Проктор, Э. Ярлнес, В. Козлов и другие) эмпирически<br />
выявили комплексную, холистическую природу такого рода состояний, их связь с самоактуализацией, распространенность в<br />
массовом опыте. Было установлено, что сам по себе пиковый опыт имеет универсальные характеристики, мало зависящие от социально-культурной<br />
среды, в наибольшей степени проявляет интегрирующую силу творчества. Такого рода состояния, с одной<br />
стороны, являются целью и средством развития личности, с другой – скрывают в себе ресурсы творческого развития систем к<br />
целостности, актуализации потенциальности.<br />
Одной из важнейших задач, решаемых интегративной функцией самости – сохранение нейтрального или уравновешенного<br />
состояния. Поиск нейтральной точки, нейтрального состояния – как основы творческого продуктивного действия мы можем<br />
обнаружить во многих традиционных и современных психотехниках.<br />
Необходимо отметить, что холистическая металогика архетипа Самости фиксирует особое значение пикового переживания во<br />
всех аспектах процесса самоактуализации. Любой человек, как отмечал А.Маслоу, в момент пикового переживания становится<br />
наиболее полноценным, как с эмпирической, так и с теоретической точек зрения, то есть дает максимум информации о здоровье и<br />
отдельного индивида в его поиске себя, и универсальных вершин человеческой природы. Таким образом, пиковое переживание –<br />
это и модель более здорового и продуктивного состояния, и средство продвижения по пути самоактуализации.<br />
В свое время этот принцип, который с таким трудом находит свое место в современной педагогике, профессиональной<br />
деятельности, был сформулирован К.С. Станиславским: «Пусть начинающие сразу познают, хотя бы в отдельные моменты,<br />
блаженное состояние артиста во время нормального творчества» [8, с. 454].<br />
В результате изучения пиковых переживаний, потоковых состояний и близких по характеру проявления состояний гениальности,<br />
озарения, саморегуляции оказалось возможной постановка проблемы рационализации творческого процесса на основе воссоздания<br />
пикового опыта, как диалектического синтеза противоположностей: необходимости и свободы (проблема сочетания управления,<br />
контроля и спонтанности, вдохновения), коллективного и индивидуального (проблема сотворчества, отсутствия атомизированного<br />
актора), традиции и новации.<br />
Важно отметить, что найденные успешные модели синтеза, оформленные в паттерны современных, активно развивающихся<br />
психотехнологий, находят свое подобие или отражение в паттернах социальных практик, развитии социотехнологий. И на уровне<br />
организации психических, и социальных систем возникают сходные проблемы и универсальные, взаимопроникающие паттерны<br />
их решения.<br />
Важнейшая характерная особенность нашего времени – обстановка кризиса природно-человеческого бытия, поиск путей<br />
выживания, когда начинает остро вырисовываться комплексная взаимообусловленность социальных, политических, экономических,<br />
психологических и духовных проблем. С одной стороны, увеличивающаяся сложность среды продолжает углублять дифференциацию<br />
общественных подсистем. Согласно Никласу Луману, данный процесс подготавливает почву для «больших резонансов» – катастрофических<br />
изменений, возникающих в силу дезинтегрированности системы в целом, с другой – отвечая на вызов сложности,<br />
человеческое сообщество ищет возможности актуализации интегративных процессов.<br />
Печальный опыт катастрофического нарастания проблем системного уровня, встающих перед человечеством, показывает, что<br />
со старыми стратегиями мышления, организационными паттернами принятия решений невозможно жить в новую эпоху, когда<br />
сложность среды обитания человечества не только увеличилась количественно, но и трансформировалась качественно.<br />
Анализ современных психотехнологий, социо-культурных подходов к возможностям интеграции систем в целостность,<br />
позволяет утверждать, что общей задачей является решение универсальной для развития систем проблеме – согласовании процессов<br />
дифференциации и интеграции; автономизации частей и эволюции целостности. В современных условиях, когда нелинейность,<br />
сложность, динамичность среды необходимо предполагает дифференциацию подсистем целого и их автономизацию, указанная<br />
проблема решается в демократизации отношений части-целое на основании ресурсов обучения, творчества, коммуникации<br />
(необходимо связанных сегодня с развитием сложных систем феноменах культуры). И на уровне психотехнологий развития<br />
личности, и на уровне социокультурных подходов формируется определенная модель структурно-функциональной организации,<br />
ранее названной в данном докладе металогикой архетипа Самости – центром системной регуляции становится процессуальная<br />
структура коммуникации частей целого, в рамках которого осуществляется творческое примирение и уравновешивание противоположностей.<br />
178
Psychological sciences<br />
При этом усложнение системы в ходе диссоциации, увеличения степени автономности элементов уравновешивается<br />
возрастающими способностями к системной интеграции, что и реализуется в качественно иных по структурно-функциональной<br />
организации состояниях системы – синергизме, сотворчестве элементов и системы.<br />
Так, Р. Акофф указывает на неизбежность автономизации работы частей в ходе нарастания нелинейности и сложности<br />
современной экономической среды, развивая опыт согласования частей системы в рамках интерактивного планирования. С. Бир<br />
устанавливает соответствие между организацией человеческого мозга и современными системами управления. Основной решающий<br />
орган должен функционировать подобно эвристической экспертной структуре – «губке разнообразия». П. Чекленд предполагает<br />
адекватными возрастающей сложности среды технологии мягкого системного подхода, построенные вокруг обучения, обмена<br />
мнениями, интеграции и творчества. Сегодня рассматриваемая модель организации целого – дифференциация частей, сопряженная<br />
с растущим значением творческой интеграции, все в большей степени определяет тенденции развития психо- и социосистемных<br />
технологий.<br />
В целом, системно-интегративная концепция творчества призвана выявить и связать вместе сущностные аспекты педагогики<br />
творческой деятельности (оригинальность, нестереотипность при этом становится индикатором пробуждения интегративных<br />
творческих способностей, пикового опыта), ее актуальность в современных социальных технологиях, личностном развитии<br />
(единая идеальная структурно-функциональная модель системы, характеризующая эволюцию и уровень развития личности и общества).<br />
Литература:<br />
1. Элиаде, М. Аспекты мифа / М. Элиаде. – М.: Академический Проект, 2001. – 240 с.<br />
2. Роджерс, К.Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека / К.Р. Роджерс. – М.: Издательская группа «Прогресс»,<br />
«Универс», 1994. – 480 с.<br />
3. Ротенберг, В. Сновидения, гипноз и деятельность мозга/ В. Ротенберг. – М.: ООО «Центр гуманитарной культуры «Рон»,<br />
2001. – 256 с.<br />
4. Тиллих, Пауль Избранное: Теология культуры/ Пауль Тиллих. – М.: Юрист, 1995. – 479 с.<br />
5. Маслоу, А. Психология бытия / А. Маслоу. – М.: «Рефл-бук», 1997. – 304 с.<br />
6. Бердяев, Н.А. Опыт парадоксальной этики/ Н.А. Бердяев. – М.: «Издательство АСТ», 2003. – 701 с.<br />
7. Ярлнес, Эрик Терапевтическая сила пиковых переживаний: воплощение старой идеи Маслоу // Телесная психотерапия.<br />
Бодинамика: .[Пер. с англ.] / Эрик Ярлнес, Жозет ванн Лойтелла. – М. – 2010. – с. 214-239.<br />
8. Станиславский, К.С. Работа актера над собой в творческом процессе переживания. Дневник ученика /К.С. Станиславский. –<br />
СПб., 2008. – 478 с.<br />
УДК 159.922<br />
ОНТОЛОГИЯ ИГРЫ<br />
Жовтянская В.В., канд. психол. наук<br />
Институт социальной и политической психологии НАПН Украины, Украина<br />
Участник конференции,<br />
Национального первенства по научной аналитике,<br />
Открытого Европейско-Азиатского первенства по научной аналитике<br />
В статье представлена попытка определить сущностный психологический механизм игры. Предложен взгляд на игру как на<br />
деятельность, предметом которой является формирование субъективного переживания. На основе разработанного подхода объясняются<br />
различные проявления и формы игры.<br />
Ключевые слова: игра, деятельность, переживание, психологический механизм.<br />
The article presents an attempt to define the essential psychological mechanism of a game. The author proposes to consider a game as<br />
activity aimed at the forming of subjective emotional experience. The different manifestations and kinds of game are explained based on this<br />
approach.<br />
Keywords: game, activity, experience, psychological mechanism.<br />
Постановка проблемы. Такому замечательному феномену, как игра посвящено немало психологических теорий. Для<br />
большинства из них характерно то, что исследователи чаще всего сосредоточивают свое внимание на внешней стороне игры – на ее<br />
пользе для становления личности. Но игра – это такая деятельность, которая по определению непосредственно не направлена на<br />
получение пользы. Что же понуждает ребенка или взрослого человека играть? Многие теоретики игры сходятся на том, что эта<br />
деятельность является абсолютно свободной, индетерменированной и осуществляемой ради себя самой. Фактически об этом же<br />
говорит и концепция А.Н. Леонтьева, согласно которой мотив игры лежит в самой игре [1]. Но тогда получается, что игровая<br />
деятельность является абсолютно замкнутым на самом себе процессе, внешние определения которого невозможны. И хотя в какомто<br />
смысле так это и есть, все же попробуем определить сущностные психологические механизмы этого явления.<br />
Теоретический анализ. Если мотив игры лежит в ней самой, то процесс игры должен сам по себе приносить удовольствие или<br />
же иметь непосредственную ценность. Но и нельзя сказать, что игра осуществляется ради удовольствия, – "ради" вообще не очень<br />
подходит для объяснения сути игры, и этим она отличается от разных видов активности, направленных на удовлетворение<br />
потребностей. Это, конечно, не значит, что удовольствие не возникает в процессе игры – как раз наоборот. Такое удовольствие-впроцессе<br />
лучше сопоставить с термином "переживание", если его понимать как субъективно воспринятое бытие. Этот термин<br />
содержит два смысловых аспекта. Во-первых, он соотносится с определенным субъективным чувством – внутренним небезразличием<br />
к внешней действительности. Во-вторых, пере-живание – это жизнь как процесс, это прохождение на жизненном пути определенных<br />
этапов, это переработка индивидом определенного опыта. Второй смысловой аспект связан с событийным содержанием жизни, а<br />
следовательно, и с внешним миром, который в переживании находит свое субъективное преломление. Эту характеристику<br />
переживания можно обозначить как интенциональность: оставаясь сгустком субъективной жизни, по содержанию переживание так<br />
или иначе связано с внешними реалиями. В конечном счете, жизнь как процесс и является органичным объединителем субъективного<br />
179<br />
General psychology, psychology of person, history of psychology
Psychological sciences<br />
General psychology, psychology of person, history of psychology<br />
и объективного.<br />
Как отмечалось выше, мотивация и наслаждение от игры не связаны с какими-то внешними потребностями, а лежат в ней<br />
самой. То есть переживание в процессе игры отделено от удовлетворения потребностей и приобретает самоценность. Главным<br />
моим тезисом является то, что как раз формированием переживания и занимается игра, и именно переживание, то есть модус самой<br />
жизни, является здесь изначальной ценностью.<br />
Для того чтобы что-то пережить, надо сначала найти или создать соответствующие жизненные условия. Поэтому основным механизмом<br />
игры является превращение внешних условий ради непосредственной самореализации бытия. Жизнь – это процесс, и он<br />
реализуется через внешнюю активность, поэтому игру можно рассматривать как деятельность в самом широком ее понимании. В<br />
отличие от других видов деятельности, для игры характерно то, что в ней не изначально нужный результат задает, то есть<br />
стимулирует и структурирует действия индивида, а наоборот, сам результат подбирается ради процесса деятельности как такой,<br />
который соответствует этому процессу. Поэтому внешне-целевой аспект игры всегда носит условный характер. Сопоставление<br />
игры с понятием переживания, которое является весьма емкой, но в то же время и сложной психологической категорией, позволяет<br />
объяснить разнообразные проявления игры.<br />
Самым простым примером смещения акцентов целеустремленной активности с результата, который обеспечивает возможность<br />
выживания, на сам процесс жизнедеятельности может быть игра кошки с мышкой. Если кошка не очень голодна, то, поймав мышь,<br />
она часто отпускает ее, чтобы иметь возможность снова ее поймать и так далее. Если изначально кошка прибегает к охоте, чтобы<br />
получить мышь, то потом она использует мышь уже для того, чтобы пережить сам процесс охоты.<br />
Рассмотрим другой пример, также очень простой с процессуальной стороны и также очень древний, но уже в рамках<br />
человеческой истории – игру в кости. Двое или более игроков по очереди бросают кубики, каждая сторона которых содержит<br />
определенное количество отметок; выигрывает тот, у кого выпадет большее (варианты: меньшее, парное, непарное и т.д.)<br />
количество. В основе этой игры лежит принцип, общий для всех азартных игр – обострение собственных переживаний с помощью<br />
создания искусственной стимуляции, а именно: соотношению выпавших номеров ставится в соответствие получение или<br />
неполучение вознаграждения. Это и есть превращение внешних условий ради достижения определенного качества бытия, которое<br />
в данном случае проявляется через обострение силы и интенсивности переживания.<br />
Может возникнуть вопрос: действительно ли здесь выигрыш выступает в качестве вспомогательного средства для создания<br />
игры, или же наоборот, игра осуществляется ради получения выигрыша? Конечно, когда игрок садится играть, для него не<br />
последним желанием является именно получение вознаграждения (неважно, что это будет – денежная ставка в игре или просто<br />
ощущение победы над другими). Но как раз в данном случае от действий игрока ничего не зависит – кости выпадают только по вероятностному<br />
принципу. Он может лишь надеяться на свою удачу, однако результатом тут правит случай. То есть нельзя сказать, что<br />
человек таким образом добивается денег, создает условия для их получения. Более того, если для него важны деньги сами по себе,<br />
то он как раз будет держаться в стороне от казино и азартных игр. Для игрока же деньги являются желанными именно как выигрыш,<br />
и найденные на стороне деньги он опять же несет в казино. Безусловная желательность денег здесь создает предпосылки для игры,<br />
также как и безусловная желательность мыши является предпосылкой для игры кошки.<br />
В отличие от игры в кости, в подавляющем большинстве игр результат все-таки зависит от действий игрока. Система правил в<br />
таких играх подобрана таким образом, чтобы в действиях, направленных на результат (цель, правильное выполнение задания и так<br />
далее) максимально реализовать внутренний потенциал, способности индивида. И так же, как потенциал развития человека может<br />
быть самим разным и принимать огромное количество конкретных форм, так же и огромное количество форм, иногда очень<br />
разных, может приобретать игра. Это могут быть игры, связанные с физическими возможностями человека (спортивные игры или,<br />
скажем, детские игрушки наподобие "пятнашек"), интеллектуальные игры (шахматы, головоломки), игры, связанные с<br />
художественными, творческими способностями (буриме, сбор мозаик), и так далее. Каждая из них реализует то или другое из<br />
огромного количества возможных проявлений бытия, осуществленных ради него самого.<br />
Другой способ непосредственной реализации бытия представлен в уже упомянутых ролевых играх. В самом деле, что делает<br />
ребенок, когда верхом на палочке скачет будто всадник, или когда он перенимает роли значимых других, играя в маму, учителя или<br />
киношного героя? Он формирует определенный комплекс условий (условное пространство), необходимое для реализации того<br />
модуса бытия, который он на данный момент облюбовал. Ребенок использует игрушечные предметы в той мере, в какой они<br />
помогают создать этот комплекс условий. Если настоящего принца можно узнать по короне, он будет использовать "корону" –<br />
любой предмет, который поможет ему представить себя лицом королевской крови. Внешняя атрибутика здесь служит внутреннему<br />
"превращению". Во взрослой актерской игре все наоборот – внутреннее перевоплощение в другого персонажа является лишь<br />
одним из методов достижения внешней убедительности образа. Достижение чисто внешней убедительности уже вне внутренней<br />
самоидентификации характерно для лицемерия.<br />
Также существуют настоящие взрослые игры, которые внешне могут напоминать лицемерие, но по своей психологической<br />
сути отличаются от него. Некоторые из них рассматриваются в известных работах Э. Берна [2]. В рамках таких игр человек<br />
использует внешние обстоятельства для того, чтобы сыграть определенное переживание, например, почувствовать себя<br />
благотворителем, или, наоборот, беззащитным ребенком. В то же время не все примеры приведенных Берном "игр" являются<br />
играми (кстати, сам автор употреблял этот термин в кавычках), некоторые из них скорее представляют собой форму защитных<br />
механизмов. Разница заключается в том, выступает ли полученное переживание самоценностью, или же оно служит удовлетворению<br />
внешних относительно игры потребностей – в безопасности, в социальном признании и т.д.<br />
Интересной чертой взрослых игр является то, что они могут быть и играми, и направленной на результат работой в одно и то же<br />
время. Например, собственный бизнес может быть для его владельца и азартной игрой, и вполне рационально организованной<br />
статьей доходов. Поэтому было бы неправомерным утверждать вслед за Е. Финком, что игра заполняет собой свободное время,<br />
которое остается у человека от серьезных занятий [3]. Ведь между этими деятельностями нет разницы по формальным признакам<br />
– дело лишь в субъективном взгляде на происходящее. Прежде всего, здесь имеет значение отношение к собственным целям: пока<br />
человек играет, он не подчиняется им, а использует их для того, чтобы сделать свою жизнь насыщенной, даже если эти цели имеют<br />
и вполне серьезное обоснование. Это целиком подобно тому, как игрок использует устоявшиеся правила игры, для того, чтобы<br />
получить переживание.<br />
Сочетание субъективного и объективного может по разному проявляться в разных типах игр. В играх, которые Дж. Мид<br />
обозначил как game, т.е. играх-соревнованиях [4], речь идет в первую очередь о внешне-объективном аспекте переживания: это,<br />
прежде всего, непосредственность реального проживания, достижения и преодоления – активное и действенное утверждение<br />
жизни. Результат, который подбирается ради организации процесса переживания, – это условная цель игры. Она назначается таким<br />
образом, чтобы максимально реализовать внутренний потенциал участников – физический или интеллектуальный. Внешняя<br />
событийность процесса здесь является вполне наглядной.<br />
А вот в забавах с игрушками содержание игрового события переносится в условный план. Ребенок придумывает некоторый<br />
сюжет, субъективное проживание которого и задает суть игры. Переживание здесь носит более созерцательный характер, наподобие<br />
180
того, которое возникает при просмотре представления. В то же время действо все равно происходит здесь и сейчас, с теми<br />
конкретными объектами, которые очутились у ребенка под рукой, – это не обязательно готовые игрушки, а любая вещь, которая<br />
открылась ребенку в новом и интересном свете. То есть в играх типа play [4] создается переживание как эмоциональное<br />
небезразличие к объектам и событиям. Поэтому на первый план выходит разыгрывание интересных для ребенка ролей или<br />
ситуаций. Личностное бытие здесь осуществляется и утверждается в условном плане, и именно условный образ, воплощенный в<br />
имеющемся реальном объекте, является тем результатом, который задает и структурирует игру.<br />
Так игра формирует новый способ взаимодействия индивида с объектом. Этот последний проявляется таким, который способен<br />
вызывать переживание, то есть становится небезразличным кусочком внешнего мира. При этом он остается вне потребностей и<br />
связанных с ними мотивов. В игре он способен открываться в новых интерпретациях, которые формируются здесь и сейчас, в<br />
самом процессе игры. Но для этого объект изначально должен предстать свободным от любых готовых "правильных" толкований,<br />
он может быть чем угодно, а значит, в конечном счете, и самим собой.<br />
Это особенно наглядно в ранних играх ребенка с разными вещами, когда те становятся в одно и то же время предметом и<br />
забавы, и исследовательского поведения. Яркий неординарный объект представляется интересным сам по себе и одновременно<br />
вызывает стремление к манипуляциям с ним. Уже впоследствии, на немного более поздних стадиях онтогенеза, такого плана небезразличный<br />
объект может быть соотнесен со сказочным образом (play), или быть привлеченным к конкретным игровым манипуляциям<br />
(game).<br />
То есть изначально имеется интересный и небезразличный объект, который для ребенка может быть чем угодно. Причем "быть<br />
чем угодно" – это непосредственность видения, а не серьезная идентификация, то есть не дефиниция через подведение под<br />
определенную категорию. Специфика этого субъективного способа восприятия заключается в том, что он как раз и ценен этой<br />
своей субъективностью, потому что именно она является источником переживания. Но в то же время источником переживания и<br />
способом его реализации является внешний объект. Это как раз и значит, что переживание – это и субъективное восприятие, и сопричастность<br />
внешним реалиям. Для организации проживания, то есть процесса развития переживания, ситуация должна быть доопределена,<br />
что означает сотворение условного мира игры. В случае игры типа game этим доопределением выступают игровые<br />
правила. В случае игры типа play такое доопределение осуществляется с помощью образной интерпретации – палка "становится"<br />
лошадкой. Если game создает условные значимости для организации событийного проживания процесса (например, что важно<br />
забить мяч в ворота соперника, не коснувшись его рукой), то play создает условные значения для объектов ("пусть это будет<br />
лошадка"), перенося событийность в мир "как будто-то".<br />
Выводы. Игра является специфической деятельностью, в которой не процесс ее осуществления призван обеспечить достижение<br />
результата, а наоборот, результат выбирается ради организации процесса деятельности как определенного способа индивидуального<br />
проживания. Это значит, что удовольствие от игры обусловлено самим процессом жизни, и именно непосредственное утверждение<br />
человеческой бытийности является основным заданием игры. Иначе говоря, игра занимается формированием субъективного<br />
переживания, которое может быть рассмотрено в двух аспектах. Это, во-первых, эмоциональный отклик индивида на внешние<br />
события и, во-вторых, прохождение и переработка индивидом определенного опыта. Эти два аспекта переживания находят свое<br />
отражение в двух основных формах реализации игры – play и game.<br />
Литература:<br />
1. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. – М.: Изд-во МГУ, 1981. – С. 481-509.<br />
2. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. – Л.: Лениздат, 1992. – 400 с.<br />
3. Финк Е. Основные феномены человеческого бытия // Проблема человека в Западной философии. – М.: Прогресс, 1988. – С.<br />
357-404.<br />
4. Мід Дж.Г. Дух, самість і суспільство. – К.: Укр. Центр духовної к-ри, 2000. – 375 с.<br />
ПРИРОДА УБЕЖДЕНИЙ. РОЛЬ УБЕЖДЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ РЕАБИЛИТАЦИИ/ЛЕЧЕНИЯ<br />
Попескул А.А., докторант<br />
Христианский гуманитарно-экономический открытый университет, Украина<br />
Участник конференции,<br />
Национального первенства по научной аналитике<br />
В статье рассматривается роль и значение природы убеждений в процессе реабилитации/лечения. Роль внешнего окружения<br />
при выработке убеждений, убеждения о способностях, интеграция конфликтных убеждений.<br />
Ключевые слова: природа убеждений, лечение, заболевание, внешнее окружение при выработке убеждений, убеждения о способностях,<br />
интеграция конфликтных убеждений.<br />
This article deals with the role of beliexfs and their significance in rehabilitation/therapy. Social environment and its role in beliefs<br />
generation, beliefs concerning abilities, integration of conflicting beliefs.<br />
Keywords: nature of beliefs, therapy, disease, social environment and its role in beliefs generation, beliefs concerning abilities,<br />
integration of conflicting beliefs.<br />
Мозг, как, в сущности, любая биологическая и социальная система, имеет многоуровневую организацию, а также несколько<br />
этапов обработки информации, в результате которых мы способны выходить на различные уровни мышления и бытия. Стараясь<br />
создать модель для понимания деятельности мозга или изменения поведения, мы обращаемся к этим уровням - как если бы хотели<br />
разобраться в структуре какой-либо отдельной бизнес-системы банка, предприятия, фирмы и т.д., в которой существуют различные<br />
уровни организации [1].<br />
С психологической точки зрения, можно говорить о пяти основных уровнях.<br />
1. Базовым уровнем является наше внешнее окружение, наши внешние сдерживающие факторы.<br />
2. Мы взаимодействуем с внешним окружением с помощью нашего поведения.<br />
3. Наше поведение направляется нашей моделью мира и нашими<br />
стратегиями, которые определяют наши способности.<br />
4. Эти способности организуются посредством систем убеждении.<br />
181<br />
Psychological sciences<br />
General psychology, psychology of person, history of psychology
Psychological sciences<br />
General psychology, psychology of person, history of psychology<br />
5. Сами убеждения организуются через идентичность [4].<br />
Таким образом, когда человек испытывает какое-либо затруднение, то нам следует определить, приходит ли данное затруднение<br />
из внешнего контекста или причина в том, что данный человек не обладает особым типом поведения, для того чтобы справиться с<br />
контекстом. Или причина в том, что он не разработал подходящей стратегии или модели мира, позволяющих выработать это<br />
поведение? Не происходит ли это оттого, что у него отсутствует убеждение или имеется конфликтное убеждение, оказывающее<br />
влияние на его жизнь в целом или на достижение конкретного результата? И, наконец, не связана ли причина затруднения с уровнем<br />
идентичности, влияющем на всю систему в целом? [2]<br />
Роль убеждений.<br />
Убеждения интересны тем, что в силу своего нахождения на ином уровне, чем поведение или способности, не изменяются в соответствии<br />
с теми же самыми правилами.<br />
Если у человека есть какое-либо убеждение, то доказательства, полученные от внешнего окружения или поведения, не смогут<br />
изменить это убеждение, поскольку оно не касается действительности. Убеждения заменяют знание реальности и касаются тех<br />
вещей, которые невозможно наблюдать в действительности. Тот, кто неизлечимо болен, не знает, пойдет ли он на поправку или нет:<br />
в нынешней действительности не существует ничего, что могло бы указать ему на это. Он должен верить, что выздоровеет именно<br />
потому, что никто не знает, какова реальность [4].<br />
Пример - идея существования Бога. Нет ни одного способа<br />
окончательно доказать или опровергнуть ее. Это вопрос личных убеждений ("веры") или толкования определенных фактов, а<br />
любые факты, как известно, могут по-разному истолковываться в различных системах убеждений.<br />
Многие неизлечимо больные люди, жертвы рака или СПИДа, считали себя практически пребывающими на том свете. Зачем же<br />
о чем-то беспокоиться, что-то делать, если осталось уже недолго? Даже если обследование давало положительный результат, они<br />
были убеждены, что это лишь временное улучшение. Они не хотят заниматься самообманом, они точно знают, что скоро умрут.<br />
Спорить с ними бесполезно, поскольку любой аргумент они истолковывают с позиций своей убежденности [4].<br />
И одновременно существует масса примеров того, как позитивный взгляд на вещи и позитивные убеждения могут привести к<br />
выздоровлению даже при самых опасных болезнях [4]. Но как убедить человека, считающего себя кандидатом на тот свет, что он<br />
еще вполне может жить и здравствовать?<br />
Вряд ли, в споре с ним вы что-то докажете. Почти каждый когда-то мог убедиться на собственном опыте, что попытки изменить<br />
чьи-либо убеждения, как правило, заканчиваются пустой тратой времени.<br />
Таким образом, убеждения действуют на ином уровне, чем внешняя и поведенческая действительность, и не изменяются под<br />
воздействием тех же самых процессов. В компании, изменение корпоративных ценностей и проводимой политики требует особого<br />
подхода и не происходит механически одновременно с заменой оборудования [4].<br />
Роль внешнего окружения при выработке убеждений.<br />
Внешнее окружение также способно либо поддерживать, либо разрушать убеждение. Убеждение начинает подвергаться<br />
влиянию внешнего окружения, и человеку необходимо утвердиться в нем настолько, чтобы никакое давление извне не могло его<br />
поколебать. Если же внешнее окружение благоприятно, создается надежная система поддержки.<br />
Система убеждений, взаимоотношение убеждений со способностями и поведением, а также влияние внешнего окружения<br />
являются теми вопросами, которым мы должны уделять особое внимание, работая с убеждениями [3].<br />
Убеждение не есть стратегия; оно не дает знать, "каким образом"; оно не является поведением. Убеждение - это обобщение какого-либо<br />
взаимоотношения между различными проявлениями жизненного опыта [4].<br />
Убеждение о способностях.<br />
Убежденность в том, что вы потерпите неудачу, образует самореализующееся пророчество. Так, если я уже двадцать раз<br />
безуспешно пытался сбросить вес, и кто-то мне сообщает, что существует новый метод НЛП, позволяющий похудеть, я просто не<br />
поверю, что он может мне чем-то помочь, поскольку двадцать предыдущих методов не дали никакого результата. И это убеждение<br />
играет весьма важную роль.<br />
Противоположный случай представляют люди, которые верят в то, что, если сумеют увидеть (визуализировать) картину<br />
успешного результата, то обязательно его добьются [4].<br />
Помимо всего прочего, если человек вполне отчетливо представляет себе, как добивается успеха, но при этом не верит в себя,<br />
то он говорит: "Я никогда не смогу этого сделать. Это всего-навсего нереалистичные ожидания или ложные надежды".<br />
"Чем яснее я это представляю, тем сильнее начинаю чувствовать, что, вероятнее всего, не смогу этого сделать".<br />
Вот пример того, как убеждения могут воздействовать на визуализацию. Умение визуализировать является функцией наших<br />
способностей, но тем, что обеспечивает визуализации значимость, является убеждение. Есть люди, которые боятся представить<br />
себя в роли победителя, поскольку уверены, что тогда у них точно ничего не получится. Это иллюстрирует взаимоотношение<br />
между убеждением и стратегией. Для того чтобы что-то совершить, недостаточно лишь знать, как это можно сделать. Фактически<br />
уверенность в том, что я потерплю неудачу, может стать наилучшим способом непременно потерпеть неудачу. Обратное также<br />
верно [4].<br />
Интеграция конфликтных убеждений.<br />
Один из метафорических образов для процесса изменения убеждений содержится в проповеди Иисуса о сеятеле и семени.<br />
Он говорит о том, что сеятель сажает семя повсюду. Семя содержит в самом себе чудо собственного бытия, своей идентичности,<br />
произрастая и развиваясь в побег по своим собственным законам. Сеятелю или садовнику не приходится заставлять семена расти.<br />
Семя само содержит в себе чудо жизни. Но сеятель должен подготовить контекст. Как говорится в проповеди, если сеятель бросает<br />
семя на невспаханную землю, то птицы уносят его. Если семя падает на каменистую почву, то его корни начинают сначала быстро<br />
расти, но затем солнце опаляет их, и поскольку камень не дает им прорасти глубже, растение засыхает. Если семя падает на землю,<br />
поросшую сорной травой, то оно может пустить корни, но затем сорные травы все равно заглушают его, потому что борются за<br />
одно и то же пространство. И лишь когда зерно падает на удобренную, вспаханную почву, то произрастает и приносит плоды. Это<br />
хороший метафорический образ для того, что называется развитием нового убеждения или идентичности [4].<br />
Человек, который серьезно болен, может сказать: "Я верю в то, что могу поправиться". Но иногда такое убеждение не имеет под<br />
собой никакой почвы, никаких глубоких оснований. Это всего лишь слова, всего лишь пустая надежда. Если нет богатых<br />
репрезентаций, если у человека нет внутренней карты того, как будет выглядеть выздоровление и хорошее самочувствие в<br />
визуальном, аудиальном и кинестетическом плане, то, следовательно, для роста этого убеждения не подготовлена почва. И если в<br />
это время появляется некто и заявляет: "Полная чушь, разумеется, ты не сможешь поправиться, нужно смотреть фактам в глаза:<br />
твое положение безнадежно" [3].<br />
Это подобно той птице, что прилетает и крадет зерно - убеждение из неглубоко вспаханной почвы. Человек оказывается,<br />
сломлен и начинает терзаться сомнениями и тревогой. Когда зерно падает на каменистую почву, переполненную ограничивающими<br />
импринтами из прошлого, то если даже у этого человека есть какие-то репрезентации, какие-то части, готовые воспринять данное<br />
182
Psychological sciences<br />
убеждение, корни этого убеждения не смогут хорошо прорасти. Они растут какое-то время, пока не наткнутся на старые молекулы,<br />
на эти камни из прошлого, не позволяющие корням новой идентичности проникнуть на всю глубину, сквозь все богатство<br />
жизненного опыта данного человека. И, оказавшись под гнетом трудностей, которые часто сопровождают всякий процесс<br />
изменения, это новое убеждение начинает чахнуть. Именно старая молекула, этот старый камень из прошлого и есть причина того,<br />
что данное убеждение не может как следует укорениться [4].<br />
Иногда, если семя падает вместе с другими семенами, они завязывают между собой борьбу за то, чье существо, чья<br />
идентичность будет наполнять собой этот сад. То или иное семя может прорасти неподалеку, получая питание из богатой почвы. И<br />
тогда у вас окажутся две взаимоисключающие личности, пытающиеся существовать на одном и том же месте [4].<br />
Литература:<br />
1. Основы общей психологии. С. Л. Рубинштейн. Составители, авторы комментариев и послесловия А.В.Брушлинский,<br />
К.А.Абульханова-Славская. СПБ: издательство «Питер» 2000.<br />
2. Анвар Бакиров, duals.ru. Практическая психология. http://www.sunhome.ru/psychology/14332<br />
3. Р.Кочюнас. Основы психологического консультирования. М.: "Академический проект", 1999<br />
4. Роберт Дилтс. Гипноз, транс, нейролингвистическое программирование http://narmed.ru/articles/gipnoz<br />
КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ТЯЖКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ<br />
ПОДРОСТКОВ Г. СУРГУТА<br />
Самойлова М.В, канд. психол. наук, зав. кафедрой<br />
Сургутский государственный университет ХМАО-Югры, Россия<br />
Участник конференции,<br />
Национального первенства по научной аналитике,<br />
Открытого Европейско-Азиатского первенства по научной аналитике<br />
В данной статье обобщены результаты практики судебных психолого-психиатрических экспертиз несовершеннолетних правонарушителей<br />
и представлена трагедия формирования личности современного подростка, которая наиболее отчетливо<br />
проступает в характере совершаемых им преступлений, в содержании мотивов преступных деяний, отношении к содеянному, в<br />
нарушении ценностно-смысловой оценки совершаемого деликта.<br />
Ключевые слова: правонарушение, подросток, делинквентное (аддиктивное) поведение, преступные мотивы, субъективная<br />
сторона преступления.<br />
In this article the results of the practice of judicial psychological – psychiatric examinations of underage delinquents are<br />
summarized and the tragedy of the present teenager personality (which more distinctly exudes through the nature of the<br />
crimes committed by them, through the criminal acts motives’ content, the attitude to their actions, the violation of the value<br />
– semantic estimates of the committed delict) is submitted.<br />
Keywords: delinquency, teenager, delinquent (addictive) behaviour, criminal motives, subjectivity of the crime.<br />
Внимание психологов к субъективной стороне преступления и его механизмам не ослабевает, особенно если этот вопрос<br />
касается формирующейся личности подростка. Подростковый возраст в психологии рассматривается как необыкновенно сложный<br />
[1,2,3,4, и мн.др.]. Биологические, психологические и социальные составляющие этого процесса влияют друг на друга чрезвычайно<br />
и многогранно. В связи с этим подросток часто оказывается чувствителен, раним, противоречив и особенно податлив влиянию<br />
условий окружающей его среды: «потребность в общении и самоутверждении подростка должна быть реализована в благоприятных<br />
условиях на основе социально значимой полезной деятельности. Если… самоутверждение осуществляется в неформальных<br />
подростковых группах, уличных, дворовых компаниях в форме асоциальных проявлений… оно может стать опасным криминализирующим<br />
фактором» [1, с. 420].<br />
Традиционно считается, что причина формирования «трудного» подростка лежит в неблагополучной среде, прежде всего - в<br />
семье. Несомненно, в «группу риска» попадают подростки из неполных, алкоголизированных семей, а также семей с наркозависимым,<br />
осужденным, психически больным и т.д., однако экспертиза случаев убийств, совершенных подростками, заставляет пересмотреть<br />
и существенно расширить границы этой группы.<br />
Объектом данного обсуждения выступает содержание ряда особо тяжких преступлений, совершенных подростками г. Сургута,<br />
а собственно предметом - личность современного малолетнего преступника.<br />
Проблематика несовершеннолетней преступности обсуждается давно [1, 3, 4 и мн.др.]. Опыт работы автора в амбулаторной<br />
судебной психолого-психиатрической экспертизе (АСПЭК) Сургутского клинического психоневрологического диспансера показывает,<br />
что около 80 % преступлений данного возраста - это кражи, грабежи, хулиганство, тогда как изнасилования и убийства, то есть<br />
собственно преступления против личности, составляют не такой большой процент. Однако ряд жестоких преступлений, совершенных<br />
подростками, начиная с 2007 года, потрясает как фактологической (жестокость, убийство без объективных причин), так и<br />
субъективной стороной содеянного (отношение к жертве, осмысление и объяснение причин преступного деяния, описание события,<br />
оценка последнего, нравственно-ценностная ориентировка в случившемся и т.п.).<br />
Приводимые в качестве примера преступления, попадающие под ст. 105 УК РФ, были совершены подростками<br />
1991–93 г.р., всего 15 чел. Все они нормального психического развития, на «Д» учете в СКПНД не состоят. Один<br />
признался, симпатизирует взглядам «скинхэд», другой имел проблемы в поведении, из-за которых сумел закончить<br />
только 9 классов, к моменту преступления ему исполнилось 16 лет, но он не учился и не работал. У остальных положительный<br />
анамнез: из так называемых благополучных семей, имеют среднюю и хорошую успеваемость, двое<br />
обучались в музыкальной школе. Одним словом, общую выборку можно охарактеризовать как «обычные современные<br />
подростки», не относившиеся к пресловутой «группе риска», не имеющие поведенческих или прочих болезненных<br />
нарушений психики, а также задержки психического развития. По результатам амбулаторной судебной психологопсихиатрической<br />
экспертизы все они признаны «здоровыми». Однако нельзя не заметить общие, в высшей степени<br />
дезадаптивные черты как в поведении подростков во время деликта, так и субъективном отношении к совершаемому<br />
преступлению Они следующие:<br />
183<br />
Juridical psychology
Psychological sciences<br />
Juridical psychology<br />
Мотивы разрушения и острых ощущений на фоне выраженной несформированности гуманного и ценностного отношения<br />
подростков к здоровью и жизни «другого» человека.<br />
В ряде случаев подростки намеренно искали «жертву», чтобы выразить агрессию, разрядиться. В других случаях к тяжелым<br />
преступлениям привел разрушительный агрессивный способ общения и решения минимально конфликтных ситуаций.<br />
Размытость ценностных установок, граничащая с патологической, обнаруживается у большинства здоровых подростков,<br />
совершивших самые разные преступления (по ст. 158 -кража, 161 - грабеж, 162 – разбой), а мотивы быстрого и легкого обогащения<br />
рассматриваются современными подростками как естественные. Поражает легкость, с которой они говорят о содеянном, сожалея<br />
лишь о правовом последствии, без обращения к нравственной стороне преступления. Например, Л.: 17 лет, обучается на слесаря<br />
КИПиА, имеет положительные характеристики с места учебы, подрабатывал на стройке, чтобы «деньги на карманные расходы у<br />
мамы не просить», совершил кражу дорогостоящего кабеля с места работы. Свой поступок объяснил так: «Я на стройке шабашил.<br />
Нужны были деньги... Деньги были нужны, а денег не было… На стройке все сделали гладко (приготовили кабель для хищения,<br />
порезав на части – прим. автора), а на улице не подумали за видеокамеру. Ошибка, конечно, что я вообще взялся за это дело. Но<br />
он (подельник – прим. автора) предложил – я согласился. Деньги – они не лишние, а делов-то была фигня! Кто от легких денег откажется?!».<br />
Подобные ценностные установки личности современных подростков трудно назвать «здоровыми», особенно если речь идет о<br />
жизни людей. Импульсивная агрессивность, связанная с неуравновешенностью эмоционально-волевой сферы формирующейся<br />
психики подростка, давно рассматривается как одна из распространенных причин совершения подростками насильственных<br />
преступлений [1,3,5,6]. Вместе с тем невозможно отрицать, что мотивы быстрого обогащения, разрушения, насилия, абсолютного<br />
прагматизма, безответственности, одним словом, - асоциальные мотивы - сформированы у данных подростков не в отдельной<br />
ячейке общества – семье, а контекстом существующего на сегодняшний день упадка нравственности и человечности всего<br />
российского общества. Обобщая суждения самих подростков, признаки этого упадка можно сформулировать так:<br />
- размытость ценностей в затянувшийся переходный период;<br />
- стагнация на прагматических ценностях рыночной культуры в противовес экзистенциальным, духовным, эстетическим;<br />
- экономическая нестабильность, продолжающееся расслоение на «нищих» и «богатых»;<br />
- расхождение государственных программ возрождения России с действительностью жизни «в глубинке»;<br />
- неверие в возможность «честного» заработка («да везде кидают», «все воруют – попадаются не все» и т.п.), недоверие к<br />
правительству («да они там все воруют», «да кто президента посадит, он же главный – может делать что хочет» и т.п.), неуверенность<br />
в защищенности себя как субъекта страны («на улице зло», «сейчас либо ты, либо тебя» и т.п.), снижение значимости собственного<br />
существования в ней как законопослушного гражданина;<br />
- свежесть и притягательность мифов о внезапном и случайном способе обогащения, захватывающей жизни уголовных<br />
авторитетов, поддерживаемая фильмами типа «Бригада» и другими «произведениями» современного кинематографа и<br />
непосредственными трансляциями криминальных «разборок» с места событий.<br />
Формирование подростка в подобных условиях усугубляет и без того трудный возраст, становясь причиной не просто<br />
насильственного, а сверхжестокого насильственного преступления, которое по композиции и составу может смело соперничать с<br />
преступлениями психически больного: убийство ради нескольких литров бензина, ради самоутверждения перед группой сверстников,<br />
ради «нечего делать», ради поддержания идеи ирреального «бойцовского клуба», ради развлечения, выплеска агрессии и т.п.<br />
Нарушение прогноза результата собственных действий, связанных с нанесением физических повреждений другому; несформированность<br />
понятий «физическая боль», «опасность для жизни», «вред (ущерб) здоровью» и т.п.<br />
После неоднократных ударов жертве по голове подросток заявляет, что у него «были мысли, что он (потерпевший<br />
– прим. автора) может умереть». Обращает на себя внимание практически полное непонимание угрозы, осуществляемой<br />
здоровью и жизни другого человека: «Ну, мы же не хотели до такого бить. Злость была просто и всё» И.(16.1);<br />
«Кто-то перевязал ему шею проводом и давай его тащить…Он хрипел. Лысый сказал: «Ща оттащим, пусть<br />
полежит, передохнет», а мужчина резко вздохнул и всё. Все сначала не поняли, Черный пошевелил его, думали, он<br />
притворяется, а он не дышит…»(Е.(16.10); «У меня отвертка была, я не понимал, что делал, пьяный, наверное, был,<br />
хотел просто припугнуть, ткнул его пару раз, а он взял и умер» К (15.9); «Я много не бил. Я всего 2 или 3 раза ударил<br />
палкой в область таза… ближе к ногам. Я же не такой как А., чтобы топтать человека до полусмерти» (Г 14.6);<br />
после многочисленных ударов ногой в голову подросток А. (15.3) участливо спросил: «Живой?! Ну, мужик, извини,<br />
что так получилось» (мужчина скончался на месте).<br />
Таким образом, осуществление действий, не совместимых с жизнью, рассматривается подростками как игра: удушение, сокрушительной<br />
силы удары с применением предметов, нанесение ран отверткой не выделяются в группу опасных для жизни, вызывают<br />
удивление и негодование: «Отчего он умер? Я думаю, его после нас кто-то убил, а на нас сваливают теперь?!» (З., 14.9), «Я же не<br />
знал, что всё так обернется!» (Г., 14.6), «Я не знаю, что на меня нашло? Ну, я же не думал, что так получится, я не хотел» (К., 15.9).<br />
Формальное, безучастное описание жестоких трагических событий как самых заурядных и обыкновенных.<br />
«Что тут рассказывать? Выпили. Пошли вскрывать. Украл и разбил машину» (реально – убийство водителя, (Г., 15.3);<br />
«Побили – ну, это нормально… Так, особо жалости никакой не было… Задержали через 4 дня: я и не вспоминал особо. – Готов<br />
сидеть в тюрьме? – Да. – Сколько? – Лет восемь… Всего-то хотели мужика на деньги развести, а он себя неправильно повел, сам<br />
нарвался» (И., 16.); «Все знали, куда идут. Что теперь будет? Судить будут. Срок дадут… Я за своё сижу, я в курсе» (А., 15.3);<br />
«Произошло преступление. Да не помню, сколько выпил. Сначала двое пили, потом ещё подошли. Без адвоката говорить не буду,<br />
да, там правда (указывает на дело,) читайте, там все написано, я со всем согласен… » (М., 16.3, убийство).<br />
Уровень правосознания чрезвычайно низкий, граничит с детским:<br />
«Я дома только понял, что бомж, он тоже человек, получается, я слабого бил» (Г., 14.6); «Хотели просто на<br />
деньги развести, а если бы не было, просто магнитолу забрать» (И., 16.1); «А можно, я лучше в Армию пойду, в<br />
Чечню, чем в тюрьме сидеть?» (А., 15.3).<br />
Не намного выше уровень и у подростков, совершивших кражи личного имущества, зачастую воровство рассматривается как<br />
развлечение, невинная шалость: «Мне просто интересно было посмотреть, что за телефон, я его посмотреть взял, а получилось,<br />
что украл (Г., 15.6, норма); «Мы всегда тащили всякие магнитофоны с дач, бензин сливали, да, в общем, такие детские шалости»<br />
(О., 16.1, норма); «Я на других насмотрелся: кто-то украл магнитолу – за 4 тысячи продал. А мне мама по сто рублей дает. Я<br />
посчитал: долго копить, украсть быстрее. Все равно мир испорчен: все воруют, это сделать просто. Все воруют, просто<br />
попадаются не все. Это дело удачи» (Р., 15.4, норма).<br />
14 из 15 подростков в качестве досуга предпочитали компьютерные игры, особенно по сети или в клубе. Игры<br />
преимущественно милитаристского, разрушительного содержания, предполагающие многочисленные убийства противника, представленного<br />
как в виде монстров, так и реалистично изображенных людей. Вот самые популярные среди нашей случайной<br />
выборки: Doom 3, s.t.a.l.k.e.r., Counter Strike, GTA.<br />
184
В ряду прочих любимым жанром художественного фильма 15 из 15-ти подростков назвали «боевик», 9 из 15-<br />
ти отметили триллеры.<br />
Последние два пункта, видимо, необходимо рассматривать и как причину несформированности гуманных ценностей<br />
у подростков. Именно 2007 год оказался в каком-то смысле роковым для осуществления выше описанных преступлений,<br />
а главное, неслучайным: подростки начала 90-х годов рождения – это дети постперестроечного времени, отмененных<br />
«советских» и неоформленных «рыночных» ценностей, а также одновременно первые «чистые испытуемые» -<br />
потребители вышеозначенных компьютерных игр, «боевиков» и многочисленных документальных сюжетов СМИ об<br />
убийствах, грабежах, катастрофах, под влиянием которых формировалась детская психика. Очевидно, что в опоре на<br />
сюжеты данных игр и фильмов формировались мотивы, способные привести к жестоким преступлениям: «В.<br />
предложил идею создать свой бойцовский клуб, нам она понравилась. Ходили два раза панков бить, хотели научиться<br />
драться по-настоящему. Мне вот Стивен Сигал больше всего нравится, он самый крутой: всех строит без разговоров<br />
(Д., 14.0).<br />
Влияние подобной компьютерной и кинопродукции на ценностно-смысловую, и, в конечном итоге, на мотивационную<br />
сферу подростков более чем прозрачно и достаточно отчетливо видно в совершенных преступлениях: насилие осуществляется<br />
и принимается подростками как естественная закономерность жизни, в спонтанных суждениях о которой<br />
обнаруживалось явное недоверие к обществу, высокая настороженность, готовность к агрессии в любую минуту:<br />
«сейчас повсюду либо ты, либо тебя» (И., 16.1), «сумки сотовые забирают, надо уметь защищаться» (Г., 14.6), «Все<br />
равно мир испорчен: все воруют, это сделать просто. Все воруют, просто попадаются не все. Это дело удачи» (Р.,<br />
15.4, норма), «для меня это (намеренное участие в драках – прим. автора) самозащита от армии (А., 15.3), «побили,<br />
ну, это нормально…бить не интересно, приходится драться, надо же уметь выживать (И., 16.1)., «я не люблю<br />
ходить на улицу…там зло на улице» (Е., 16.10).<br />
Таким образом, если представить преступления, совершаемые подростками, как естественный эксперимент, то<br />
вполне отчетливо обрисовывается его независимая переменная, а именно:<br />
- культ боевиков, фильмов-ужасов, низкопробных сериалов, пропагандирующих насилие;<br />
- крайне агрессивное содержание компьютерных игр (s.t.a.l.k.e.r., Counter Strike, GTA и др.);<br />
- засилье в программах СМИ сюжетов и прямых трансляций, содержащих информацию о насилии, убийствах и<br />
прочих криминальных событиях и обнаруживающих психологическую неграмотность по структуре подачи и<br />
построению сюжета (близкая съемка кровавых сцен и их последствий, превышение лимитов трансляции высоко<br />
негативной информации и т.п.);<br />
- общий упадок нравственных, духовных ценностей в современном российском обществе<br />
Не менее отчетливо обнаружилась и зависимая переменная – ценностно-смысловая сфера подростков, которая под<br />
воздействием независимой переменной демонстрирует следующие изменения:<br />
- идентификация виртуальной и реальной действительности: персонаж игр способен «умирать» не сразу, «оживать»<br />
после ряда высоко агрессивных воздействий (ударов, расстрелов), пополнять «запас жизни»; киногерой стоически переживает<br />
агрессивные физические воздействия, любое из которых в реальной жизни может выступить причиной<br />
тяжкого увечья и даже смерти. Смешению реальности с виртуальной действительностью способствует и реалистичность<br />
образа компьютерного изображения: современные игры приближаются к полной имитации образа живого человека,<br />
не менее реалистичны и красочны сцены ранений и убийств в фильмах. Стихийное создание подростками «бойцовского<br />
клуба» за счет осуществления настоящих драк - лучшее подтверждение развертывания виртуальных «изысков» игр и<br />
боевиков в реальной действительности жизни.<br />
- несформированность понятий «физическая боль», «опасность для жизни», «угроза (вред) здоровью»: стойкость<br />
и «неубиваемость» главных героев игр и фильмов ведет к искажению чувствования физической боли, жизнестойкости<br />
человека, что в своем крайнем проявлении нашло отражение во всех случаях убийств, представленных к анализу.<br />
- обесценивание человеческой жизни начинается с графики и сюжета компьютерной игры милитаристского типа,<br />
красочных и динамичных сцен боевиков и триллеров, которые подкрепляются документальными сюжетами убийств в<br />
СМИ. Игры учат постоянному и быстрому уничтожению «врагов», имеющих реалистичный человеческий образ, детализация<br />
кровавых сцен в играх, фильмах и СМИ утверждает в формирующемся сознании ребенка и подростка естественность<br />
и «нормальность» убийства. Ребенок, погруженный с раннего детства в подобную среду, не имеет<br />
возможности взрастить ценностное отношение к жизни, когда ему предлагают ежедневно смотреть на убийства и осуществлять<br />
их виртуально.<br />
- мотивы разрушения превалируют над мотивами созидания; культ агрессии над конструктивным решением<br />
проблемных ситуаций.<br />
Современное информационное общество, таким образом, само создает и продает насилие. Подростковая субкультура<br />
максимально чувствительна ко всему контексту социума, в связи с чем подросток, как в зеркале, отражает состояние<br />
общества в целом, так что у преступлений нашей эпохи очерчивается свое лицо: жесткое, агрессивное, не знающее<br />
цену здоровью и жизни другого человека. На сегодняшний день необходимо признать, что подобные изменения<br />
личности подростков-правонарушителей по крайней мере граничат с психопатологическими. В связи с этим необходимо<br />
либо воздействовать на источник подобного анормального формирования – социальную среду, либо признать нормой<br />
увлеченность детей и подростков играми разрушительного содержания, боевиками, триллерами, сюжетами реальных<br />
смертей в СМИ, отодвигать духовное, нравственное, культурное развитие на задний план и готовиться к приходу<br />
нового поколения. Только вот можно ли будет назвать его «нормальным» с позиции общечеловеческих ценностей?<br />
Литература:<br />
1. Васильев, В.Л. Юридическая психология/В.Л. Васильев. – Спб.: Питер Пресс, 1997. – 656 с.<br />
2. Мамайчук, И.И. Экспертиза личности в судебно-следственной практике / И.И. Мамайчук. – Спб.: Речь, 2002. – 255 с.<br />
3. Медицинская и судебная психология: Курс лекций. Учебное пособие / Под ред. Т.Б. Дмитриевой, Ф.С. Сафуанова. – М.:<br />
Генезис, 2004. – 606 с.<br />
4. Клиническая и судебная подростковая психиатрия / Под ред. В.А. Гурьевой. – М.: Генезис, 2001. – 480 с.<br />
185<br />
Psychological sciences<br />
Juridical psychology
Psychological sciences<br />
УДК 343.575<br />
КАТЕГОРИИ «ВОЗМОЖНОСТЬ» И «ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ» И ИХ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ<br />
В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА<br />
Суденко В.Е, канд. юрид. наук, доцент<br />
Юридический институт Московского государственного университета путей, Россия<br />
Участник конференции<br />
Рассматриваются категории «возможность» и «действительность» и их методологический потенциал в уголовном праве;<br />
соотношение формальной возможности и невозможности, абстрактной и конкретной возможности.<br />
Ключевые слова: категории, возможность, действительность, реальная и формальная возможность, абстрактная<br />
возможность.<br />
We are considered the categories of «possible» and «reality» and their methodological potential in the criminal law; correlation of the<br />
formal possibilities and impossibilities, of abstract and concrete ones.<br />
Keywords: categories, possibility, reality, the real and formal possibility, an abstract possibility.<br />
Juridical psychology<br />
Философия учит, а жизнь подтверждает, что развитие объективного мира невозможно без постоянного обновления, отмирания<br />
старого, отжившего и возникновения качественно нового. Этот диалектический процесс представляет собой сложное, нередко противоречивое<br />
явление. В стремлении познать сущность нового - новых явлений, событий и предметов, человек исследует их<br />
историю, обращаясь при этом к их прошлому. Постигнув сущность, человек обретает способность предвидеть будущее явлений,<br />
событий или предметов, так как общей чертой всех процессов изменения и развития, связанной с их непрерывностью, является обусловленность<br />
будущего настоящим, ещё не появившихся явлений – уже существующими.<br />
Новое, как таковое, не появляется внезапно, оно существует в недрах старого как нечто не сложившееся, как возможность возникновения<br />
и развития того или иного события, явления или предмета. В процессе своего развития новое, существуя лишь как<br />
возможность, при наличии определённых условий, приходит в такое состояние, когда оно побеждает старое и становится явью, то<br />
есть действительностью. До определённого времени, пока не победило новое, старое существует как действительность. Поэтому<br />
развитие нового (возможного) идёт в борьбе со старым (действительным), отживающим.<br />
Одна из сторон взаимосвязи между объективно существующими и возникающими на их основе явлениями, событиями или<br />
предметами представлена в теории диалектики связью категорий «действительного» и «возможного».<br />
Рассматривая категорию «возможности», необходимо отметить, что возможность - это то, отсутствие чего не детерминировано<br />
однозначно ни внутренними факторами, ни внешними обстоятельствами. Исходя из такого понимания возможности, можно<br />
сделать вывод, что всё необходимое является возможным. Категория возможности отражает тот этап движения, развития явлений,<br />
когда они существуют только в виде предпосылок либо в качестве тенденций, присущих некоторой действительности.<br />
Из сказанного следует, что «возможность» в диалектике – это определённая предпосылка нового, тенденция в развитии<br />
событий, предметов, процессов, явлений, то есть всё то, что зарождается и вызревает в самой объективной действительности и при<br />
соответствующих условиях становится действительностью. Возможность - это совокупность порождаемых единством многообразных<br />
сторон действительности предпосылок её изменения, превращения в иную действительность.<br />
В противоположность возможному как тому, что может быть, но чего ещё нет, действительность - есть уже ставшее, то есть осуществившаяся<br />
возможность и основа формирования новых возможностей.<br />
Под «действительностью» диалектика понимает уже реализованную или осуществлённую возможность. В объективном мире<br />
вообще и в социальной жизни в частности содержится много различных возможностей, поэтому каждая возможность является потенциальным<br />
моментом развивающейся действительности. Возможность и действительность, таким образом, выступают как тесно<br />
взаимосвязанные противоположности.<br />
Развитие возможности в действительность происходит таким образом, что возможность становится действительностью, а эта<br />
новая действительность, в силу различных причин, порождает новые возможности, которые при наличии соответствующих<br />
условий также осуществляются, становясь действительностью. Данный процесс превращения возможности в действительность и<br />
порождение действительностью новых возможностей бесконечен, как бесконечно развитие объективного мира.<br />
Диалектические категории «возможность» и «действительность» проявляются в уголовном праве при исследовании проблем<br />
многих институтов этой отрасли права, в том числе субъективной стороны преступления, стадий развития преступной деятельности<br />
(неоконченное преступление) и др. Так, при неосторожной форме вины в виде преступного легкомыслия виновный осознаёт общественную<br />
опасность своего деяния, предвидит возможность наступления общественно опасных последствий, но не только не<br />
желает их наступления, но, наоборот, стремится не допустить перерастания такой возможности в действительность. При этом он<br />
рассчитывает, например, на свою возможность предотвратить преступное последствие. Здесь следует отметить не совсем корректное,<br />
по нашему мнению, законодательное определение легкомыслия, когда законодатель в части 2 статьи 26 Уголовного кодекса РФ<br />
указывает лишь на предвидение возможности наступления общественно опасного последствия, не говоря об осознании того, что<br />
лицо совершает. Во-первых, вряд ли можно что-либо предвидеть, не осознавая этого, а во-вторых, если лицо не осознаёт<br />
общественной опасности своего деяния, то оно не подлежит уголовной ответственности, что вытекает из части 1 статьи 21<br />
Уголовного кодекса РФ. Из этого возможен вывод: все лица, привлечённые к уголовной ответственности за преступления,<br />
совершённые по легкомыслию, осуждены незаконно потому, что они не осознавали общественной опасности своего деяния.<br />
Думается, что законодателю необходимо исправить это положение, добавив в часть 2 статьи 26 Уголовного кодекса после слов<br />
«если лицо» слова «… осознавало общественную опасность своего деяния» и далее по тексту данной нормы.<br />
Возможность не вносится в самую действительность, она в ней содержится, имеет объективный характер. Следует различать<br />
реальную и формальную возможность. Реальная возможность – это возможность, подготовленная всем ходом развития явлений,<br />
процессов, вещей, это возможность, которая сложилась и выросла в самой действительности и для которой в самой действительности<br />
имеются условия для её реализации. Реальная возможность борьбы с преступностью – это возможность сначала локализовать её<br />
действительное состояние, ограничить преступность, а далее снизить отдельные виды преступлений.<br />
При совершении преступления с прямым умыслом лицо осознаёт общественную опасность своего деяния и предвидит<br />
неизбежность или реальную возможность наступления преступных последствий. При этом виновное лицо может предвидеть как<br />
реальную возможность, так и неизбежность наступления соответствующих общественно опасных последствий своего деяния.<br />
Предвидение реальной возможности наступления преступных последствий означает, что такие последствия по каким-то причинам,<br />
при вмешательстве каких-то случайностей, могут и не наступить. Прямой умысел означает, что лицо предвидит как неизбежность,<br />
186
так и реальную возможность наступления преступного результата. В то же время, при косвенном умысле виновный предвидит<br />
только возможность наступления такого результата, но не как неизбежность, и такая возможность не является конкретной.<br />
Формальная возможность может быть выражена в абстракции, созданной сознанием людей без учёта объективных законов, без<br />
их глубокого анализа, на основе искажённого отражения действительности. О формальной возможности можно сказать, что это<br />
фантазия, не опирающаяся на объективную реальность, это пустая абстракция. Формальная возможность равноценна невозможности.<br />
Формальной возможностью являются разговоры, призывы и лозунги о полном искоренении преступности, пустые обещания<br />
показать «последнего преступника» и т. п. Такие разговоры являются следствием либо сознательного обмана, либо пустыми<br />
несбыточными мечтами, иллюзией, поскольку до тех пор, пока существует общество, в обществе будут существовать и противоречия.<br />
А противоречия рождают конфликты, из которых рождается и преступность. Происходит это потому, что субъективно несовершенны<br />
и общество, и люди, и что общественное сознание нередко опережает индивидуальное.<br />
В то же время необходимо иметь в виду и другое значение данного понятия, где формальная возможность не равна<br />
невозможности. При таком понятии формальная возможность связана с научным предвидением, но она ещё остаётся формальной,<br />
так как не имеет объективных условий в данное время для превращения в действительность, хотя такие условия могут возникнуть<br />
в будущем, поскольку это не противоречит объективным законам развития. Диалектика требует строго отличать пустые формальные<br />
возможности (невозможность) от формальных возможностей, связанных с научным предвидением, исследованием тенденции развития.<br />
Когда мы говорит о преступном легкомыслии, то оно, как правило, заключается в проявлении формальной возможности<br />
предотвратить наступление преступного последствия. Причём, такая возможность реальна, а не абстрактна. Например, водитель,<br />
управляя автомашиной, надеется успеть «проскочить» на зелёный сигнал светофора, для чего превышает разрешённую скорость,<br />
но, несмотря на это, не успевает в определённый момент затормозить и сбивает пешехода. Здесь формальная возможность не равна<br />
невозможности.<br />
Все возможности возникают и развиваются в определённых конкретных условиях. Реализация возможности в действительность<br />
также происходит только при наличии необходимой и достаточной для этого совокупности условий. Такая связь возможности с<br />
условиями позволяет различать возможности абстрактные, общим и существенным признаком которых является отсутствие в действительности<br />
достаточных для их реализации условий и факторов; и конкретные, для осуществления которых такие условия<br />
имеются.<br />
Абстрактной возможностью были лозунги о полном искоренении преступности. Известно, что В. Ленин на основе сделанного<br />
им прогноза сформулировал положение о нисходящей тенденции преступности: «Мы знаем, что коренная социальная причина<br />
эксцессов, состоящих в нарушении правил общежития, есть эксплуатация масс, нужда и нищета их. С устранением этой главной<br />
причины эксцессы неизбежно начнут «отмирать» 1 . Хотя абстрактная возможность в определённом смысле противоположна<br />
конкретной, эта противоположность относительна. Всякая возможность начинает своё существование в виде более или менее<br />
абстрактной, а реализоваться она способна только в качестве конкретной, когда сложится совокупность необходимых и достаточных<br />
для этого условий. Возможность локализации и сокращения отдельных видов преступлений может быть достигнута только при<br />
условии безапелляционного изгнания из правоохранительных органов всех, хоть чем-то скомпрометировавших себя сотрудников,<br />
привлечения к уголовной ответственности преступников любых должностных рангов, превращения принципа равенства всех<br />
перед законом в реальную действительность.<br />
Практическая значимость различения возможностей абстрактных и конкретных основана на том значении, которое имеют<br />
условия для превращения возможного в действительное. Успешной может быть лишь деятельность по осуществлению возможностей<br />
локализации преступности и искоренении тех её видов, для которых созрели объективные условия (когда все государственные<br />
деятели высшего звена и более низких уровней будут действительно заинтересованы в этом не на словах, а на деле). Абстрактные<br />
возможности сокращения преступности в целом должны учитываться как более отдалённая перспектива, а практические задачи по<br />
отношению к ним состоят в организации деятельности, направленной на создание определённых условий, в которых эти<br />
возможности могут быть реализованы.<br />
Имеются реальные возможности сокращения преступности за счёт имеющихся наработок, за счёт повышения оперативной<br />
осведомлённости оперативных служб, реализации принципа неотвратимости уголовной ответственности за совершённые<br />
преступления. Но для этого требуется искоренить порочную практику укрытия преступлений в угоду повышения процента раскрываемости,<br />
превратить равенство всех перед законом из возможности в действительность, разоблачать и привлекать к уголовной ответственности<br />
коррумпированных чиновников всех уровней и должностей.<br />
Вопрос о возможном и действительном и их соотношении привлекал внимание ещё древних мыслителей. Первая систематическая<br />
разработка этого вопроса отмечается у Аристотеля, рассматривавшего возможное и действительное в качестве всеобщих сторон<br />
реального бытия и познания, как тесно взаимосвязанные моменты становления. В то же время, по нашему мнению, в ряде случаев<br />
Аристотель проявлял непоследовательность, допускал отрыв возможного от действительного. В его учении видны уступки<br />
идеализму в виде учения о боге, как «форме всех форм», «перводвигателе» мира и высшей цели всего существующего.<br />
Позицию, подобную позиции Аристотеля, занимал и Фома Аквинский, который считал бога источником движения и его целью,<br />
разумной причиной осуществления возможного.<br />
Однако, наряду с господствующей схоластикой, в средние века существовала и прогрессивная тенденция в философии,<br />
пытавшаяся преодолеть аристотелевскую непоследовательность и представить материю и форму, возможность и действительность<br />
в единстве. Эта тенденция нашла отражение в X-XI вв. в творчестве Абу-Али Ибн-Сины (Авиценны) и в XII веке у арабского<br />
философа Ибн-Рошида (Аверроэса).<br />
Идею единства возможности и действительности на основе материализма развил Дж. Бруно утверждая, что во Вселенной не<br />
форма порождает действительность из пассивной материи, а вечная материя обладает бесконечным многообразием форм. Материю<br />
Дж. Бруно толковал как нечто выступающее одновременно в качестве абсолютной возможности и абсолютной действительности 2 .Однако<br />
Дж. Бруно усматривал несколько иное отношение между возможным и действительным в мире конкретных вещей. Возможное и<br />
действительное у него не совпадают, их необходимо различать, что, однако, не исключает из взаимосвязи.<br />
Позже Им. Кант развил субъективно-идеалистическое толкование проблемы возможного и действительного. Он отрицал<br />
объективное содержание этих категорий и утверждал, что «…различие возможных вещей от действительных есть такое, которое<br />
имеет значение только субъективного различия для человеческого рассудка» 3 . То есть, он считал возможным то, мысль о чём не<br />
содержит противоречия.<br />
187<br />
Psychological sciences<br />
1 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 33. С. 91. В последующие годы суждение об отмирании преступности, взятое в кавычки Лениным, часто огрублялось<br />
комментаторами, которые основывали на нём свои безоговорочные утверждения о непрерывном сокращении преступности в стране как о единственной<br />
тенденции вплоть до полной её ликвидации. Даже в Программу КПСС, принятую в 1963 г., было включено положение, действовавшее до 1986 г. о том, что<br />
в нашем обществе «не должно быть правонарушений и преступности» и что уже «имеются все предпосылки для её ликвидации» (Материалы ХХII съезда<br />
КПСС. М., 1963. С. 400).<br />
2 См.: Бруно Дж. Диалоги. М., 1949. С. 241-242, 247.<br />
3 Кант Им. Критика способности суждения. Изд. Наука, 2006. С. 294..<br />
Juridical psychology
Psychological sciences<br />
Литература:<br />
1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2003.<br />
2. Бруно Дж. Диалоги. - М., 1949.<br />
3. Калмыков В.Н. Основы философии. Учебное пособие студентам высших учебных заведений. - Минск «Вышэйшая школа»,<br />
2003г.<br />
4. Кант Им. Критика способности суждения. - СПб., Изд. Наука, 2006.<br />
5. Керимов Д.А. Философские проблемы права. - М., 1972.<br />
УДК 159.9<br />
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ УСПІШНОСТІ У СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ<br />
Ващенко І.В., д-р психол. наук, проф.<br />
Андросович К.А., аспірант, мол. наук співробітник Інституту обдарованої дитини НАПН України<br />
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна<br />
Учасники конференції<br />
Стаття присвячена вивченню проблеми професійної успішності у сучасній психологічній науці. За даною тематикою проведено<br />
теоретичний аналіз психологічних досліджень і наукових підходів до поняття професійної успішності в рамках психології праці.<br />
Ключові слова: особистість, професійна успішність, професійно важливі якості, психологічні детермінанти,<br />
критерії успішності.<br />
The article is devoted to studying the problem of professional success in the modern psychological science. On the subject conducted<br />
theoretical analysis of psychological research and scientific approaches to the concept of professional success in the psychology of work.<br />
Keywords: personality, professional success, professionally important qualities, psychological determinants, success criteria.<br />
Labour psychology, engineering psychology, ergonomics<br />
У вітчизняних і зарубіжних психологічних джерелах проблемі професійної успішності присвячено чимало наукових праць<br />
(В.А. Аверін, Дж.В. Аткінсон, О.В. Бодров, А.О. Деркач, С.А. Дружилов, І.В. Дрюпіна, Г.М. Зараковський, Е.Є. Зеленіна, О.Г.<br />
Івашкін, Є.О. Клімов, О.К. Клімова, Н.В. Кузьміна, А.О. Мігель, А.В. Хібін, Л.М. Мітіна, Ю.П. Поваренков, В.Л. Романов, П.О.<br />
Тропотяга, Я.С. Хаммер, О.П. Четвергова, В.Д. Шадріков та ін.). Досліджена залежність професійної успішності від взаємин із<br />
колегами і керівництвом (Л.Г. Дікая, Г.Ю. Крилова та ін.). Вивчена роль професійно важливих якостей особистості у розвитку<br />
професійної успішності (І.Ю. Антипіна, Г.Х. Альтман, О.В. Бодров, Е.Ф. Зеєр, М.Х. Мескон, В.Д. Шадріков та ін.).<br />
Ефективність діяльності машиністів локомотивів залежить від сукупності особистісних властивостей, серед яких: високий<br />
рівень суб’єктивного контролю, впевненість у собі, рішучість, самостійність, дещо підвищений рівень тривожності тощо (Т.Н.<br />
Федоренко). Успішність управлінської діяльності пов’язана з такими особистісними якостями керівників середньої ланки залізничного<br />
транспорту, як енергійність, схильність до ризику, емоційна стійкість, прагнення до суперництва та ін. (А.К. Максимов).<br />
В цілому продуктивність діяльності залежить від наявності у фахівця професійно важливих якостей, серед яких: цілеспрямованість,<br />
рішучість, відповідальність, спостережливість, дисциплінованість, витривалість, емоційна стійкість, самоконтроль та ін. (Е.Ф.<br />
Зеєр).<br />
Нами виявлені психологічні дослідження, в яких проаналізовані складові професійної успішності та специфіка її окремих<br />
етапів у різних сферах діяльності: виробничій (Р.М. Загайнов, В.Г. Зазикін, В.Н. Кузнєцов та ін.), воєнній (І.В. Дрюпіна, Ю.М. Зуєв,<br />
П.А. Корчемний та ін.), педагогічній (Е.Є. Зеленіна, Т.М. Хрусталева та ін.), управлінській (О.Г. Івашкін, В.Л. Романов, Г.В.<br />
Суходольський та ін.), брокерській (В.Г. Буличкіна, Т.В. Корнілова та ін.). Мотиваційно-особистісні детермінанти успішності<br />
діяльності офіцерського складу досліджено Ю.М. Зуєвим [1].<br />
Клімовою О.К. досліджено успішність здійснення підприємницької діяльності через ступінь присвоєння суб’єктом її основних<br />
структурно-динамічних компонентів: підприємницьких мотивів, цілей і ресурсів [2].<br />
Московським В.В. визначено складові професійної успішності викладача вищої школи (ступінь усвідомлення себе суб’єктом<br />
своєї професійної діяльності, рівень розвитку професійної самосвідомості; рівень розвитку професійних здібностей викладача<br />
вищої школи; знання і саморозуміння викладачем оцінки самого себе соціумом [3].<br />
Виявлено психологічні детермінанти професійної успішності майбутніх фахівців (Є.О. Клімов, В.Н. Обносов, О.А. Семенова,<br />
Л.А. Сергєєва та ін.). Науковці розглядали професійні уявлення як психологічну основу становлення майбутнього фахівця: уявлення<br />
про професію й особистість фахівця, уявлення про себе як майбутнього фахівця, уявлення про можливе професійне майбутнє. На<br />
формування професійної успішності майбутнього фахівця суттєво впливають такі психологічні детермінанти (П.О. Тропотяга):<br />
рівень сформованості професійних уявлень (про себе як майбутнього фахівця і про можливе професійне майбутнє), часова<br />
професійна перспектива особистості (устремління в майбутнє), ступінь емоційної привабливості професійного майбутнього,<br />
характер загальної інтернальності в професійній діяльності [4].<br />
Професійна успішність майбутнього фахівця залежить не лише від його здібностей, особистісних якостей, мотивації і цінностей,<br />
а й від їх відповідності обраній спеціальності, від сформованої ще під час навчання у вузі здібності вибудовувати стратегії і тактики<br />
гнучкої орієнтації в професійному середовищі (О.В. Садон). Йдеться про формування під час навчання у вузі бази такого<br />
орієнтування, яке б включало “кар’єрну компетентність”, тобто систему уявлень про кар’єру, можливості і шляхи кар’єрного росту<br />
(за Е.А. Могільовкіним), а також “кар’єрну самоефективність”, тобто здатність до кар’єрного цілепокладання, кар’єрного планування<br />
і вміння вирішувати кар’єрні проблеми ( за Н. Бетц). Досліджено вплив на розвиток професійної успішності сукупності позитивних<br />
результатів, накопичених упродовж всієї кар’єри як в психологічному плані, так і в плані об’єктивних професійних досягнень (І.<br />
Мервільд, Я.С. Хаммер, Д.Т. Холл, Д.Е. Чендлер та ін.). При цьому до показників об’єктивного успіху вчені відносили: розмір<br />
заробітної плати, кількість просувань по службі, рівень займаної посади в ієрархії організації. Критерії успішності професійної<br />
діяльності розкрито в працях Ю.М. Ільїної, О.К. Клімової, Т. Котарбинського, Б.В. Кулагіна, В.В. Московського, О.В. Садон, П.О.<br />
Тропотяги та ін.<br />
В якості критеріїв успішності професійної діяльності можна використовувати різні показники, що характеризують міру<br />
досягнення даним працівником цілей роботи: ступінь оволодіння професійними знаннями, уміннями і навичками, внесок у<br />
результати спільної діяльності всієї організації або колективу (Б.В. Кулагін). Успішність діяльності можна визначати за різними<br />
188
Psychological sciences<br />
критеріями: прямі показники ефективності (якість і продуктивність); результативність роботи; ефективність взаємодії з людьми в<br />
процесі роботи; ініціативність в діяльності; рівень професійної підготовленості; задоволеність суб’єкта праці своєю професійною<br />
діяльністю, відповідність нормативних актів, що регулюють професійну діяльність у певній галузі, сучасним вимогам; плинність<br />
кадрів; кількість нещасних випадків і випадків, що виникли з провини працівника; якість експертних оцінок; рівень професійної<br />
компетентності; ступінь самооцінки ефективності діяльності та ін.<br />
В результаті проведеного аналізу наукових праць можна констатувати те, що професійна успішність розглядається як складне<br />
багатомірне утворення (Г.Т. Береговий, І.М. Жданько, Б.В. Кулагін, В.Л. Марищук, В.А. Пономаренко, О.Н. Родіна, Н.В. Самоукіна,<br />
Е.М. Ткаченко, Б.А. Федорішин, Н.Л. Шарейко та ін.), як сукупність психологічних і психофізіологічних особливостей, необхідних<br />
для досягнення людиною суспільно прийнятної ефективності праці, за наявності спеціальних знань, вмінь і навичок (К.М.<br />
Гуревич), як розвиток професійно важливих якостей (І.А. Жданов, М.В. Кліщевська, Г.Н. Солнцева), як якості особистості (А.Т.<br />
Ростунов), як рівень емоційної стійкості (Г.М. Зараковський), властивості нервової системи (В.Д. Небиліцин), локус контролю<br />
(Ю.А. Борисов); професійно-орієнтованої культури (Я.В. Олейнікова). Як бачимо, існує велика кількість досліджень професійної<br />
успішності в різних сферах діяльності, але майже не досліджувалась ця проблема серед професій робітничого профілю. Тому, в<br />
подальшому, вважаємо є необхідність емпірично дослідити психологічні детермінанти професійної успішності серед фахівців<br />
робітничих професій на українському просторі.<br />
Література:<br />
1. Зуев Ю.М. Мотивационно-личностные детерминанты профессиональной успешности командиров воинских подразделений:<br />
Дис... канд. психол. н.: 19.00.03 /Юрий Михайлович Зуев. – Хабаровск, 2006. – 231 c.<br />
2. Климова Е.К. Психологические критерии успешности предпринимательской деятельности: Дис... канд. психол. н.:19.00.03. –<br />
Калуга, 2004. – 185<br />
3. Московский В.В. Формирование профессиональной успешности преподавателя высшей школы / Вячеслав Вячеславович<br />
Московский // Акмеология. – 2007. – №3.<br />
4. Тропотяга П.А. Психологические детерминанты профессиональной успешности будущего специалиста: Дис... канд. психол.<br />
н.: 19.00.03 / Павел Александрович Тропотяга; Дальневост. гос. ун-т путей сообщ. – Иркутск, 2009. – 211 с.<br />
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ АРТ-ТЕРАПИИ В УПРАВЛЕНИИ СОСТОЯНИЕМ<br />
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ ПЕДАГОГА<br />
Степанчук Н.Н., преподаватель<br />
Донецкое художественное училище, Украина<br />
Участник конференции,<br />
Национального первенства по научной аналитике,<br />
Открытого Европейско-Азиатского первенства по научной аналитике<br />
В статье рассматриваются основные аспекты разработки и апробации авторской программы тренинга арт-терапевтической направленности<br />
«Профессиональная Арт-Формация». Программа способствует укреплению профессионального здоровья педагогического<br />
персонала и ориентирована на перенос полученного психологического опыта в сферу реальной профессиональной педагогической<br />
деятельности.<br />
Ключевые слова: арт-терапия, тренинг арт-терапевтической направленности, профессиональное здоровье, самоактуализация,<br />
творчество.<br />
The article is devoted to the basic aspects of development and approbation of the author art therapy training program “Professional Art-<br />
Formation”.The program is instrumental in strengthening pedagogical personnel’s professional health and oriented to transfer the got<br />
psychological experience to the sphere of the real professional pedagogical activity.<br />
Keywords: arttherapy, training of art-therapeutic orientation, professional health, self-actualization, creativity.<br />
В современных условиях образовательной среды профессиональная деятельность педагога вызывает стойкие профессиональные<br />
деформации, отсутствие удовлетворенности своим трудом, отрицание абсолютной ценности личности как приоритета гуманистического<br />
характера педагогической деятельности. Кроме того, педагогическая деятельность характеризуется как простор хронического эмоционального<br />
напряжения. Однако, принимая во внимание необходимость выполнения задач Национальной стратегии развития<br />
образования в Украине на 2012-2021 года [3], ситуация меняется. Руководители учебных заведений ощутили насущность<br />
обеспечения более гуманных условий труда, которые позволяют снизить степень отчужденности педагогов от своей деятельности,<br />
продуктивность которой зависит не только от соответствия работника занимаемой должности, но и от состояния его профессионального<br />
здоровья.<br />
Анализ научной литературы и исследований, имеющих отношение к нашей теме, выявил неопределенность психологических<br />
условий для сохранения профессионального здоровья педагога, как сложного многоуровневого образования. Очевидным является<br />
противоречие между потребностью современного общества в профессионально здоровом преподавателеи отсутствием новой<br />
эффективной методики укрепления и поддержки его профессионального здоровья.<br />
Желание найти пути решения выделенного противоречия обозначило проблему нашего исследования.<br />
Также известно, что современное разделение труда и художественного творчества, которое издревле служит задачам выживания<br />
человека, может иметь тяжелые последствия для большинства людей.<br />
Разные виды творческой активности могут вызывать важные психопрофилактические и развивающие эффекты. Инновационные<br />
подходы к управлению образовательными процессами могут и должны опираться на проявления их творческого потенциала и здоровьесберегающих<br />
факторов. Поэтому, для решения задач психологического обеспечения педагогической деятельности, в нашем<br />
исследовании мы использовали методы арт-терапии как инновационной здоровьесберегающей технологии.<br />
Экспериментальной базой исследования выступили 36 преподавателей учебных заведений г.Донецка разного должностного<br />
статуса, предметной специализации и гендерной принадлежности, в возрасте от 22 до 65 лет.<br />
На основании предварительного теоретического анализа «проблемного поля» профессионального здоровья педагогических<br />
работников был создан рабочий вариант программы тренинга арт-терапевтической направленности, охватывающий разнообразные<br />
189<br />
Labour psychology, engineering psychology, ergonomics
Psychological sciences<br />
Labour psychology, engineering psychology, ergonomics<br />
тематические блоки (проработка «Я-концепции», развитие коммуникационных процессов и эмоциональной устойчивости, развитие<br />
эмпатии, рефлексии и креативности).<br />
Для определения текущего состояния профессионального здоровья педагогов, принимающих участие в тренинге, на этапах<br />
проведения процедур первичной и заключительной диагностики, нами был создан диагностический блок, куда вошли:<br />
- рисуночные тесты Сильвер[2, с.356-364], которые позволяют оценить текущее эмоциональное состояние человека и его<br />
отношение к своему образу, оценить уровень познавательной и творческой активности, особенности поведения и коммуникаций,<br />
наличие защитных и регулятивных механизмов;<br />
- вербализированный тест Л.Зухера «Кто Я?», выявляющий актуализированные самоидентификации педагогов, в сочетании с<br />
коллажем на тему «Моя реальность, планы и мечты»[4, с. 142-146], проясняющимскрытое содержание характеристик образа «Я»,<br />
неосознанное отношение к себе, к другим людям, к избранной профессии и к окружающему миру.<br />
На основании результатов первичной диагностики по рисуночным тестам Сильвер сделаны следующие выводы:<br />
Склонность к восприятию инновационного опыта, экспериментам, саморазвитию, желание принимать участие в творческих<br />
занятиях с целью самопознания больше присущи педагогическим работникам, которые идентифицируют себя с сильными,<br />
счастливыми, но иногда пассивными персонажами, с нейтральным или жизнеутверждающим чувством юмора и заметным<br />
потенциалом творческих способностей. Для этой категории педагогов свойственно использование ситуативных возможностей для<br />
улучшения состояния собственного физического, психологического и профессионального здоровья.<br />
Педагоги, которые имеют амбивалентное или безразличное отношение к собственному образу, или фрустрированы по какимлибо<br />
причинам, склонны к защитному поведению, иногда к самоиронии, к уклонению от ситуаций с высокой степенью<br />
возникновения травматических переживаний, которыми могут быть арт-терапевтические занятия. Поэтому, даже если первым<br />
порывом обозначенной группы педагогического персонала было желание принять участие в предложенной программе тренинга<br />
арт-терапевтической направленности, присущий в большинстве случаев стиль защитного поведения взял верх и педагоги заняли<br />
пассивную позицию ожидания возможных результатов тренинга, что не является признаком оптимального уровня профессионального<br />
здоровья человека, который по требованиям своей профессии должен своим поведением стимулировать проявления активности и<br />
субъектности учащихся.<br />
Кроме того, общую тематику рисунков, выполненных при помощи стимульного материала рисуночных тестов Сильвер, было<br />
проанализировано с точки зрения «ценностных ступеней потребностей» А.Маслоу. Следует отметить, что рисунки представителей<br />
контрольной группы «расположены» в рамках первых трех уровней иерархической классификации потребностей. Рисунки<br />
представителей экспериментальной группы в большинстве своем «расположены» на третьей и четвертой ступенях пирамиды<br />
А.Маслоу.<br />
Результаты обработки теста Л.Зухера «Кто Я?» показали, что с возрастом (как биологическим, так и педагогическим) человек<br />
«обрастает» социальными ролями, «масками», что может усложнять проявления Я-реального, вызывать нарастание внутреннего<br />
напряжения и общее ухудшение состояния здоровья.Также выявлено, что с увеличением педагогического стажа уровень самооценки<br />
педагога вырастает, а уровень рефлексии понижается. То есть, с годами преподаватель перестает анализировать свое поведение и<br />
деятельность, уверенный в собственной правоте.<br />
Образы, появившиеся в коллажах, также достаточно информативны и соотносимы с приоритетными сферами жизни педагогов.<br />
Учитывая то, что показателем оптимального состояния профессионального здоровья и самоактуализации считается наличие в<br />
коллажах образов профессиональных и жизненных ценностей, целей, выделение отдаленных целей и задач [4, с.143], актуальность<br />
нашего исследования не подлежит сомнению. Причина этому - отсутствие в коллажахпредставителей педагогической профессии<br />
признаков таких категорий, как «Карьера» и «Профессиональная самореализация».<br />
После проведения первичной диагностики подтвердилось, во-первых, наличие проблем, свойственных представителям педагогического<br />
сообщества в целом, и дополнительно вскрылись еще две актуальные проблемы: организация времени («Как успевать<br />
жить и работать?») и осознание своей культурной идентичности.<br />
Во-вторых, возникла необходимость разделения преподавателей на группы по возрастному признаку с целью создания более<br />
комфортной атмосферы для участников тренинга и дифференцированного регулирования времени для более глубокой проработки<br />
проблем, свойственных каждой из групп.<br />
В соответствии с полученными результатами рабочий вариант программы тренинга был дополнен двумя блоками упражнений:<br />
- на рефлексию времени, с целью более эффективного планирования и использования рабочего и свободного времени;<br />
- на осознание своей принадлежности к определенной этнической группе, ее традициям и культуре, с целью формирования<br />
позитивной культурной идентичности, осознания национальной специфичности «картины мира» и ее отражения в фольклоре и<br />
поведении, формирования когнитивной и эмоциональной эмпатии, формирования общей идентичности (профессиональной,<br />
гражданской, региональной, языковой).<br />
С учетом выявленной текущей проблематики и реальной сложности работы с профессиональными группами педагогов была<br />
разработана и апробирована программа тренинга арт-терапевтической направленности с рабочим названием «Профессиональная<br />
Арт-Формация», направленная на управление состоянием профессионального здоровья педагогического персонала.<br />
Базовая составляющая программы «Профессиональная Арт-Формация» определяется общей теоретической парадигмой<br />
понимания окружающего мира и человека в нем – гуманистической парадигмой, ориентированной на индивидуальность, понимание<br />
ее внутреннего состояния, возможностью самосовершенствования, учетом личностных и поведенческих особенностей человека.<br />
Содержание и структура программы «Профессиональная Арт-Формация»:<br />
I ступень - «Индивидуализация» (тематические блоки: развитие компонентов «Я-концепции», развитие культурной идентичности).<br />
Цель:развитие чувства самоуважения, ощущения собственной ценности и позитивного отношения к своей личности. Научить<br />
соотносить свои возможности с заданиями разной сложности и требованиями окружающих. Помочь самому стать для себя<br />
источником поддержки, мотивации и поощрения, осознать ведущий мотив своего поведения, деятельности и общения.<br />
II ступень – «Социализация» (тематические блоки: развитие коммуникационных процессов, развитие навыков управления конфликтами).<br />
Цель: обеспечить интеграцию педагога в педагогический коллектив через усвоение элементов коллективной культуры,<br />
норм и ценностей при соответствии личных ожиданий и требований коллектива к возможностям личности. Способствовать взаимодействию<br />
участников образовательного процесса через принятие ими социальных ролей.<br />
III ступень – «Профессионализация» (тематические блоки: развитие креативности, развитие навыков управления временем,<br />
развитие эмпатии, эмоциональной устойчивости, рефлексии). Цель: обеспечить развитие профессионально важных качеств<br />
педагога. Выявить личные ресурсные компоненты. Научить техникам самопомощи, эффективного использования рабочего и<br />
свободного времени. Помочь обозначить перспективные направления профессионального и личностного развития каждого.<br />
Проведенный по разработанной нами программе «Профессиональная Арт-Формация» тренинг способствовал изменениям<br />
основных показателей профессионального здоровья педагогов: общая средняя оценка состояния и отношения к собственному<br />
образу «Я» повысилась на 10%; общая средняя оценка проявлений типов юмора сместилась на 6,6% в сторону позитивного жизне-<br />
190
Psychological sciences<br />
утверждающего юмора; общая средняя оценка творческих способностей также повысилась на 5,8%; тематика рисунков также<br />
«сдвинулась» в сторону высших самоактуализационных потребностей.<br />
Приведем наглядный пример динамики внутренней работы одной из участниц тренинга при выполнении авторского упражнения<br />
«Чудовище, которое живет внутри меня». Это упражнение было разработано во время подготовки к проведению тренинга,<br />
опираясь на идеи упражнений «Monster Within/Cause of Monster» и «Anger Monster/Warm Fuzzy Creature» [6] и описания применения<br />
одной из техник библиотерапии - синквейна [1, с.151-153].<br />
В январе 2012 годаучастница выполнила рисунок под названием «Громбь» и написала синквейн (см.ниже). Громбь – это<br />
существо, которое появляется в те моменты, когда что-то не получается или получается не так, как было задумано (рис.1). Существо<br />
чувствует гнев, бешенство, безумие. Думает: «Как бы сдержаться, чтобы всех не покусать?».<br />
По словам участницы, созданный образ постоянно присутствовал в мыслях и, постепенно (в апреле 2012года), уже после<br />
завершения тренинговых занятий, трансформировался в другие образы (рис.2), что, соответственно, привело к позитивным<br />
изменениям в самочувствии и в отношении к стрессовым ситуациям.<br />
Рис.1 «Громбь» (январь 2012г.)<br />
Рис.2 «Громбь» (апрель 2012г.)<br />
Гнев.<br />
Полный бедлам.<br />
Кидаюсь, бьюсь, рычу.<br />
Молчу, сижу, внутри опустошенность.<br />
Переживание.<br />
Гнев.<br />
Глубокая пропасть.<br />
Мечусь везде по комнате.<br />
Пустота вокруг, я совсем одна.<br />
Начало.<br />
Бешенство (безумие).<br />
Слепость и дурость.<br />
Наплыв эмоций, глупые поступки.<br />
Злюсь на саму себя, не понимаю.<br />
Исправление.<br />
Неприятно.<br />
Кисло, но бодрит.<br />
Хочется скушать сладенького.<br />
Иду в магазин за ароматной слоечкой.<br />
Вкусненько.<br />
Приведенный пример не только подтверждает возможность управления изменениями в состоянии профессионального здоровья,<br />
но и свидетельствует о наличии отсроченного эффекта при выполнении подобных арт-терапевтических упражнений.<br />
Считаем необходимым отметить, что, невзирая на отсутствие в Украине системы подготовки арт-терапевтов и наличие<br />
проблем, связанных с бюджетным финансированием учебных заведений, внедрение тренингов арт-терапевтической направленности<br />
необходимо осуществлять не за счет обучения педагогов азам арт-терапии, а за счет внедрения в программы психологического сопровождения<br />
участников образовательного процесса профессиональных арт-терапевтических услуг.<br />
Среди других трудностей, которые могут возникнуть при применении программы «Профессиональная Арт-Формация»,<br />
обозначим следующее: страх новизны; возможное сопротивление педагогического персонала участию в программе; отсутствие<br />
специальной предметно-пространственной среды в учебном заведении; невозможность просчитать возврат расходов, потраченных<br />
на организацию мероприятий по укреплению профессионального здоровья педагогического персонала.<br />
С другой стороны, в результате проведенного тренинга стал заметным профессиональный и личностный рост сотрудников,<br />
принимавших участие в арт-терапевтическом тренинге. По результатам аттестации, проходившей в марте-апреле 2012 г., некоторые<br />
из преподавателей были не только успешно аттестованы, но и стали источником интересных идей относительно общей организации<br />
учебного процесса.<br />
Перспективность применения арт-терапевтических техник в психологическом обеспечении профессиональной деятельности<br />
педагогов (и других профессиональных групп) связана с природной потребностью человека в творческом самовыражении, в<br />
сохранении своего физического, психологического и профессионального здоровья, в личностном и духовном развитии,<br />
самоактуализации, а также с возможностью решения задач гуманизации педагогического труда.<br />
Литература:<br />
1. Колошина Т.Ю. Арт-терапевтические техники в тренинге:характеристики и использование. Практическое пособие для<br />
тренера / Т.Ю.Колошина, А.А.Трусь. – СПб.: Речь, 2009. – 189с.<br />
2. Копытин А.И. Арт-терапия психических расстройств / Александр Иванович Копытин. – СПб.: Речь, 2011. – 368с.<br />
3. Національнастратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf<br />
4. Пурнис Н.Е. Арт-терапия в развитии персонала / Наталья Евгеньевна Пурнис – СПб.: Речь, 2008. – 176с.<br />
5. Чирков А.А. Здоровый учитель как фактор сохранения и укрепления здоровья учащихся [Электронный ресурс]. Режим<br />
доступа: http://bank.orenipk.ru/Text/t10_11.htm.<br />
6. Art Therapy Techniques From in the Field [Electronic resource]. Access mode: http://arttherapytechniques.blogspot.com/.<br />
191<br />
Labour psychology, engineering psychology, ergonomics
Psychological sciences<br />
ОСНОВНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА<br />
Форня Ю.В., д-р психол., доцент<br />
Молдавский Государственный Университет Медицины и Фармации им. Николая Тестемицану, Молдова<br />
Участник конференции,<br />
Национального первенства по научной аналитике,<br />
Открытого Европейско-Азиатского первенства по научной аналитике<br />
Мы разработали основные детерминанты, которые влияют на психическое здоровье студентов ГУМФ им. Николая<br />
Тестемицану. Исследование проблем стресса и совладающего поведения у студентов со стрессом - является одной из важных<br />
проблем психологии здоровья. В 2010-2012 учебном году мы комплексно изучили психическое здоровье студентов, в рамках учебного<br />
процесса на кафедре Экономики, Менеджмента и Психопедагогики в медицине. В исследовании участвовали 259 студентов 2-го<br />
курса медицинского факультета № 1, ГУМФ им. Николая Тестемицану.<br />
Кроме того, мы изучали современные источники психического стресса и копинговые стратегии у студентов медицинского<br />
ВУЗа.<br />
Ключевые слова: детерминанты здоровья, физиологический стресс, психологический стресс, копинг, копинговые<br />
стратегии, психическое здоровье студентов медицинского ВУЗа, индуцированные неспецифические изменения, стрессогены,<br />
стрессоустойчивость.<br />
We have developed the main determinants, which affect the mental health of the students of the State University of Medicine and<br />
Pharmacy Nicolae Testemiteanu. The investigation of the stress problems and coping behavior of stressed students – represents one of the<br />
important problems of the health psychology. During the academic year 2010 – 2012 we had investigated in a comprehensive manner the<br />
mental health of the students, within the educational process on the Economy, Management and Psycho - Pedagogy Faculties within the<br />
Medicine University. 259 students of the second year of the Medicine Faculty № 1, State University of Medicine and Pharmacy Nicolae<br />
Testemiteanu took part in the research.<br />
Besides this, we had studied the modern sources of the mental stress and coping strategies at students of Medicine University.<br />
Keywords: health determinants, phisiological stress, psychological stress, coping, coping strategies, mental health at students of medicine<br />
university, inducted nonspecific changes, stress causes, stress resistance.<br />
Medical psychology<br />
В прикладных аспектов исследований стресса выявляется необходимость изучения стрессовых состояний студентов разных<br />
вузов. Исследование проблем стресса и совладающего поведения у студентов со стрессом - является одной из важных проблем<br />
психологии здоровья. В 2010-2012 учебном году мы комплексно изучили психическое здоровье студентов, в рамках учебного<br />
процесса на кафедре Экономики, Менеджмента и Психопедагогики в медицине.<br />
Трудность определения стресса обусловлена множеством значений, представленных разными ученными. В психологии,<br />
физиологии и медицине - это состояние психического напряжения, возникающее у человека при деятельности в трудных условиях<br />
(как в повседневной жизни, так и в специфических обстоятельствах).<br />
Понятие стресс было введено канадским физиологом Г. Селье (1936) при описании адаптационного синдрома. Стресс может<br />
оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на деятельность студентов, вплоть до её полной дезорганизации, что<br />
ставит задачу изучения адаптации человека к сложным условиям, а также прогнозирования его поведения, особенно в подобных<br />
условиях.<br />
Guillemin R., представил очень интересный подход к стрессу, определяя его как состояние, проведенное от специфичного<br />
синдрома, соответствующего всем индуцированным неспецифическим изменениям в одной биологической системе [1; 2].<br />
Многочисленные теоретические и прикладные исследования, показывают, что именно в молодом возрасте реагирование на<br />
стрессогены более интенсивно, чем у взрослых. В контексте медицинской психологии, а точнее в психологии здоровья [1],<br />
наметилась тенденция к исследованию психологического стресса в студенческой среде. Мы разработали основные детерминанты,<br />
которые влияют на психическое здоровье студентов ГУМФ.<br />
Особенности переживания психологического стресса у студентов медицинского ВУЗа обусловлены многими факторами,<br />
прежде всего это - социально-психологические факторы, включающие в себе проблемы, связанные с межличностными отношениями<br />
различного типа, позиционные и эмоциональные конфликты, коммуникативные проблемы, отдельные неблагоприятные<br />
психологические проявления в группе [7].<br />
Во многих случаях мы выявили влияние личностных факторов, такие как кризисы возраста, гендерские различия, особенности<br />
типа нервной системы, неадекватная самооценка студентов, повышенная личностная тревожность, агрессивность, волевые или мотивационные<br />
особенности личности, и др. Состояние здоровья студентов, в том числе и физическое развитие, зависит и от их<br />
жилищных условий, определяющие здоровье организма, его работоспособность, устойчивость к неблагоприятным факторам, удовлетворяющее<br />
энергетические, социальные, психологические, и др. потребности организма (Кошелев Н. Ф., 1993).<br />
Также здоровье студентов медицинского ВУЗа обусловлена факторами, связанными с особенностями их деятельности: учебной,<br />
учебно-профессиональной и социальной деятельности, включая образ жизни и стиль отдыха.<br />
Исследование проблем стресса, а также саморегуляция эмоциональных состояний у студентов медицинского ВУЗа является<br />
одной из важных проблем психологии здоровья и требует у них овладение навыками различных психологических и психопрофилактических<br />
стратегий и техник для совладения со стрессом. В статье представлены материалы об управлении психическими и<br />
эмоциональными состояниями студентов ГУМФ. Раскрыта сущность эффективных методик для диагностики и профилактики<br />
стрессовых состояний у студентов медиков.<br />
В данной работе был использован полученный на основании личного опыта, комплексный материал о психологии стресса, его<br />
особенностях, и влиянии на учебную деятельность студентов медицинского факультета № 1. В 2010-2011 учебном году мы<br />
комплексно изучили психическое здоровье студентов, в рамках учебного процесса на Кафедре Экономики, Менеджмента и Психопедагогики<br />
в медицине. В исследовании участвовали 259 студентов 2-го курса медицинского факультета № 1 (2010-2011), с<br />
обучением на молдавском и русском языке, ГУМФ им. Николая Тестемицану. Мы использовали стратометрический отбор<br />
испытуемых, обладающих определёнными характеристиками (возраст, медицинское образование, мед. факультет, курс и др.).<br />
Выборка испытуемых – репрезентативна (общее кол. студ. 2-го курса мед. фак. № 1, в 2011 г. составляло 422).<br />
В качестве диагностических методик и техник мы применили:<br />
• Самооценка состояния здоровья (Давиденко Д. Н.).<br />
• Самооценка физического, психического и социального здоровья (Степанов С).<br />
• Шкала Спилбергера - Ханина для определения личностной и ситуативной тревожности.<br />
192
• Опросник САН (для диагностика самочувствия, активности и настроения).<br />
• Жизненные события и стресс (Андерсон Г. Е.)<br />
• Копинг-Тест Лазаруса. Он предназначен для определения копинг-стратегий (способов преодоления трудностей в различных<br />
сферах психической деятельности). Опросник разработали Р. Лазарус и С. Фолкман в 1988 году, адаптировали Т. Л. Крюкова, Е. В.<br />
Куфтяк, М. С. Замышляева в 2004 году.<br />
Особенности психического здоровья студентов мы изучили при помощи психофизиологической техники «Симптомы, стресс<br />
и вы», в котором исследовали физиологические реакции студентов на стресс [4, с. 55-59].<br />
В современной психологической науке и практике закрепилось разграничение понятий «физиологический стресс» и<br />
«психологический стресс», введенное известным исследователем стресса Р. Лазарусом. В связи с этим мы также определили, как<br />
часто у студентов проявляется определенный симптом. Результаты тестирования были соотнесены к 4 уровням, если испытуемые<br />
набрали следующую сумму:<br />
I. 40 – 75 баллов (шансы заболевания из-за стресса минимальны);<br />
II. 76 – 100 баллов (существует небольшая вероятность заболевания);<br />
III. 101 – 150 баллов (такая вероятность уже гораздо больше);<br />
IV. Выше 150 баллов (вполне вероятно, что стресс уже сказался на здоровье испытуемых).<br />
Для данной экспериментальной группы (259) мы оценили среднее значение (М), которое составило 74,17, этот факт говорит о<br />
том, что преобладающее большинство, т.е. (I. - 52,90%) студентов 2-го курса имеют минимальные шансы заболевания от стресса.<br />
Стандартное отклонение составило – 21,72; (eP = 1,35). В целом, результаты репрезентативны, в них проявляется ясная картина<br />
о психическом здоровьи студентов медицинского факультета № 1, у которых существует небольшая вероятность заболевания от<br />
стресса (II. 35,52%) и только 11,58% (III. уровень) имеют большую вероятность заболевания из-за стресса. К четвертому уровню<br />
не относиться ни один испытуемый данной выборки (0%).<br />
В последнее время значительно возрос интерес к оценке психосоциального здоровья студентов разных ВУЗов и в этом<br />
контексте мы сочли важным оценить состояние здоровья студентов медицинского ВУЗа. Одно из важных задач исследования было<br />
выявления основных причин и факторов стрессовых состояний наших студентов, а потом формировать у наших студентов<br />
основные поведенческие стратегии совладания со стрессом.<br />
Копинг, копинговые стратегии (англ. coping, coping strategy) - это то, что делает человек, чтобы справиться со стрессом.<br />
Понятие объединяет когнитивные, эмоциональные и поведенческие стратегии, которые используются, чтобы справиться с<br />
запросами обыденной и студенческой жизни.<br />
Вопрос об эффективном копинге напрямую связан с понятием копинг - стратегий. Копинг - стратегии – это те приемы и<br />
способы, с помощью которых происходит процесс совладания со стресссом. S. Folkman и R. S. Lazarus предложили классификацию<br />
копинг - стратегий, ориентированных на два основных типа - проблемно-ориентированный копинг и эмоционально-ориентированный<br />
копинг. Классификация видов стратегий преодоления стресса или “совладания” со стрессом, разработанная Л. И. Анциферовой,<br />
построена с учетом особенностей когнитивного и поведенческого уровня регуляции этого процесса и своеобразия трудных<br />
жизненных ситуаций [3].<br />
После применения копинг-теста Р. Лазаруса, мы получили следующие данные. Преобладающими копинг-стратегиями для<br />
студентов мед.- го факультета являются [6]:<br />
• Дистанцирование - когнитивные усилия отделиться от ситуации и уменьшить ее значимость.<br />
• Самоконтроль - усилия по регулированию своих чувств и действий. самоконтроль и планирование решения проблемы.<br />
• Планирование решения проблемы - произвольные проблемно-фокусированные усилия по изменению ситуации, включающие<br />
аналитический подход к проблеме.<br />
• Положительная переоценка - усилия по созданию положительного значения с фокусированием на росте собственной<br />
личности. Включает также религиозное измерение.<br />
Копинг это индивидуальный способ взаимодействия с ситуацией; его психологическое предназначение состоит в том, чтобы<br />
улучшить адаптированность студентов к требованиям ситуации, позволяя ему ослабить или смягчить эти требования, постараться<br />
избежать или привыкнуть к ним, т.е. погасить стрессовое действие ситуации. Поэтому главная задача копинга – обеспечение и<br />
поддержание физического и психического здоровья студентов.<br />
С целью психогигиены и психопрофилактики здоровья наших студентов, на практических занятиях по медицинской психологии<br />
мы внедрили тренинг «Профилактика деструктивного стресса», с помощью которой мы старались повысить личностную стрессоустойчивость<br />
с помощью разных тренинговых стратегий в группе.<br />
Стрессоустойчивость это совокупность личностных качеств, позволяющих студенту переносить значительные интеллектуальные,<br />
волевые и эмоциональные нагрузки, обусловленные особенностями его деятельности, без особых вредных последствий для<br />
деятельности, окружающих и своего здоровья. Вместе с тем, искусственное занижение уровня чувствительности к внешним раздражителям,<br />
сопряжённое с этим качеством, в некоторых случаях может привести к чёрствости, отсутствию сильных эмоций и безразличию,<br />
т.е. к свойствам, которые нередко приводят к негативным результатам в учебной и социальной жизни студентов. Это<br />
качество непостоянное и следовательно его можно развивать тренировкой (психотренингом), привычкой к ежедневному напряженному<br />
творческому труду. В работе представлены методы и стратегии, которые могут быть использованы в целях психогигиены, психопрофилактики<br />
и психотерапии стрессовых состояний студентов.<br />
Основные задачи этих тренинговых заседаний, были: овладение студентами навыками различных релаксационных техник;<br />
овладение навыками позитивного и конструктивного мышления в проблемных ситуациях; получение основных знаний о факторах<br />
и механизмах развития психологического стресса; работа с индивидуальными стратегиями совладающего поведения со стрессом и<br />
др. В контексте этих тренингов, студенты вели «Рефлексивный журнал», где они могли записать и оценить свои мысли и<br />
переживания, также могли оценить и обсудить свои чувства с коллегами или со мной, как психолог.<br />
Основные детерминанты психического здоровья студентов медиков зависели от уровня профессионализма наших психологов.<br />
В связи с этим, можно было определить критерии эффективности наших практических занятий и тренингов, которые в<br />
первую очередь вели к улучшению общего самочувствия студентов; понижению уровня личностной тревожности и напряженности;<br />
повышению работоспособности и социальной активности; увеличение переживаемых позитивных эмоциональных состояний, а<br />
также повышению мотивации к обучению и улучшения общего настроя к учебной деятельности; один из важных психологических<br />
критериев эффективности данных тренингов является повышение интернального локуса контроля, необходимого для преодоления<br />
деструктивных проявлений стресса в студенческом возрасте.<br />
У этой же выборке студентов мы применили Шкалу Жизненные события и стресс (Андерсон Г. Е.). При помощи этой шкалы<br />
[4; с. 116-122)] мы могли определить, какие события пережили студенты медики за последний год.<br />
Самые частые события мы представляем ниже:<br />
1. Резкое изменение привычного режима сна (сон стал короче или длиннее).<br />
193<br />
Psychological sciences<br />
Medical psychology
Psychological sciences<br />
Medical psychology<br />
2. Резкое изменение привычного режима питания (изменилось время приёма пищи или её количество).<br />
3. Увеличение или уменьшение частоты встреч с членами семьи.<br />
4. Резкое изменение состояния своего здоровья или состояния здоровья члена семьи.<br />
5. Смена режима дня.<br />
6. Повышение чувства независимости или ответственности.<br />
7. Изменение своих привычек, круга общения, стиля одежды.<br />
8. Серьёзное изменение в самооценке, самоидентификации, самосознании или общем представлении о себе.<br />
9. Резкое изменение материального положения (в лучшую или худшую сторону).<br />
10. Изменение места жительства или жилищных условий.<br />
В число самых редких переживших событий оказались следующие:<br />
1. Получение ипотечной или обычной ссуды (0).<br />
2. Развод (0).<br />
3. Увольнение (0).<br />
4. Возникновение сексуальных проблем (0).<br />
5. Совершение уголовно наказуемых поступков (0).<br />
6. Изменение выбранной специализации (0).<br />
7. Смерть супруги (супруга) (0).<br />
8. Переход в другой вуз (1).<br />
9. Смена работы (2).<br />
10. Изменение режима работы вашего супруга (супруги) (3).<br />
Фундаментальные исследования по изучению закономерностей между показателями функционального состояния организма<br />
студентов-медиков и факторами их образа жизни, включая условия обучения, проведено Т. Ш. Миннибаевым (1989). Ученым<br />
разработаны мероприятия по оптимизации условий обучения и увеличения работоспособности студентов; обоснована гигиеническая<br />
модель среднесуточного бюджета времени, направленная на формирование здорового образа жизни и улучшение организации<br />
учебной деятельности студентов медицинских ВУЗов. Анализ литературы показал, что ряд исследователей занимался изучением<br />
условий труда и быта студентов-медиков, однако большинство этих работ проведены в 70-80 гг. XX века (В. А. Курашов, 1975; Т. Ш.<br />
Миннибаев, 1989 и др.). О. В. Каревой доказано, что на успеваемость студентов влияют особенности организации учебного<br />
процесса, уровень до-вузовской подготовки, состояние здоровья, условия проживания, половая принадлежность, занятия<br />
общественной работой [2; 10].<br />
Так же мы хотим сказать, что социальное здоровье студента, в первую очередь, связано с его социальной адаптацией и индивидуализацией<br />
[5]. Анализ особенностей социализации подростков, проведенной Гармаевой Т. В. и Кончаловской М. М. в<br />
образовательных учреждениях показал, что их можно подразделить на две группы. Первую группу составляют подростки с<br />
высоким уровнем социализированности. Во вторую группу вошли подростки с низким уровнем социализированности. Окружающую<br />
среду они воспринимают как враждебную, поэтому имеют барьеры, препятствующие их вхождению в группу. Эти данные<br />
демонстрируют полярные показатели социального здоровья. В первом случае данные показатели положительны и свидетельствуют<br />
о нормальном состоянии социального здоровья, а во втором – наоборот [10].<br />
Таким образом, можно сделать следующие выводы: психическое и социальное здоровье студентов ГУМФ им. Николая<br />
Тестемицану обусловлено рядом детерминантов и эти составляющие позволяет проанализировать “внутреннюю” жизнь учебной<br />
группы, и тем самым скорректировать психическое и социальное здоровье студентов, если это необходимо, но делать это нужно<br />
постепенно и в тактической форме, используя психологическую компетентность. Оптимальным условием становления психического<br />
и социального здоровья студентов является взаимоотношения демократического типа, целенаправленно создаваемая преподавателями<br />
и психологами.<br />
Повышенную толерантность и эмпатию немногих преподавателей в медицине, достаточно высоко оценивается нашими<br />
студентами. После анализа основных данных, полученные социологами, при лонгитюдных мониторингов по изучению возможностей<br />
адаптации обучаемых в университетах Молдовы, мы прояснили параметры, определяющие этот аспект: помощь психолога в<br />
высшем образовании, информированность про организации жизни университета, помощь и поддержка со стороны сокурсников,<br />
уровень толерантности в университете, эмпатия сотрудников и преподавателей и корпоративная сплочённость. Возможность<br />
получения помощи психолога в целом была оценена на высоком уровне всеми студентами, кроме докторантов и магистрантов.<br />
Важный аспект в этом направлении было определение и объяснение механизмов преодоления психологических и педагогических<br />
барьеров в адаптации студентов к образовательной деятельности.<br />
Результаты интерактивных дискуссий и опроса студентов на практических занятиях учитываются при проведении практических<br />
и профилактических мероприятий в образовательном процессе по предмету Медицинской психологии, которые обычно направлены<br />
на: формирование у обучаемых представлений о здоровом образе жизни, препятствующих вовлечению в стрессовых ситуациях;<br />
формирование у студентов психологических навыков в противостоянии групповому давлению, в решении конфликтных ситуаций;<br />
обеспечение обучаемых полной информацией о социально-психологических проблемах и обеспечение максимальной информированности<br />
в этом направлении; организацию профилактической антистрессовой работы с преподавателями; формирование благополучного<br />
климата в студенческой группе [1; 9; 10].<br />
Наши интересы были ориентированы на определении причин обуславливающих низкий уровень психического здоровья студентов-медиков<br />
и дедукции адекватных, научных и методологических заключений, которые повлияют на их устранение. Комплексная<br />
система формирования будущих медиков должна учитывать результаты качественной оценки состояния психического, физического<br />
и социального здоровья.<br />
Учитывая все установленные причины и недостатки данного исследования в нашем университете, мы подготовили ряд психологических<br />
и педагогических рекомендаций для преподавателей ГУМФ им. Николая Тестемицану с целью улучшения стратегий<br />
общения и поведенческих критерий мотивации студентов к адекватному общению и развития личностно-поведенческих особенностей,<br />
используя новые качественные психолого-педагогические методы и интерактивные психосоциальные стратегии.<br />
Мы оценили достоинства, которые проявились в оценке обследования психического здоровья студентов медицинского<br />
факультета № 1 и представили основные практические рекомендации студентам 2-го курса и преподавателям, с целью мониторизации<br />
данной проблемы и психогигиенической деятельности наших преподавателей в этом направлении. Также мы намерены представить<br />
комплексный анализ и результаты нашего исследования на Научной Конференции Дни ГУМФ им. Николая Тестемицану, которая<br />
состоится осенью, 2012 года.<br />
В дальнейшем мы представим результаты исследования личности студентов при помощи Многофакторного классического<br />
Опросника Кеттелла (16PF), который даст нам более комплексные результаты личностных детерминантов здоровья студентов<br />
ГУМФ.<br />
194
Psychological sciences<br />
В целом, наше исследование ориентировано на применения копинг-стратегиях в медицине и отражает тенденцию расширения<br />
эвалуативных действий в связи с данной проблематикой: начиная с традиционных измерений и проверок навыков совладания со<br />
стрессом и перехода к оценке процессов и условий протекания учебноой деятельности и ситуаций обучения.<br />
Понятия совладающего поведения – направления в психологии, находящегося на стыке социальной, медицинской,<br />
возрастной психологии и психологии личности. Несмотря на многочисленные исследования в этой области, до сих пор<br />
имеются концептуальные и эмпирические трудности в объяснении совладающего поведения [4; 8]. Вопрос определения эффективности<br />
копинга в медицинском ВУЗе обусловлен прежде всего, продолжительностью его действия. Психологи и<br />
ученые, занимающиеся проблемами преодолевающего поведения, должны уделять особое внимание поиску причин и<br />
выявлению механизмов оптимальных форм реагирования и преодоления трудных учебных ситуаций, что является важным<br />
условием сохранения физического и психического здоровья студентов.<br />
Литература:<br />
1. Avram, E. Psihologia sănătăţii - Abordări aplicate. Vol. I. Normalitate şi disfuncţionalitate psiho-comportamentală. Bucureşti: Editura<br />
Universitară, 2010, 198 p.<br />
2. Daniel A. Girdano, George S. Everly, and Dorothy E. Dusek. Controlling Stress and Tension. Boston: Allyn and Bacon, 1997, p. 39.<br />
3. Бодров, В. А. Проблема преодоления стресса Часть 1: “Coping stress” и теорет. подходы к его изучению. В: Психологический<br />
журнал. 2006. Т 27, № 1, стр. 122-133.<br />
4. Гринберг Дж. Управление стрессом. 7-е изд. СПб.: Питер, 2002, стр. 102-131.<br />
5. Исютина-Федоткова, Т. С. Социально-гигиенические проблемы здоровья студентов: ист. аспект и современное состояние.<br />
Мед. журнал. 2008. № 4, стр. 31-34.<br />
6. Крюкова Т. Л., Куфтяк Е. В. Опросник способов совладания (адаптация методики WCQ) / Журнал практического психолога.<br />
Москва: 2007. № 3, стр. 93-112.<br />
7. Марищук В. Л. Поведение и саморегуляция человека в условиях стресса. // Марищук В. Л., Евдокимов В. И. Изд. Дом:<br />
Сентябрь, 2001, 260 с.<br />
8. Практикум по психологии состояний: Учебное пособие. Под ред. проф. О. А. Прохорова. СПб: Речь, 2004, стр. 121−122.<br />
9. Профессиональный и организационный стресс: диагностика, профилактика и коррекция: материалы Всероссийской научнопрактической<br />
конференции с международным участием. / под ред. Б. В. Кайгородова и Н. В. Майсак. Астрахань: «Астраханский<br />
университет, 2011. 207 с.<br />
10. Шестопалова, С. Г. Условия адаптации студентов в образовательном пространстве российского медицинского вуза. Автореф.<br />
дис. канд. пед. наук. Москва, 2009, 21 с.<br />
DEVELOPMENT OF THE MENTAL ABILITIES OF THE STUDENTS BILINGUALS<br />
Nyyazbekova K.S., cand. pedagogical sciences, associate prof., Senior Lecturer<br />
Kazakh National Pedagogical University named after Abay, Kazakhstan<br />
Conference participant,<br />
National championship in scientific analytics,<br />
Open European and Asian research analytics championship<br />
The article shows inner and outer conditions of the psychic development of the students bilinguals. The author analyzed the mechanism<br />
of the formation and development of the perceptive elements in the process of teaching bilinguals two languages. The author also presents<br />
pedagogical conditions under which mental abilities of students bilinguals develop, and fi nds out means aiming at doing it in an effective way.<br />
Keywords: mental abilities, students bilinguals, development, teaching process, conditions<br />
В статье раскрываются внешние и внутренние условия психического развития обучаемых, проанализирован механизм<br />
становления и развития перцептивных элементов в процессе обучения двуязычных учащихся на первом и втором языках. В работе<br />
приведены педагогические условия развития мыслительных способностей учащихся-монолингвов, а также выявлены условия эффективного<br />
развития мыслительных способностей двуязычных учащихся.<br />
Ключевые слова: мыслительные способности, учащиеся-билингвы, развитие, условие, обучение<br />
Solution of the issue of developing mental abilities of bilingual students within academic and educational process has a substantial<br />
theoretical and practical value. Revealing conditions for developing mental abilities is a key to formation of a purposeful and effective<br />
pedagogical influence on learners. The goal of our work is to identify a complex of conditions directed at effective development of mental<br />
abilities of bilingual students. According to the philosopher E.V.Ilyenkov, conditions within which a human being develops, define the whole<br />
process of this development. As he states, a teacher needs to identify precisely the conditions which facilitate to more effective mental<br />
development of learners by restricting those conditions inhibiting this development. Based on that “intentionally setting pedagogical situations<br />
which require a learner’s mental ability and educate him by cutting off all inhibiting factors and conditions. This is, actually, a secret of the<br />
pedagogical art” [1]. N.A.Mechinskaya states that pedagogical conditions determine the process of learning and development of children’s<br />
mentality. According to the scientist, pedagogical conditions providing mental development and representing controlling impact on learners<br />
on behalf of the teacher are external conditions related to a child’s mentality. External pedagogical conditions represent summary<br />
characteristics of the physical and psychological environment within which a learning process takes place [2]. As for the issue of developing<br />
thinking abilities of learners, the given idea emphasizes the need in a complex work-out of didactic measures taking into consideration<br />
learners’ specifics which ensure high quality of knowledge and development of general educational thinking abilities. Dominating feature of<br />
bilingual students is their ability to receive and reproduce the information in two languages. External conditions have different impact on<br />
different learners, depending on how a learner treats the material he needs to receive, what learning experience he has, on what level he can<br />
organize the new experience i.e. on what development level his acquired skills to learn are. All these represent internal conditions of learning<br />
and psychological development. Conditions for mental development called external or internal, in our opinion, are tightly linked and there is<br />
no clear differentiation between them. Each external condition is based on aspects of internal conditions; internal conditions are realized and<br />
can be revealed only through created external conditions. Using the experience acquired from interaction between external and internal<br />
environment of the organism is defined as the most important function of the brain. Genetic specifics of brain mechanism of representatives<br />
195<br />
Pedagogical psychology
Psychological sciences<br />
Pedagogical psychology<br />
of a certain nationality are one of the factors which influence development of their thinking abilities. Each organism starting the life encounters<br />
a new environment which is somehow different from the environment in which previous generations have lived. Genetic basis of the brain<br />
functions provides only certain possibilities for acquiring exact experience in a certain environment. According to E.A. Umryukhin, what he<br />
person becomes in his life, his conscious and unconscious mentality are the result of the interaction between genetic mechanisms of the brain<br />
and exact conditions of the environment [3]. From the perspectives of the issue under study, we would like to present learning as the process<br />
of acquiring an experience in the academic process which is reflected in the brain on its interaction with external or internal environment.<br />
Learning based on acquisition of the experience fixed in memory traces is identified at every stage of the organism’s life by possibilities<br />
related to mature, genetically basic structures and experience acquired earlier. In our opinion, general conditions which provide effective<br />
process of developing thinking abilities of both bilingual and monolingual students are:<br />
1) content of education;<br />
2) optimum choice of methods and organizational forms of education matching the set goal;<br />
3) applying systems of problematic and creative assignments, tasks and questions which ensure activation of cogitative and speech<br />
activities of learners;<br />
4) formation of learners’ positive motivation of cogitative and speech activities;<br />
5) organizing collaboration between the school and the family in solving the stated issue. However, cognitive process of bilingual students<br />
compared to monolingual students has distinctive features, and in this regard, requires identification of additional conditions. The process of<br />
interaction between two language systems in the learning process of a bilingual learner has its specific features. Design of the educational<br />
process of a bilingual learner taking into consideration these specifics is one of the primary conditions of effective development of his thinking<br />
abilities. Let us examine in detail the mechanism of forming perceptual elements in a native (first) language and the second – learning<br />
language. Establishing the links in the system of the first language chronologically precedes the system of the second language. Learning<br />
connected with establishment of perceptual elements and links between them in the system of the first language, corresponds to a person’s<br />
learning at his infantile age in the native language. The basis of this learning (usually called as development) is made by the genetically formed<br />
needs. Obtaining results which satisfy these primary needs (calling things of first necessity) creates perceptual elements and their chains at the<br />
deepest stages of the first language system which is similar to the formation of the memory elements. Simultaneously at the earliest age of the<br />
child learning involves genetically founded information and his first experience, first knowledge. At the beginning of the learning based on<br />
genetically founded structures are formed some primary perceptual elements which program an activity, sensitivity of receptors for obtaining<br />
reproduced intermediate results in the environment. Results, at least partially, can be programmed genetically, and at first they are defined by<br />
accidental character of links between memory elements. Selection of reinforced and fixed links is defined in all situations by reproducibility<br />
of anticipated results. Thus, primary formation of elements and links in the first language system takes place slowly by the “trial and error”<br />
method. Slow formation of links is feasible because slow learning is essential for safe extraction of the information on probable features of<br />
such environment and on those subjects, phenomena, and events which repeat and features of which are reproduced well. To reflect such<br />
subjects, phenomena, and events in the memory, they must be repeated sufficient number of times in a native language, against events,<br />
subjects, and phenomena which are repeated little or not repeated at all. The process of forming perceptual elements corresponding to natural,<br />
repeated features of the environment is realized under the influence of two forces:<br />
1) information, first experience, first knowledge genetically placed in a child;<br />
2) reality bearing the requirement to assimilate actual new knowledge.<br />
Final stage of the process of forming perceptual elements in the system of a native language creates an opportunity to connect these<br />
elements with those of the second language system. After that starts a rapid process of learning under the conditions when the number of<br />
freedom levels reduces significantly. Rapid learning is caused by possibility to form rapidly links in the system of the second language. It, in<br />
its turn, is determined by the fact that this system reflects enlarged, reproduced and natural features of the environment which have already<br />
been embodied as a result of repeated trials and errors in complex perceptual elements of the first language system. Further learning is<br />
substantially reduced to the formation of combination rules and combination of the acquired codes. Formation of the structure in the brain<br />
which is similar to the system of the second language can be presented as a branch of hierarchical system of the first language. Going from the<br />
highest to the deepest levels the process of forming complex perceptual elements can be isolated to units connected with communicative needs<br />
and include creation of memory units of deeper levels. Thus, there occurs a “branching” from the major hierarchical system of the first<br />
language. The given “branching” of perceptual elements creates the second language system which does not have deep communication need<br />
blocks at first but which can appear consequently. Formation of multilevel perceptual elements is the most difficult and important aspect of the<br />
learning optimization approach examined by us. While analyzing the learning process which proceeds during the formation of perceptual<br />
elements of the first language, it is essential to take into consideration the fact that a perceptual element responding to a certain stage result can<br />
at the same time belong to various language systems. During the process of establishing perceptual elements in the learning process takes<br />
place a selection of the most significant features of the stage results which ensure acquisition of the end result. Learning can be accelerated<br />
significantly if perceptual elements are created in advance and only mastering new combinations of these elements formed from new chains<br />
are needed. One of the most important differences of the second language system is the possibility to form rapidly and change conductivities<br />
of the links. Such combinational "cogitative" activity requires involvement of attention and, therefore, is characterized by limited volume of<br />
elements included in it. Increase in this volume results from connecting the system of the first language to this activity. Let us remind that the<br />
system of the second language is a part of the environment for the system of the first language. Often repeating activity of elements of the<br />
second language system is reflected in excitation of elements of the first language system and creates in it appropriate perceptual elements and<br />
links between them. It enables automation of the behavior formed at the beginning by the second language system. And the paths planned first<br />
consciously, are fulfilled automatically and unconsciously. Thus, there can be formed stereotypes which match both behavior programs and<br />
quite complex forms of thinking. The system of the second language reproduces function of intelligent use of language and other human forms<br />
of reflection and comprehension of the material and social environment, related to development of the civilization and public forms of life.<br />
Therefore training based on established structures of the second language system is substantially caused by specific (specific techniques)<br />
forms of transferring experience of human civilization to an individual, i.e. existing educational systems, education and social communication.<br />
Training in the system of the first language (in native language) continues after the system of the second language is formed. Primary training<br />
continues after the second language system has been formed and involved in the work. Primary training is connected with the formation of<br />
new perceptual elements and their links in the first language system, the elements which respond to new paths of behavior in the external<br />
environment. Learning becomes effective when success is achieved at the final stage and the chain of elements corresponding to intermediate<br />
results at the next level is reinforced. Then achievement of each of these intermediate results becomes reinforcement for formation of memory<br />
traces at a much higher level. Thus, the multi-level perceptual element corresponding to achievement of important stage result in a difficult<br />
skill is created.<br />
Often initial stage of the training passes without explicit realization, on an unconscious and intuitive level.<br />
Big and sometimes defining role in formation of perceptual elements and hierarchical structures of the first language system is played by<br />
the process which is usually called as imitation. During imitation a training process occurs by one person’s observation and subsequent<br />
196
Psychological sciences<br />
reproduction of successful programs fulfilled by another person. The given process can be presented as a learner’s embodiment of images of<br />
intermediate successful results formed during perception of behavior programs which come to an end with receiving the required final result<br />
of another person. A learner’s acquisition of intermediate results matching the embodied images reinforces and creates memory cells which<br />
give the final outcome. Processes selected for the first language system proceed unconsciously, automatically, without monitoring the<br />
consciousness. The second language system outlines the processes which are often or more often realized during communication or which can<br />
be easily realized by a person who knows the language fluently. Based on the held analysis of the process of formation and development of<br />
perceptual elements in the first and second languages of bilingual learners, we can draw a conclusion that organization of bilingual educational<br />
process will facilitate to effective development of thinking abilities of bilingual learners provided it is organized in accordance with the stages<br />
highlighted by us:<br />
1) initial stage – formation of perceptual elements and their links in the system of the first (native) language;<br />
2) stage – formation of perceptual elements and their links in the system of the second (foreign) language, starting when the first language<br />
system has been established significantly and a transfer to the second language system arises;<br />
3) stage – formation of perceptual elements and their links in the system of the second language reflecting multiple repeated paths of<br />
activity of the first language system, automatic complex mental operations.<br />
References:<br />
1. Ilyenkov E.V. Learn to think at an earlier age. – М.: Znaniye, 1977. – page 64.<br />
2. Mechinskaya N.A. A student’s learning and mental development issues. – М.: Pedagogika, 1989.<br />
3. Umryukhin E.A. Medical – biological aspects of intellectual activity. – М.: Publishing house of MSTU after<br />
N.E.Bauman, 2004. – page 320.<br />
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ<br />
ЗДОРОВЬЯ В ВУЗЕ<br />
Вильданова Ф., канд. пед. наук, доцент<br />
Академия управления ТИСБИ, Россия<br />
Участник конференции,<br />
Национального первенства по научной аналитике<br />
Статья посвящена проблемам обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья, анализу психологических<br />
трудностей слабослышащих и глухих студентов. Представлены термины «сопровождение» и «абилитация».<br />
Обоснованы основные принципы психологического сопровождения данной категории студентов на всех этапах<br />
обучения. Показано место психологического сопровождения в общей системе комплексного сопровождения студентов<br />
с ограниченными возможностями здоровья.<br />
Ключевые слова: интеграция, концепция независимой жизни, профессиональная подготовка лиц с ограниченными возможностями<br />
здоровья, сопровождение, абилитация, психологическое сопровождение, адаптивные стратегии личности.<br />
Article is devoted to problems of training of students with the limited possibilities of health, to the analysis of psychological difficulties of<br />
hard of hearing and deaf students. The term "support" and "abilitation" are presented. Main principles of psychological support of the given<br />
category of students at all grade levels are proved. The place of psychological support in the general system of complex support of students<br />
with the limited possibilities of health is shown.<br />
Keywords: integration, the concept of independent life, vocational training of persons with the limited possibilities of health, support,<br />
abilitation, psychological support, adaptive strategy of the person.<br />
Изменение отношения общества к людям с ограниченными возможностями здоровья, необходимость их включения в<br />
современную социальную жизнь, преодоления иждивенческих стереотипов поведения, предотвращения негативных социальных<br />
отношений привели к усилению потребности государства, общества и личности в целенаправленной работе образовательных<br />
учреждений по подготовке учащихся с ограниченными возможностями здоровья к эффективной интеграции в современный социум.<br />
Гуманистические преобразования, происходящие во всех сферах общества и российского образования, приводят к переосмыслению<br />
сущности процесса обучения и воспитания, поисков новых подходов к осуществлению образовательной деятельности лиц с<br />
ограниченными возможностями здоровья. На первый план выдвигается самоценность личности человека, независимо от<br />
особенностей его развития и уровня здоровья.<br />
Изучение отечественного и зарубежного опыта реализации концепции независимой жизни убеждает, что высшее<br />
профессиональное образование выступает важнейшим ресурсом ее воплощения [1]. Очевидно, что концепция<br />
независимой жизни как возможности для молодежи с ограниченными возможностями здоровья самому определять и<br />
выбирать, принимать решения и управлять жизненными ситуациями пока еще находится в стадии формирования. Во<br />
многом ее воплощение зависит в этом плане от реализации политики высшего профессионального образования лиц с<br />
ограниченными возможностями здоровья.<br />
Качественная профессиональная подготовка лиц с ограниченными возможностями здоровья требует создания специальных<br />
условий в образовательных учреждениях.<br />
Университет управления «ТИСБИ» c 1997 года осуществляет профессиональную подготовку лиц с ограниченными возможностями<br />
здоровья, с 2006 года студенты с нарушениями слуха стали обучаться на дневном отделении в массовом потоке. Первая<br />
экспериментальная группа была создана в рамках подписанного соглашения с Международной организацией послешкольного<br />
образования глухих «PEN-Russia».<br />
В процессе обучения оказалось, что студенты с ограниченными возможностями здоровья испытывают серьезные затруднения<br />
по усвоению информации в непривычном для них режиме, по организации своей учебной деятельности и по социальной адаптации<br />
к новому окружению.<br />
Результаты исследований, проведенных в вузе в течение последних 7 лет, показывают, что для преобладающего большинства<br />
молодежи с нарушениями слуха образование не является чем-то ценным (по результатам опроса занимает, чуть ли не последнее<br />
197<br />
Pedagogical psychology
Psychological sciences<br />
Pedagogical psychology<br />
место в ценностных ориентирах). Лишь четверть из них уверены, что образованность человека связана с наличием высшего<br />
образования, большинство студентов не видят высшее образование как основу для благополучной дальнейшей жизни. Почти 80%<br />
опрошенных считают, что деньги могут сделать человека счастливым, успешным в жизни и определяют основу существования<br />
каждого.<br />
Настораживает и тот факт, что у молодежи с нарушениями слуха практически отсутствуют любимые увлечения (хобби). Они<br />
даже с трудом представляют себе значение этого слова. Большинство из них указало как хобби общение с друзьями и чтение книг.<br />
К тому же оказалось, что слабослышащие и глухие почти не посещают театров и художественных галерей, а в кинотеатры ходят раз<br />
в полгода.<br />
Досуг традиционно является одной из важнейших сфер жизнедеятельности молодежи, который оказывает влияние на<br />
становление личности молодого человека. Сфера досуга молодежи с нарушениями слуха сильно ограничена как социальными<br />
барьерами, барьерами непонимания и стигматизации, так и внутренними комплексами и представлениями самих лиц с ограниченными<br />
возможностями здоровья.<br />
Особенностью лиц с ограниченными возможностями здоровья также является тот факт, что большинство из них: почти 70%<br />
формулируют свои перспективные (на 10-20 лет) жизненные цели лишь в самом общем виде. И только 5% уже имеют четкие цели<br />
на длительный период и стремятся подчинять им всю свою жизнь. В то же время, каждый третий опрошенный (34,2%) не ставит<br />
перед собой целей на длительное время и ориентируется на краткосрочные ближайшие цели. Исследования показывают тесную<br />
связь между сформированностью дальних (стратегических) целей и многими позитивными качественными характеристиками, и,<br />
прежде всего, ответственностью за себя и свои действия.<br />
В целом результаты исследований позволяют говорить, что у большинства молодежи с нарушениями слуха выявляется<br />
отсутствие четкой картины мира, системы ценностей, норм и установок, понимания собственного развития, стремления к<br />
независимости и самореализации. О личностном принятии чего бы то ни было трудно говорить, пока человек еще не выделяет себя<br />
из человеческого сообщества. Важно понимать, что пока не сформирована сама способность различения ценностей, ценности не<br />
могут быть приняты, ни отвергнуты.<br />
Кроме того, выявился ряд факторов, сформировавшихся в предшествующие периоды жизни и учебы молодых людей с<br />
проблемами физического здоровья, такие как серьезные пробелы в знаниях, дефицит коммуникабельности, слабая ориентация в<br />
социуме, привычка к нетребовательному, снисходительному отношению, высокий уровень тревожности, заниженная самооценка и<br />
т.п. Эти факторы могут стать причиной изоляции лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении,<br />
необходима система смягчения их влияния, коррекции, поддержки, что в сумме образует систему сопровождения учебы молодежи<br />
с ограниченными возможностями здоровьяв вузе.<br />
Cовременные подходы к сопровождению в инклюзивном пространстве постепенно уходят от коррекции и<br />
реабилитации в сторону так называемой абилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья. Термин<br />
«абилитация» от фрацузского «habile» – искусный, ловкий, умелый, что означает приобретение квалификации, соответствующей<br />
современным требованиям. Абилитация – комплекс мер (услуг), направленных на формирование новых<br />
и усиление имеющихся ресурсов социального, психического и физического развития ребенка или семьи [2]. Термин<br />
чаще всего используется по отношению к ребенку с особыми нуждами, а также к семье, находящейся в кризисной<br />
ситуации. Каждый человек имеет свои индивидуальные возможности в саморазвитии. Абилитация направлена на совершенствование<br />
ресурсов его саморазвития, а также на развитие тех способностей, которые могли бы компенсировать<br />
имеющиеся у него недостатки.<br />
Процесс сопровождения – это комплекс последовательно реализуемых действий, позволяющих субъекту сопровождения<br />
определиться с принятием решения и нести ответственность за реализацию решения.<br />
Сопровождение понимается как метод, обеспечивающий создание условий для принятия субъектом развития оптимальных<br />
решений в различных ситуациях жизненного выбора. Ситуация жизненного выбора – множественные проблемные ситуации, при<br />
разрешении которых субъект определяет для себя путь прогрессивного или регрессивного развития [3].<br />
Суть психологического сопровождения состоит в гармонизации эмоционального состояния, расширении коммуникативной<br />
сферы, увеличения позитивного личного и социального опыта студентов с ограниченными возможностями здоровья, в основном<br />
направленного на активное сотрудничество со слышащими.<br />
В системе комплексного сопровождения психологическая поддержка занимает особое место, так как, развивая адаптивные<br />
стратегии личности, эмоциональную стабильность, выявляя профессиональные интересы и склонности, развивая ресурсы<br />
собственной эффективности, в целом ориентирована на социальную поддержку [4].<br />
Психологические мероприятия в вузе включают в себя:<br />
• развитие отдельных познавательных функций (памяти, внимания, мышления и т.д.);<br />
• сглаживание локальных эмоциональных расстройств (возбудимость, тревога, страхи, эмоциональная неустойчивость и т.д.);<br />
• развитие коммуникативных навыков и оптимизация уровня коммуникативной готовности в целом;<br />
• формирование адекватного отношения к собственному «Я», своим возможностям;<br />
• формирование положительной мотивации и усвоение норм и правил поведения, соответствующих ролевым позициям,<br />
обусловленных системой социальных отношений, в которую включен студент;<br />
• развитие «копинг-стратегий»: навыков психической саморегуляции, способности к волевым усилиям;<br />
• развитие склонностей и творческих способностей, формирование адекватной самооценки;<br />
• расширение круга интересов, формирование социальных ценностных ориентаций и потребности к самовыражению в<br />
социально приемлемых формах;<br />
• развитие ресурсов адаптивности (главной задачей вуза является не адаптация к особенностям процесса обучения, а развитие<br />
адаптивных возможностей студента (адаптивности), под которой понимается способность и готовность личности к адаптации).<br />
В работе используются эффективные методы различных психологических направлений: сюжетно-ролевые и<br />
деловые игры, арт-терапия, телесно-ориентированная терапия, драматизация, сказкотерапия, релаксация и т.п.<br />
Организовано консультирование студентов и их родителей по проблемам, возникающим в процессе обучения или<br />
общения. Каждый семестр проводятся родительские собрания, на которых сообщаются успехи и продвижения глухих<br />
и слабослышащих студентов, разъясняются эффективные способы взаимодействия и поддержки своих детей.<br />
Исследователи отмечают, что эффективно организованное сопровождение открывает перспективы личностного роста, помогает<br />
человеку войти в зону развития, предполагает поиск скрытых ресурсов развития, опору на собственные возможности и создание на<br />
этой основе условий для восстановления социальных связей [5].<br />
Полноценное образование лиц с ограниченными возможностями здоровья реально только в том случае, если при организации<br />
обучения действительно созданы специальные образовательные условия, учитывающие специфику всех сфер деятельности (коммуникативной,<br />
когнитивной и мотивационной) слабослышащих и глухих студентов.<br />
198
Psychological sciences<br />
Литература:<br />
1. Холл Дж., Тинклин Т. Студенты-инвалиды и высшее образование // Журнал исследо¬ваний социальной политики. 2004. Т. 2.<br />
№ 1. С. 115-126.<br />
2. Шаброва С.Е., Москаленко Н.В. Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации //Вестник интегративной<br />
психологии, 2006. - №4.<br />
3 Казакова Е.И. Сопровождение развития новая образовательная технология. Психолого-педагогическое медикосоциальное<br />
сопровождение развития ребенка: Материалы Российско-фламандской научно-практической конференции.<br />
– СПб, 2001. С.9-14.<br />
4. Холмогорова А.Б., Гаранян Н.Г., Петрова Г.А. Социальная поддержка и психическое здоровье //Психология: Современные<br />
направления междисциплинарных исследований. – М., 2003.<br />
5. Осухова Н.Г. Психологическое сопровождение личности в период адаптации к жизненным изменениям //Профориентация<br />
и психологическая поддержка – новые возможности занятости: Тез. докл. межрегион. науч-практ. конф. –<br />
М.: Красная площадь, 1996. С.103-105.<br />
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ЯДРО «НОВОЙ» ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ<br />
Черванева З.А., канд. филос. наук, проф.<br />
Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», Украина<br />
Участник конференции,<br />
Национального первенства по научной аналитике<br />
Рассматривается качественно новый базис педагогической психологии, присущий постиндустриальному обществу – человеческий<br />
капитал. Сравнивается понятие человеческого капитала с традиционными формами материального капитала и показывается,<br />
что в современном обществе нужны совершенно новые ориентиры педагогической деятельности и психологические установки,<br />
которые бы поднимали на надлежащий уровень отношения в социуме к креативной личности, интеллектуальному творчеству,<br />
досугу как форме продолжения креативной деятельности и источникам креативного капитала – важнейшего достижения цивилизации.<br />
Ключевые слова: человеческий капитал, креативная деятельность, педагогическая психология, социальная экономика,<br />
управление социальными системами.<br />
Введение. В рейтинге научно-технического прогресса, проведённом в очередной раз известной корпорацией RAND, дан<br />
анализ глобальной технологической революции на 2020 г. 1 . В этом документе, включающем 16 направлений научно-технического<br />
развития, установлен рейтинг стран. Не вызывает удивления, что в нём на первом месте стоят США. Удивительным и<br />
многообещающим является то, что Украине принадлежит неплохое ( в сравнении с остальными показателями) 29 место, а России –<br />
и того выше. В то время как по индексу развития человеческого потенциала Россия занимает 57, а Украина 70-е место 2 . Это<br />
свидетельствует о том, что, несмотря на невысокий уровень экономических показателей и социального статуса стран, они<br />
располагают мощным потенциалом творческой деятельности, лежащей, наряду с экономической мощью, в основе научнотехнического<br />
прогресса. Иными словами, в странах Восточной Европы высока креативная составляющая научно-технического<br />
прогресса, которая должна предопределить социально-экономическое развитие на ближайшее будущее.<br />
Теория постиндустриального общества позволяет сфокусировать исследования на перспективной форме общественного<br />
богатства – развитой личности, высветить происходящие изменения в ценностных ориентациях человека, где на фоне традиционных<br />
экономических начинают доминировать социокультурные и духовные потребности. Формируется новый тип работника: помимо<br />
его образования и квалификации в узком понимании. Востребован уже более широкий спектр способностей и качеств человека, в<br />
частности способность к анализу, обработке и использованию стремительно растущего объёма разнообразной информации.<br />
Возрастают потребности в производстве нового знания в условиях избыточности общей информации, к самостоятельному<br />
принятию решений и одновременно к слаженной работе в команде и сетевых организациях, к самоопределению и поиску путей самореализации<br />
через творческую деятельность и пр. Расширяется спектр качеств и способностей, входящих в человеческий капитал<br />
за счёт растущего числа интеллектуальных, социальных и культурных составляющих человеческого потенциала.<br />
Человеческий капитал – совершенно новая социально-экономическая категория, включающая в себя, как родовое понятие,<br />
несколько понятий видовых – креативный капитал, социальный капитал и др., и изучается в таком смысле социальной экономикой.<br />
Одним из постулатов этой новой науки является утверждение, что на современном этапе (в постиндустриальном обществе)<br />
«...возникает новая тенденция развития содержания труда – тенденция постепенного превращения его в творческий труд. Это<br />
означает, что процесс труда становится одновременно не формальным, а реальным процессом развития человека» [И, с. 17].<br />
«Человек является той целостностью, которая приходит на смену тотальному господству капитала, - пишет А.А. Гриценко, - точнее<br />
человек сам превращается в основной капитал, который сам себя воспроизводит в расширенном масштабе» [12, с. 8]. Такой подход<br />
практически безгранично расширяет рамки включения в состав человеческого капитала всевозможных способностей, качеств и<br />
свойств личности, которые являются или могут быть основанием для расширенного воспроизводства и осознанной реализации на<br />
их основе человеческого потенциала.<br />
Но, что не менее важно, социальная экономика, как «новая интегративная наука о человеко-культурной стороне хозяйственной<br />
деятельности в широком понимании» [21, с. 121], по-новому поднимает проблемы ответственности человека и человечества за<br />
последствия их действий и бездействия, среди прочих ставит вопросы изменения мировоззрения каждого конкретного человека,<br />
культурных ценностей и соответствующих коренных перемен в его поведении, что должно стать объектом педагогической<br />
психологии в условиях постиндустриального общества.<br />
Цель этой статьи – привлечение внимания коллег, чья креативная деятельность лежит в сфере образования, к вопросу: какие<br />
задачи должна решить страна транзитивной экономики для перехода к «обществу знаний», чтобы включить их в формирование<br />
творческого развития людей нового общества. Статья основывается на сравнительном анализе работ, принадлежащих украинским<br />
1 Global Technology Revolution 2020 / RAND Corporation.- 2005.<br />
2 Индексы человеческого развития. Интернет-ресурс. 2006.<br />
199<br />
Pedagogical psychology
Psychological sciences<br />
Pedagogical psychology<br />
и российским ученым разного научного профиля.<br />
Постановка задачи. В научной и особенно – публицистической литературе все чаще говорят об экономике<br />
знаний. Именно знания (а не какой-либо иной из существующих двух других основополагающих факторов производства<br />
– земли и капитала) убыстряющимися темпами меняют облик современного мира, формируя, по выражению<br />
экономистов, интеллектономику (цивилизацию одухотворенного интеллекта) [2]. В связи с тем, что знания представляют<br />
собой высшую форму и одновременно – продукт интеллектуальной обработки информации (но не только поэтому),<br />
говорят об информационной эпохе [3,4] и информационной экономике [5].<br />
Есть целые теории (иногда фантасмагории), посвященные этому феномену. В одной из работ известного российского экономиста<br />
А.В.Бузгалина утверждается следующее: «Действительная победа в геоэкономическом и геополитическом соревновании в 21 веке<br />
может принадлежать только открытым сетям (миру, пространству-времени), в которых складываются неотчужденные<br />
отношения между людьми по поводу опредемечивания творческой деятельности распредмечивания ее результатов» ([1]. с.29).<br />
Таким образом, налицо две тенденции:<br />
- превращение знания в фактор развития и одну из составляющих капитала («креативный капитал») совеременного постиндустриального<br />
общества;<br />
- формирование новых социальных институтов (в форме сетевых структур, слагающих «сетевое общество» по М.Кастельсу) и<br />
новых социальных отношений ( в виде добровольного сотворчества) в определенных социальных группах, имеющих тенденцию<br />
быстрого роста и укрепления.<br />
Креативное благосостояние личности. Потребность в высшей (т.е. креативной) деятельности является абсолютной потребностью<br />
человека. Вторичные потребности лишь способствуют высшей деятельности, но сами по себе не удовлетворяют эту абсолютную<br />
потребность. Креативное благосостояние индивида складывается благодаря реализации его творческого потенциала, что, с одной<br />
стороны, создает моральное удовлетворении деятельностью. С другой – обеспечивает условия расширенного воспроизводства<br />
знания и в третьих – обеспечивает прогресс общества.<br />
Структура индивидуальной креативной деятельности. В процессе высшей деятельности индивид потребляет, использует в<br />
целях саморазвития свои творческие способности, которые выступают одновременно и как средство творческого труда, и как<br />
предмет творческого потребления. Потребляя свои творческие способности, индивид в то же время воспроизводит их. Процесс<br />
потребления является в этом случае одновременно процессом труда, и наоборот. Таким образом, креативная деятельность индивида<br />
распадается на рабочее время творческого труда-потребления и нерабочее время творческого труда-потребления.<br />
С точки зрения креативной концепции человека, увеличение производительности общественного труда есть не что иное, как<br />
освобождение человека от низших форм деятельности и создание условий для занятия высшей деятельностью.<br />
Итак, увеличение общественного креативного благосостояния означает движение в направлении общественного прогресса.<br />
Креативное благосостояние как ценностная норма. Потребности человека есть, по сути, институциализованные нормы общественной<br />
жизни, которые формируются под влиянием глобальной тенденции исторического развития (см. [2,3]). Поскольку общественный<br />
прогресс заключается в увеличении совокупного объема высшей деятельности, соответствующая ему норма<br />
общественного поведения трактует такую деятельность как наиболее полезную для человека и общества в целом. Глубокая институционализация<br />
этой этической нормы индивидом приводит к формированию у него осознанной потребности в высшей<br />
деятельности. Если же эта норма слабо институционализирована индивидом (например, по причине ненадлежащего воспитания),<br />
то он не испытывает такой потребности. У такого индивида абсолютная потребность проявляется неосознанно в различных<br />
формах: от пассив¬ного просмотра телевизионных программ до употребления алкоголя и наркотиков, которые создают иллюзию<br />
высшей деятельности.<br />
Основу креативного благосостояния составляют не столько внешние блага, традиционно исследуемые экономистами, сколько<br />
внутренние качества личности. В современном мире определяющим условием благосостояния индивида являются его воспитание<br />
и образование, а основными общественными институтами, формирующими будущее благосостояние, становятся семья и школа.<br />
Даже самый современный рыночный механизм не может обеспечить потребителя лучшей жизнью, чем он заслуживает по<br />
своим знаниям и культуре. Поэтому научить потребителя предъявлять запросы просвещенного человека так же важно, как просто<br />
удовлетворять его требования.<br />
Креативное благосостояние как межличностное отношение. Межличностное взаимодействие является процессом передачи<br />
личностных качеств от одного индивида к другому. Чем более развит человек, тем больше степень его индивидуализации, тем<br />
больше его возможность обогащать своими личностными качествами других людей и самому изменяться в результате межличностных<br />
взаимодействий. Обретение индивидом новых личностных качеств требует от него творческих усилий. Поэтому в результате межличностного<br />
воздействия происходит развитие индивида, что создает предпосылки для увеличения его креативного благосостояния.<br />
Способность индивида испытывать межличностные воздействия, т. е. изменяться в результате таких воздействий, тесно<br />
связана со способностью оказывать межличностные воздействия на других людей. Творческие способности человека закладываются<br />
в раннем возрасте и являются результатом межличностных воздействий со стороны родителей, учителей и пр. Если человек с<br />
детства не¬осприимчив к воспитанию и обучению, то уровень его творческого развития будет низок.<br />
Свойственное каждому человеку стремление постоянно увеличивать свое влияние на общество посредством расширения и<br />
укрепления системы межличностных воздействий не всегда является осознанным. Рассмотрим несколько примеров, демонстрирующих<br />
разнообразие проявления этого сущностного стремления человека к персонификации окружающей его социальной среды.<br />
Социальные измерения креативного благосостояния. Социальное взаимодействие между индивидами понималось<br />
клас¬сиками политэкономии исключительно как обмен товарами. В их модели общества межличностное взаимодействие не<br />
относилось к значимым экономическим явлениям и фактически не рассматривалось как существенный фактор прогресса.<br />
В теории креативной ценности, наоборот, творческое взаимодействие индивидов составляет основу функционирования<br />
общества. Таким образом, в вопросе о сущности общественных отношений теории трудовой стоимости и креативной ценности<br />
принципиально расходятся.<br />
У классиков важнейшим результатом социальных взаимодействий являлась экономия труда, достигнутая за счет разделения общественного<br />
труда. Из их рассуждений следует, что благосостояние индивида тождественно принадлежащему ему объему меновой<br />
ценности, или его материальному богатству. В креативной теории ценности творческое межличностное воздействие одного<br />
индивида на другого имеет прямо противоположные последствия.<br />
Измерение креативного благосостояния человека за какой-либо период его жизни представляет собой сложную и пока не<br />
решённую задачу. в объективных единицах времени творческого труда. Понятие Понятие креативной ценности лежит в основе<br />
теории информационной экономики (см. [5]).Если в классической теории экономической ценности в качестве базовой временной<br />
единицы рассматривается время жизни человека, то теория креативной ценности базируется на этическом постулате, который<br />
утверждает, в качестве абсолютной ценности, время высшей деятельности человека, а все прочие блага — в качестве ценностей<br />
вторичных. Таким образом, увеличение творческого досуга является приобретением и для человека, и для общества, средством<br />
200
Psychological sciences<br />
повышения их благосостояния.<br />
Неэкономическая категория времени занимает в теории креативной ценности доминирующее положение по сравнению с экономической<br />
категорией продуктивности труда, что является следствием этической предпосылки об абсолютной ценности времени<br />
творческой деятельности безотносительно к внешним ее результатам. Если в классической экономической теории ценность<br />
предмета определяется затратами времени на его производство, то в креативной теории — его способностью сокращать затраты<br />
времени низшей деятельности в результате творческого потребления. Креативная теория ценности явно формулирует сущностное<br />
значение высшей деятельности, поэтому здесь не возникает вопроса о целевом показателе, подлежащем максимизации каждым<br />
индивидом. Этим показателем является креативное благосостояние. В креативной теории главным макроэкономическим показателем<br />
служит суммарное время творческой деятельности всех членов общества, или общественное креативное благосостояние.<br />
Психолого-педагогическая сторона проблемы. Почему интеллектуалы, являясь носителями креативного капитала<br />
общества, общепризнано, самого важного, самого динамичного и самовозобновляющегося, т.е. практически идеального<br />
капитала, – почему, спрашивает В.М.Куклин, они занимают сравнительно низкое социальное положение, о чем свидетельствуют<br />
их недостаточные личные доходы, да ещё и к тому же пренебрежительное отношение в обществе? Это главный вопрос<br />
воспитания нового человека. Сложилось так, что общество уже в известной степени стало креативным, а социальная мораль<br />
остаётся на приоритетах человека физического труда, т.е. в соответствии с постулатами индустриального общества. Причем,<br />
не только в нашем, украинском (или российском) социуме. Эти отношения суть инвариантами по отношению к месту и<br />
времени. «Истинным интеллектуалам,- заключает Куклин,- приходится платить слишком высокую цену за свой жизненный<br />
выбор. Они тратят свои бесценные юность и молодость на овладение знаниями и навыками, а затем еще большую часть<br />
своей жизни – на рутинную, поглощающую почти все их жизненные силы, малопонятную и плохо оцениваемую окружающими<br />
деятельность. Взамен, правда, они получают возможность приобщаться к тайнам природы и общества, причем результат<br />
их усилий проявляется в прогрессе человечества» ([6],с. 44).<br />
Более 10 лет я работаю на кафедре педагогики и психологии управления социальными системами, которая специализируется на<br />
подготовке управленческой элиты. Принципы выявления, оценивания и использования креативного капитала технической<br />
интеллигенции составляют стержень того совершенно нового подхода к формированию специалистов, который отвечает задачам<br />
постиндустриального общества.<br />
Литература:<br />
1. Бузгалин А.В. Новая Касталия // Социальная экономика, 2005, № 3-4. С. 28-48.<br />
2. Задорожный Г.В., Барвено О.В. Неоэкономика как интеллектономика (о цивилизации одухотворенного интеллекта) //<br />
Социальная экономика, 2001, № 2. С.23-32.<br />
3. Иноземцев В.Л. На рубеже эпох. Экономические тенденции и их неэкономические последствия. М.: ЗАОИ «Экономика»,<br />
2003. 776 с.<br />
4. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с.<br />
5. Корнейчук В.Б. Информационная экономика. СПб.: Питер, 2006.- 400 с.<br />
6. Куклин В.М. Нищий интеллект // Университеты. Наука и просвещение. № 3/2006. С. 34-44.<br />
YOUNG ADULT’S ATTITUDE TOWARDS THE OTHER AND ITS INFLUENCE UPON THE SUCCESS DYNAMICS<br />
OF FOREIGN LANGUAGE ACQUISITION<br />
Kret M.V., post-graduate student<br />
South Federal University, Russia<br />
Conference participant<br />
This article deals with the young people’s attitude impact upon the success of the foreign language acquisition. Positive<br />
attitude towards the Other (teacher and group classmates) contribute to the success of the foreign language acquisition. The<br />
analysis is based on data gathered in private linguistic schools consisted of 126 respondents 16-27 years old (42 young men<br />
and 84 young women) who were divided into 3 subgroups according to the language acquisition dynamics. The respondents’<br />
test results supported by the teachers’ observation were taken as a success criterion. The main characteristics of the sample<br />
are based on gender (male, female) and age group. The results of the tests were taken into consideration in order to divide the<br />
sample into the subgroups, they were also supported by teacher’s opinion about students’ progress. The results reveal the<br />
correlation between the attitudes towards the Other-teacher and the group with the success dynamics of the foreign language<br />
acquisition.<br />
Keywords: attitude towards the other, success, success dynamics, foreign language acquisition, test results<br />
The overview of the socio-psychological studies which have been carried out within the language classroom, due to the<br />
fact that the teaching of the languages is realized in small groups, the modern language teaching methodology uses different<br />
effects and phenomena like creation of the social situation at the lesson, interpersonal influence, identity building, social<br />
facilitation effect, «team decision making» effect, exploiting group dynamics, ensuring group cohesiveness and etc. and show<br />
significant bearings of socio-psychological phenomena upon the foreign language learning success. As Fazio R.H. and A.<br />
Olson believe that “the attitudes have been viewed as the shining star of social psychology” (Fazio R.H., Olson A., 2003,<br />
p.155), one of the lines of our research has been dedicated to the attitudes studies.<br />
Taking into consideration the fact that it is difficult to imagine someone’s life without attitudes, because they help to<br />
avoid danger, make a decision quickly, but sometimes they impose artificial limits to our development. Before starting our<br />
research, we bared in mind that attitudes are endurable, moreover, negative attitudes exist longer than positive ones. As they<br />
formed through associations, it is a long term work to replace them by the new ones. Their most important characteristics are<br />
their strength and accessibility (Fazio, Chen, Mc Ponel& Sherman, 1982), attitude certainty (Tormala, Z. L., & Petty, R. E.,<br />
2002, Tormala, Z. L., & Rucker, D. D. 2007). Need to evaluate as a personal trait (Maio& Esses, 2001) is related to attitude<br />
extremity. Negative attitudes lead to avoiding behavior and have an impact on the learning success. The attitudes are<br />
displayed in three dimensions: believes, feelings and behavior. Ambivalent attitudes change quickly into positive or negative<br />
201<br />
Social and political psychology
Psychological sciences<br />
Social and political psychology<br />
depending on stimulus activated by a particular situation. Depending on the style of the decision making and affect intensity<br />
(Elen M.et al.,2012, Basso, Schefft, & Hoffmann, 1994, Barrone al., 2000, Shwarz, Bless, Bohner ,1991) people refer to the<br />
existing explicit attitude , or they are forced to construct a new implicit attitude. The third reason why we studied the attitude<br />
impact upon learning success, due to the fact that attitude importance increases from early adulthood to age 50 (Visser &<br />
Krosnick,1998) and then begins to decrease after age 65. So the intervention made at the period of the early adulthood is<br />
predicted to be more successful then at the other periods of the adulthood.<br />
The classes were carried out according to modern communicative method which is thought- provoking and interesting for<br />
the students which is believed to prevent automatic stereotyping (Stewart B.D., Payne B.K., 2008). The task –oriented<br />
teaching was called to play the role of the attitude moderating context (Boarden, Maddux, Petty & Brewer, 2006, Sun Jun,<br />
2009).<br />
A lot of research has been recently taken to study the methods of increasing acceptance of the members of the group by<br />
each other, improving group cohesiveness and suggesting how to manage the group dynamics, group norms, classroom<br />
climate (Dorney Z., Malderez A., 1997, Jones & Jones, 2000; Schmuck& Schmuck, 2001), they underline that sometimes<br />
group pressure or mutual dislike bring significant pressure upon the member of the group but there is no even approximate estimations<br />
how the attitude towards Other has impact upon learning success or success dynamics. Other scholars like<br />
Boekharts (1987) point out that learners according to their previous experiences and socio-psychological features may encode<br />
some certain aspects of the learning environment in a different manner, finding them interesting, stressful or challenging.<br />
That is the second reason why our study addresses the question of how attitude towards the Others is related with the success<br />
dynamics of the foreign language acquisition.<br />
Some researches have proved that social relations have supportive effect upon the academic success (Roeser, Eccles and<br />
Sameroff, 2000, Rosenfeld, Richman and Bowen, 2000, Wentzel,1998), that perceived social support and sociometric status,<br />
rapport with the teacher (Scrivener J., 2005) are meaningful predictors of academic success (Bahar H. H., 2010).Besides the<br />
research in different fields reveals that positive attitude towards the other is considered to be a success factor for different<br />
spheres, for example, leadership (Sandon A.,2006, Shantalebi S., Yarmohammadian M.H., Ajami S., 2011).<br />
There is a number of the studies, which tried to establish , the meaningful correlation between the academic performance<br />
and teacher’s teaching style and learner’s learning strategies, self-discipline , empathetic climate during the lesson, studentoriented<br />
teaching style, parental support and their strategies to enhance studying a foreign language, demographic characteristics<br />
of the students (Dinçol and al.,2011, Bozkurt Tulay, Ozden, 2010, Melis Seray,2010, Ustunel Eda, 2009, Green L., Celkan G.,<br />
2011, Duckworth, A.L., Seligman, M.E.,2006). They used test results to establish success dynamics, so test scores are used to<br />
measure success in the academic field. Though there are a number of the other criteria like communicative competence,<br />
creativity of oral and written work and etc, and as these indices are difficult to compare if we have a considerable number of<br />
the respondents, we have chosen test score and teacher’s observation as the success index and the positive change of the tests<br />
results as the success dynamics.<br />
Basing on this theoretical background we could formulate the hypothesis that explicit attitudes towards the teacher and<br />
the group has an impact upon success and success dynamics of the foreign language acquisition.<br />
Our research consisted of three stages. At the first stage of our research we analyzed the criteria of the success and have<br />
chosen test results as the index of the learning success, we consider the positive changes of the test results as the dynamics of<br />
the foreign language acquisition. We also analyzed adult learners’ attitudes which can have an impact upon learner’s<br />
educational results. We elaborated questionnaires, chose the diagnostic methods, determined the program of the research.<br />
At the second stage of our research 149 people: 52-men and 97 women, from 16 up to 50 completed the questionnaires. 23<br />
respondents were over 27 years old, they were eliminated from the sample. In order to see the dynamics of the learning results<br />
the learners were proposed tests according to the equal time intervals. All the respondents after control tests were divided into<br />
the three subgroups according to the dynamics of the learning. The results of the tests and questionnaires were calculated and<br />
transmitted into Excel tables.<br />
At the third stage we analyzed the empirical materials, computed the data, received in the course of the research,<br />
described the socio-psychological particularities of the group of the adults, which differ by the success and the success<br />
dynamic. We found out the correlations between attitudes and dynamics of the learners success in the foreign language<br />
acquisition. We made the regression analysis to reveal the factors weight, the degree of their impact upon learners’ success<br />
and learner’s success dynamics.<br />
Research participants: The sample consisted of 149 adults, then 23 people were extracted belonging to the group of<br />
middle –aged people. So we examined 126 people’s data aged from 16 up to 26, which belong to the group- young adults (42<br />
men and 84 women).<br />
Data collection procedures: In order to measure different kinds of the attitudes towards the Other («scale of trust» by М.<br />
Rosenberg, «scale of acceptance of Others» by F. Fey, «scale of friendly attitude» by D. Campbell, «scale of manipulation<br />
attitude» by Т. Bant, «scale of hostility» by V. Cook-Medley, «Fundamental interpersonal relations orientation» by W.<br />
Schutz,, test of the integral forms of the communicative aggressiveness by Boiko V.V. Data were collected by filling in<br />
questionnaires «Assessment of the relations in the group while learning a foreign language» developed by the researcher<br />
which were destined to elicit the information about the subjective assessment of the relations with the teacher, group<br />
members and the attitude towards the subject. The scale was graded as “Yes”, “No”, “I don’t know” and “I don’t care”.<br />
Data analysis: The verification of the differences between subgroups, their interrelation and the prediction of their<br />
cumulative influence upon the learners’ acquisition of the foreign language was made by the application of the statistical<br />
methods of Mann Whitney, Pearson Correlation Factor Analysis, and regression analysis. The collected data were computed<br />
by using SPSS version 15.00 as a software tool.<br />
Our findings support our hypothesis. The following results were obtained: the correlation matrix indicated multi colinearity<br />
between 42 factors and success dynamics, among them there were those of attitude .While analyzing the system of<br />
the attitudes towards the Other , we discovered that the desire of belonging to the group( r=0,2 , p
can state that different indices of the positive attitude towards the group influence about 18% the learner’s success dynamics<br />
(F=13,2, p
Psychological sciences<br />
УДК 159.922.1<br />
СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О КРАСИВОМ МУЖЧИНЕ: ОТ ДЕНДИ К МЕТРОСЕКСУАЛУ<br />
Погонцева Д.В., канд. психол. наук, ст. преподаватель<br />
Южный Федеральный университет, Россия<br />
Участник конференции<br />
В данной работе рассматривается современное представление о внешнем облике мужчины. Приводятся различные типологии<br />
мужчин по внешнему облику, даются определения понятиям «метросесуал», «денди», «ретросексуал», «мачо» и другим. Приводятся<br />
результаты эмпирического исследования описывающее современного мужчину с позиции внешнего облика.<br />
Ключевые слова: внешний облик, мужчина, метросексуал, денди, ретросексуал, мачо.<br />
Social and political psychology<br />
В современной науке все чаще поднимается проблема изучения представлений об идеальной внешности и красоте, что<br />
диктуется активным развитием рекламы косметических средств, фитнесс-центров, спа-салонов, пластических операций). Каждая<br />
вторая реклама демонстрирует современные «идеалы красоты», стандарты, к которым следует стремиться. Говоря об английском<br />
языке, необходимо отметить, что в английском термин «beauty» применим только к женщине, в то время как мужчина может быть<br />
«attractive» или «handsome».<br />
С.Кирюхина описывая современные представлении о мужчинах и мужественности выделила два типа реклам с участием<br />
мужчин, те в которых используются традиционные образы: мужчина на работе, вернувшийся с работы и нетрадиционные: домовод<br />
или метросексуал. Таким образом, в последнее время все чаще поднимается вопрос о трансформации образа мужчины и<br />
«наполнение» представления о маскулинной идентичности новыми, отличными от конца 20 века, категориями. Орлянский Н.А.<br />
отмечает, что трансформация социального образа мужчины в современной российской культуре связана с изменением социальной<br />
роли женщины в постсоветском обществе, что существенно понизило социальный статус мужчин в обществе в связи с длительной<br />
стагнацией целых отраслей производства, обеспечивающих мужчинам высокий уровень доходов и укреплявших образ мужчины<br />
как главы семьи.<br />
Вначале 90-х американский журналист Марк Симпсоном [17] ввел понятие метросексуал для описания мужчин, которые<br />
уделяют большое количество времени своему внешнему виду и уходу за ним, при этом понятие «метросексуал» не взаимосвязано<br />
с сексуальной идентичностью мужчины. Позже было также введено понятие «ретросексуал» - мужчина, которые придерживается<br />
традиционных взглядов на мужественность. В России, одной из первых, вопрос о метросексуалах подняла О.Вайнштейн в начале<br />
2000 [2, 3], сравнивая данный феномен с феноменом «денди» [3]. После чего данный феномен не раз затрагивался в различных<br />
работах по искусствоведению, культурологи и в рамках гендерных исследований [7, 8]. Сам по себе феномен «денди» относят к<br />
рубежу XVIII-XIX веков, и как указывает Бодлер, девизом денди было: «Жить и умереть перед зеркалом» [цит. 11, С. 241]. Точилов<br />
К.Ю. рассматривая эволюцию дендизма проводит вывод о том, что современный аналог дендизма – это гламур. Изначально<br />
описывавший тип журнала (глянцевого), современный гламур вышел за пределы описания типа печатного издания, превратившись<br />
в эстетический феномен, который представляет собой трансформированную и видоизмененную форму гедонизма. В его основе —<br />
принцип наслаждения и избежание страданий. Современный гламур сводит мотив и цель жизни субъекта к достижению максимума<br />
эстетического наслаждения, независимо от этических последствии этих устремлений, нивелируя нравственные аспекты, также<br />
сводит устремления субъекта только к погоне за материальными богатствами и роскошью, что означает огрубление эстетического<br />
вкуса, несмотря на его видимую утонченность. Претендуя на оригинальность, гламур не является таковым по сути. Современный<br />
гламур можно определить как мимикрию под дендизм. Э.Г. Баландина [1] разделяет категории «метросексуал» и «денди». Она<br />
говорит о том, что метросексуалы отличаются от денди тем, что они выбирают уже готовые определенные знаки, модные брэнды,<br />
которые позволяют им чувствовать себя и быть на высоте потребительской волны. Второе, что отличает классического денди от<br />
метросексуала, это их классовая принадлежность. Денди принадлежали к аристократическим или, на худой конец, к буржуазным<br />
кругам и богеме. Нынешние метросексуалы не имеют определенной социальной принадлежности, могут принадлежать к любой<br />
группе, любому социальному слою, они не имеют укорененности в структуре общества и представляют собой скорее культурный,<br />
чем социальный тип. Автор также отмечает, что между классическим денди и современным метросексуалом находится целый ряд<br />
промежуточных культурных типов: щеголи, франты, пижоны. Также важно понимание того, что метросексуалов во многом<br />
формирует потребительский рынок, поставляющий не только модные товары и услуги, но и некий стиль жизни.<br />
В противовес метросексуальности, приводится феномен «мачизма», как яркое проявление мужественности и маскулинной<br />
идентичности мужчины [5]. В испаноязычных странах термин «мачо» возник для описания мужчины ярко выраженного мужского<br />
типа средиземноморской или латиноамериканской внешности (обязательно шатен или брюнет) и сексуальности, проявляющего<br />
стереотипические мужские качества. Термин распространился в Средиземноморье, а затем и по всему миру (в том числе попав в<br />
русский язык), где значение слова исказилось и переняло качества выше перечисленные, в том числе агрессивность, плодовитость,<br />
брутальность, которые свойственны «мачо».<br />
М.Кирьянов и В.Степанов [4] выделили иную классификацию современных мужчин. Наряду с метросексуалами, авторы<br />
выделяют «гару-о» и «бобо». Термин «гару-о» ввел редактор популярного японского журнала, это неологизм слов: девочка и<br />
мужчина. Представители движения гару-о гетеросексуальны, однако мужественный мужчина, в их представлении является<br />
пережитком прошлого. Идеал современного юноши – модный, красивый и женственный.<br />
Другая категория выделяемая авторами – «бобо» или богемная буржуазия. Данный термин был введен в 2000 году журналистом,<br />
Девидом Бруксом опубликовавшим работу «Бобо в раю. Новый класс и как они туда попали». Разница между метросексуалом и<br />
бобо заключается в наличии у бобо – вкуса, которому они уделяют большее значение, чем сексуальной привлекательности.<br />
Близким к понятию андрогинии является уберсексуал (юберсексуалы) или яппи. Как отмечает Э.Г. Баландина [1]<br />
уберсексуалы представляют собой гибрид метросексуала и мачо, заимствуя у тех и других наиболее привлекательные<br />
черты. Они не избегают модной одежды, знают толк в мужской косметике, следят за своим внешним видом, открыто<br />
эмоциональны, но не фетишизируют никакие свои особенности. В большей степени они озабочены своим социальным<br />
статусом и карьерой, сохраняют способность к принятию решений, склонны демонстрировать волю и силу духа. Как<br />
правило, они занимаются спортом, разбираются в технике, но не гнушаются и теми занятиями, которые считаются<br />
чисто женскими. Они утончены как метросексуалы и мужественны как мачо, они зарабатывают деньги и умеют их с<br />
толком потратить.<br />
В моде направленность мужчин в феминизацию получила название – унисекс, и если изначально унисекс был обращен к<br />
женщинам (брюки, прически по типу мужских и т.д.), то на современном этапе мужчины получают все более феминную окраску.<br />
204
В большинстве современных зарубежных исследований мужская красота чаще всего становится объектом исследования в<br />
психологии рекламы, рамках изучения поведения потребителей и реже при изучении «брачного поведения».<br />
C. Чу, Р. Хардакер, Дж.Е. Лицетт (S. Chu, R. Hardaker, J.E. Lycett, 2007) изучая одну из самых распространенных межкультурных<br />
шуток о том, что «красота мужчины прямо пропорциональна размеру его кошелька», подтвердили данный феномен, объяснив его<br />
генетическими задачами женщины – воспитать потомство [14]. В своем исследовании женщины оценивали аттрактивность<br />
внешнего облика мужчин, представленных на фотографиях. В ходе анализа полученных результатов фотографии были поделены на<br />
две группы: на первых были мужчины, обладающие аттрактивным внешним обликом, и на вторых, мужчины, обладающие не аттрактивным<br />
внешним обликом. Далее на фотографии с мужчинами, обладающими не аттрактивным внешним обликом, была<br />
добавлена информация о размере их банковского счета и уровне заработной платы (вся информация была значительно завышена),<br />
в то время как на фотографии с мужчинами обладающими аттрактивным внешним обликом, была также добавлена информация о<br />
размере их банковского счета и уровне заработной платы, однако вся информация была искажена и уменьшена. В результате<br />
женщины оценили мужчин основываясь на информации об их экономическом достатке: чем выше достаток, тем выше оценка аттрактивности<br />
внешнего облика.<br />
Другая группа ученых Дж. Парк, А. Баанк, М. Вилинг (Park J. H., Buunk A.P., Wieling M. B.) выдвинули предположение о том,<br />
что наиболее красивыми являются спортсмены. Основываясь на результатах предыдущих исследований Дж. Парк и др. [14]<br />
отмечают, что атлетизм - сексуально отобранная черта, которая сигнализирует генное качество. Так же следует учитывать, что не<br />
все спортивные состязания равны, однако - они обладают различным уровнем престижности. Некоторые спортивные состязания<br />
(например, футбол) всегда и всюду популярны, тогда как другие спортивные состязания (например, боулинг) изо всех сил пытаются<br />
только быть воспринятыми как спорт. Утверждалось, что более престижные спортивные состязания - те, которые более честно сигнализируют<br />
гендерно-значимые черты (например: сила, выносливость, проворство). Авторы так же поднимают идею о том, что<br />
если есть различия между разными видами спорта, то и могут быть отличия в зависимости от роли игроков внутри определенного<br />
направления, в зависимости от их статуса и роли в игре. В своем исследовании они предлагали женщинам оценить аттрактивность<br />
внешнего вида спортсменов. В первой части исследования женщины оценивали спортсменов и не спортсменов, выяснилось, что<br />
спортсменов женщины оценивали как более аттрактивных. Во второй части эксперимента женщины оценивали только спортсменов,<br />
но на всех фотографиях было подписано, какую позицию в игре занимают спортсмены. Следует отметить, что в футболе<br />
существует 4 позиции: вратарь, защитник, полузащитник (хавбек) и нападающий (форвард), в то время как в хоккее с мячом<br />
существует только три позиции: вратарь, защитник и нападающий. В каждом из этих двух видов спорта существует капитан, один<br />
из игроков, координирующий работу команды на поле (обычно самый опытный или просто лучший игрок). В их исследовании<br />
было выявлено, что наивысшие оценки получают вратари, форварды и капитаны команд. Таким образом, при оценке аттрактивности<br />
внешнего облика важно не только показатель атлетизма (спортивности), но и то какую роль в команде играет спортсмен [13].<br />
Подобное исследование так же проводили Дж. Хонекопп, У. Рудольф, Л. Беиер, А. Лиеберт и К. Мюллер (J. Hоnekopp, U. Rudolph,<br />
L. Beier, A. Liebert, C. Muller), они выявили, что информация о том, занимается ли мужчина, который демонстрируется на<br />
фотографии, спортом влияет на оценку его как аттрактивного [13]. Таким образом, они подтвердили результаты Дж. Парка, А.<br />
Баанка, М. Вилинг [14] о том, что на выбор партнера и на оценку внешней аттрактивности влияет такой параметр, как информация<br />
об атлетической подготовке. Дж. Хонекопп, У. Рудольф и др. [13] также отмечают, что информация о том, что мужчина на<br />
фотографии курит и/или употребляет наркотические вещества – снижала оценку его внешней аттрактивности.<br />
Наше исследование носит пилотажный характер. Для выявления причинно-следственных связей, нами было предложено<br />
закончить фразы: «красивый, потому что…»; «красивый, поэтому...». Мы провели анализ ответов 81 женщины в возрасте от 16 до<br />
42 лет (ср. возраст ок.23 лет) и выявили, что мужчина «красивый, потому что» – 30% родился таким/ гены /от природы; 5% умный;<br />
6% следит за собой и спортивный, и ок. 6,5-7% красивый, потому что красивый. Красивый, поэтому от 5 до 7% успешный,<br />
популярный, самовлюбленный, всем нравится.<br />
На следующем этапе мы опросили 100 женщин в возрасте от 15 до 30 лет, которым мы предложили оценить гендерную<br />
идентичность красивого мужчины по методике исследования гендерной идентичности (МИГИ) М.В. Бураковой, а также на<br />
авторскую анкету, которая включала 14 вопросов направленных на выявление представлений о том, должен ли мужчина быть<br />
ухоженным, и как именно красивый мужчина должен ухаживать за собой (посещать салоны красоты, СПА-процедуры, умение<br />
модно одеваться). В данном случае, при составлении вопросов мы отталкивались от идеи М.Симпсона о том, что метросексуалы<br />
являются «активными потребителями модной косметической продукции и индустрии». Испытуемым было предложено оценить на<br />
сколько то или иное поведение характерно для «красивого мужчины». Так были предложены следующие ситуации: красивый<br />
мужчина должен посещать парикмахера (обновлять стрижку); подкрашивать волосы/делать мелирование/тонирование и т.д;<br />
регулярно делать маски для волос/ другие оздоровительные процедуры; делать салонный педикюр; делать салонный маникюр;<br />
красить ногти бесцветным лаком (в оздоровительных целях, в эстетических целях); ухаживать за кожей лица, делать маски,<br />
наносить крема, ухаживать за кожей вокруг глаз, использовать средства от морщин; красивый мужчина должен разбираться в<br />
модных тенденциях (мужской одежды); уметь одеваться модно, стильно; уметь подбирать и носить мужские аксессуары (шарфы,<br />
запонки, часы, галстук, ремень) и уметь носить костюм/смокинг.<br />
На первом этапе мы выявили гендерную идентичность красивого мужчины, в ходе проведенного исследования было выявлено,<br />
что большинство участниц приписывают красивому мужчине маскулинную, полотипичную, гендерную идентичность (78%), реже<br />
андрогинную гендерную идентичность (18%), также были участницы, приписавшие красивому мужчине фемининную гендерную<br />
идентичность (4%).<br />
Следует отметить, что данная методика предлагает классический набор характеристик, описывающий маскулинную идентичность,<br />
который включает такие характеристики как: аналитически мыслящий, сильный физический, обладающий лидерскими качествами.<br />
В тоже время большинство женщин (98%) отметили, что красивый мужчина должен быть ухоженным.<br />
На следующем этапе мы провели процедуру квартилирования и выделили те характеристики, которые женщины значимо чаще<br />
приписывают красивому мужчине: любящий (М=6,37); мужественный (М=6,21); обаятельный (М=6,2); чистый (М=6,2); счастливый<br />
(М=5,98); искренний (М=5,97); независимый (М=5,95); действующий как лидер (М=5,78); обладающий лидерскими качествами<br />
(М=5,77); сильный физически (М=5,7); умеет носить костюм/смокинг (М=5,59). В нижний квартиль попали характеристики,<br />
которые большинство участниц исследования считают не приемлемыми для красивого мужчины: необязательный (М=2,24);<br />
женственный (М=2,24); равнодушный (М=2,1); неестественный (М=1,96); делает маски для волос (М=2,23); ухаживает за кожей<br />
вокруг глаз (М=2,22); делает салонный маникюр (М=2,01); делает салонный педикюр (М=1,83); красит волосы (М=1,73); наносит<br />
на ногти лак в оздоровительных (М=1,7) или эстетических (М=1,33) целях. Таким образом, на равнее с высокими оценками по характеристикам<br />
описывающие маскулинную идентичность, можно выделить негативное отношение к тем параметрам, которые<br />
описывают ухоженность мужчины.<br />
Таким образом, мы можем говорить о том, что, не смотря на то, что в российской действительности стали использовать понятие<br />
«метросексуал», в представлении женщин красивый мужчина обладает характеристиками классической мужественности. Само же<br />
205<br />
Psychological sciences<br />
Social and political psychology
Psychological sciences<br />
понятие «ухоженности», относительно к мужчинам не включает такие характеристики, как салонный маникюр и педикюр,<br />
использование декоративной косметики и чрезмерный уход за внешностью, хотя приветствуется умение изысканно одеваться и использовать<br />
различные мужские аксессуары (запонки, галстуки, шарфы).<br />
Литература:<br />
1. Балдина Э.Г. Метросексуал в городе: явление, стиль, альтернативы // Известия Волгоградского государственного технического<br />
университета, 2010, №7, стр. 74-82<br />
2. Вайнштейн О. Поэтика дендизма: литература и мода : [о жанре «модного» романа] // Иностранная литература. – 2000. – № 3.<br />
– С. 296–308.<br />
3. Вайнштейн О. Денди: мода, литература, стиль жизни - М.: Новое литературное обозрение, 2005. 640 с., ил.<br />
4. Кирьянов М. Сепанов В. Купить мужчину. – М.: «РИП-холдинг», 2008.<br />
5. Котовская М.Г., Шалугина Н.В. Анализ феномена мачизма // Общественные науки и современность. 2005. № 2. С. 166-176.<br />
6. Лабунская В.А. Экспрессия человека: общение и межличностное познание. – Ростов н/Д: Феникс, 1999. – 608 с.<br />
7. Лёвочкина А. Денди XXI века // Гендерные разночтения: Материалы IV межвузовской конференции молодых исследователей<br />
«Гендерные отношения в современном обществе: глобальное и локальное» (22-23 октября 2004 г.) / Отв.ред. М.В. Рабжаева. – СПб.:<br />
Алетейя, 2005. С.353-356.<br />
8. Муслимова О. Метросексуализм как новый тип мужественности // Гендерные разночтения: Материалы IV межвузовской конференции<br />
молодых исследователей «Гендерные отношения в современном обществе: глобальное и локальное» (22-23 октября 2004<br />
г.) / Отв.ред. М.В. Рабжаева. – СПб.: Алетейя, 2005. с.368-370<br />
9. Орлянский С.А. Трансформация образа мужчины в современной культуре // автореф филос.наук Ставрополь 2004<br />
10. Погонцева Д.В. Представления современной молодежи о внешней красоте женщины // Российский психологический<br />
журнал. 2008. Т.5. № 4. С. 110-112.<br />
11. Столович Л.Н. Категория прекрасного и общественный идеал. М.: Изд-во Искусство, 1969. c.8.<br />
12. Точилов К.Ю. Гламур как эстетический феномен // Автореф. филос.наук. Москва, 2011.<br />
13. Шиффер Д. Философия дендизма. Эстетика души и тела (Кьеркегор, Уайльд, Ницше, Бодлер) / Пер. с франц. – М.:<br />
Издательство гуманитарной литературы, 2011. – 296 с.<br />
14. Chu S., Hardaker R., Lycett J.E. Too good to be ”true”? The handicap of high socio-economic status in attractive males // Personality<br />
and Individual Differences, Vol. 42, Issue 7, May 2007, p. 1291-1300.<br />
15. Hоnekopp J., Rudolph U., Beier L., Liebert A., Muller C. Physical attractiveness of face and body as indicators of physical fitness in<br />
men // Evolution and Human Behavior 28 (2007) 106– 111.<br />
16. Park J. H., Buunk A.P., Wieling M. B. Does the face reveal athletic flair? Positions in team sports and facial attractiveness //<br />
Personality and individual differences, Volume 43, Issue 7, November 2007, Pages 1960-1965<br />
17. Simpson M. The Metrosexual Noughties [Электронный ресурс] http://www.marksimpson.com/blog/2010/01/07/the-metrosexualnoughties.<br />
18. Yager K. M. Body image, body dissatisfaction, dieting and disordered eating and exercise behaviours of trainee physical education<br />
teachers: investigation and intervention // A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, Faculty<br />
of Education and Social Work The University of Sydney, June, 2007.<br />
Social and political psychology<br />
206
OPEN INTERDISCIPLINARY SECTION<br />
UDC 33+330+331+005+005,32<br />
ОСОБЕННОСТИ ПРИНЦИПОВ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ И БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ<br />
Чхаидзе И.Г., д-р эконом., ассоц. проф.<br />
Государственный Университет Шота Руставели, Грузия<br />
Участник конференции<br />
В статье определены значение проекта и методология управления; методы перспективного создания и разработки бизнесидей,<br />
методов «штурма мозга» и «нестандарного мышления», которые используют «самообучающиеся компании» в целях<br />
приобретения и удержания конкурентоспособности на рынке.<br />
В статье освещены, с одной стороны, бизнес-проекты и бизнес-процессы, а также жизненный цикл бизнес-проектов и отличительные<br />
черты жизненных циклов бизнес-процессов и, с другой, конечные итоги бизнес-проектов, которые отражаются на<br />
«индивидуальности, уникальности» продуктов и конечных итогах бизнес-процессов, которые являются отражением «типичной<br />
продукции».<br />
Ключевые слова: «штурма мозга», «нестандарного мышления», «самообучающиеся компании», «бизнес-проект»,<br />
«бизнес-процес».<br />
The present article deals with the problem of the essence of the project and methodology of management; arising of prospective business<br />
– ideas and for development of «Mental attack», and «Non-standard Thinking» methods, which «self-teaching companies» will gain and<br />
maintain market competitiveness.<br />
Formed on the one hand, as a business - project management and business - the process also in Business - Project life cycle and the<br />
business - the distinctive features of the process life cycle, and on the other hand, the final result of business which is being of goods<br />
Personality and uniqueness and the finel result of business process which is expression of «Typical types of goods». Business - Project and<br />
business process, these issues will be discussed in the examples on the basis of well-known companies.<br />
Keywords: «Mental attack», «Non-standard Thinking», «self-teaching companies», business– project, business -process.<br />
Управление проектом в бизнес-деятельности является тем механизмом, который дает возможность компаниям претворять в<br />
жизнь, используя новейшие технологии и знания, «уникальный товар», который отличается индивидуальностью, точными,<br />
детальными характеристиками и отвечает за инновационный конечный итог проекта. Таким образом, современным определением<br />
проекта является следующее - «проект это то, что изменит наш мир» (Мартин П., Теит К., 2006:12).<br />
В работе определены значение проекта и методология управления; методы перспективного создания и разработки бизнес-идей,<br />
методов «штурма мозга» и «нестандарного мышления», которые используют «самообучающиеся компании» в целях приобретения<br />
и удержания конкурентоспособности на рынке.<br />
В статье освещены, с одной стороны, бизнес-проекты и бизнес-процессы, а также жизненный цикл бизнес-проектов и<br />
отличительные черты жизненных циклов бизнес-процессов и, с другой, конечные итоги бизнес-проектов, которые отражаются на<br />
«индивидуальности, уникальности» продуктов и конечных итогах бизнес-процессов, которые являются отражением «типичной<br />
продукции».<br />
Отмеченные вопросы бизнес-проектов и бизнес-процессов рассмотрены на примере известных мировых компаний.<br />
Основываясь на взгядах ученых М.Ф. Меняева, И.И.Мазуры, В.Д. Шапиро, Н.Г.Ольдероге можно сделать заключение, что еще<br />
не полностью разработан единый подход определения управления проектом, однако явным остается факт, что основным моментом<br />
данного процесса является конечная цель, итог проекта, которые предусматривают конечный результат производства «индивидуального,<br />
уникального продукта».<br />
Действующие на мировом рынке известные компании ,,Holistic Pet Supplies”, ,,Sony Ericsson“, ,,LG“, ,,Samsung“, ,,Sanyo“,<br />
,,Kayocera“, ,,Nokia“, ,,Zara”, ,,Dolce&Gabbana”, ,,Gucci”, ,,Brioni”,,,Mercury”, ,,Cotton”, ,,Wal-Mart“, ,,Xerox“, ,,General Electric”,<br />
,,Hewllet–Packard”,,,Motorolla”, ,,Levi Strauss & Co“, ,,J.D. Power & Associates“ на протяжении определенного промежутка времени,<br />
с целью приобретения и удержания конкурентоспособности, приобретают статус «самообучающихся компаний», которые действуют<br />
под распространенным в мировой практике девизом – «побеждают не отдельные игроки, победа достается путем реализации<br />
возможностей каждого, отдельно взятого члена коллектива», то есть посредством использования одного из методов управления –<br />
«штурма мозга», осуществляется разработка и реализация новых идей (Сенге П.,2003:134).<br />
Одним из лучших методов «нестандартного мышления» является управленческая система компании ,,Motorolla”. Вицепрезидент<br />
компании Д. Николсон подчеркивал: «Исходя из того, что невозможно планирование творческого подхода, мы пытаемся<br />
подключать каждого сотрудника к творческому, креативному процессу. Мы не знаем кому придет в голову интересная мысль,<br />
однако уверены в том, что приемлемы любые идеи (хорошие, плохие и очень плохие). Необходимо давать сотрудникам возможность<br />
фантазировать».<br />
По словам ученого Н.Г.Ольдероге бизнес-проект, его жизненный цикл и конечный итог существенно отличаются от бизнеспроекта,<br />
его жизненного цикла и конечного итога. По мнению И.И.Мазуры, В.Д. Шапиро жизненный цикл проекта представляет<br />
промежуток времени от начала и до его конца, а также указывает на управленческие функции проекта (проектирование проекта, его<br />
организация, контроль, составление и осуществление бюджета, бухгалтный учет, проведение мониторинга, принятие и осуществление<br />
решений; анализ и оценка итогов), подсистему (определение объема проекта; учет факторов, препятствующих управлению<br />
проектом; управление текущих процессов временем, ценностями, качеством, ресурсами, рисками посредством информации и коммуникации)<br />
и связь между фазами (прединвестиционная, инвестиционная и реализаторская) (см. схему №1 стр.206)<br />
По мнению ученого Н.Г.Ольдероге «проект - это временный процесс, который имеет четко определенное начало и конец, завершающим<br />
результатом которого является индивидуальный, уникальный продукт». В свою очередь, бизнес-процесс является<br />
неповторимым процессом проекта, конечным результатом которого - «один и тот же продукт» или «продукт типичного вида».<br />
Компания по выпуску различных средств по уходу за домашними питомцами (в частности для собак) ,,Holistic Pet Supplies”<br />
одним из важных моментов в определении, выпуске и реализации на рынке сбыта собственной продукции на начальном этапе<br />
видит в осуществлении «жизненного цикла бизнес-проекта», а с целью удовлетворения потребностей клиентов компании на<br />
втором этапе реализацию той же продукции на рынке сбыта, компания от «жизненного цикла бизнес-проекта» перешла на<br />
«жизненный цикл товара». То есть, конечным результатом является выпуской одного и того же товара.<br />
В 60-ых годах XX века в Соединенных Штатах Америки компания ,,Wal-Mart“ осуществила проект, который предусматривал<br />
207<br />
Open interdisciplinary section
Open interdisciplinary section<br />
Open interdisciplinary section<br />
Схема №1 Общие примеры жизненно важных циклов проекта<br />
на первом этапе своего функционирования работу магазинов по розничным ценам. Необходимо отметить, что эксперты предвещали<br />
нежелательный прогноз в случае завершения «жизненного цикла» проекта и его перехода в бизнесс-процесс. Однако, причиной<br />
успеха фирмы стал правильный выбор целевого рынка и позиционирование на нем, что послужило расширению сети магазинов<br />
данной фирмы в США. После осуществления сложного проекта компания ,,Wal-Mart“, проведя ряд независимых маркетинговых<br />
мероприятий на рынке (учитывание требования потребителей, забота о благосостоянии потребителя, установление партнерских<br />
отношений с работниками, строгий контроль над расходами), находится в активной фазе жизненного цикла своей деятельности, о<br />
чем сведетельствует ежегодний оборот, составляющий более 140 млрд. доларов в год. Все это способствует тому, что в сфере<br />
торговли по розничным ценам данная компания является лидером и самой влиятельной организацией.<br />
Созданная в 1879 году Ф.У. Булвортсом компания ,,dime-store“, реализовывала товары повседневного спроса по цене 5-10<br />
центов. Осуществление четко и строго определенного во времени бизнес-проекта ,,dime-store“ изначально было ориентировано на<br />
увеличение продаж, что учитывало потребности пользователей всех социальных групп. Компания, от разработанной маркетинговой<br />
стратегии проекта жизненного цикла перешла в жизненный цикл товара и, с начала прошлого века по сей день, задействованные в<br />
США тысячами торговые центры ,,Woolworth“, успешно реализавывают бизнес-процесс.<br />
Конкурентная среда рынка, в которой находятся компании ,,Sony Ericsson“, ,,LG“, ,,Samsung“, ,,Motorola“, ,,Sanyo“, ,,Kayocera“,<br />
,,Nokia“ диктует приобретение и поддержание конкурентоспособности, учитывая потребности пользователя, что становится<br />
возможным при разработке и внедрении инновационного дизайна, добавления многофункциональности или высокого качества<br />
источников питания выпускаемой продукции.<br />
Инновационностью дизайна выделяется компания ,,Sony Ericsson“ (проведенное американскими экспертами маркетиннговое<br />
исследование показало, что при покупке мобильных телефонов, на его дизайн обращают внимание 41% покупателей), за которой<br />
по рейтингу идут компании ,,LG“, ,,Samsung“, ,,Motorola“, ,,Sanyo“, ,,Kayocera“, ,,Nokia“ (22% опрошенных обращают внимание на<br />
функции мобильных телефонов, 20% - на технические достоинства, 19% - на прочность).<br />
Что касается производителей модной одежды ,,Brioni”, ,,Gucci”, ,,Dolce&Gabbana”, ,,Mercury“, ,,Zara”, «,Oggi», «Woolg»,<br />
«Cotton», «Colin’s», «Sasch», «Ellen Kloss» то успешный переход в этих фирмах от жизненного цикла бизнес-проекта брендов в бизнес-процесс<br />
и их функционирование связано с удовлетворением потребностей определенных социальных групп. В частности, в<br />
данной сфере на нью-йоркском рынке общим объемом продаж выделяется ,,Brioni”, ,,Gucci”, ,,Dolce&Gabbana”, ,,Mercury“, которые<br />
удовлетворяют потребности определенных социальных групп. Компания ,,Zara”, действующая на европейском рынке и обслуживающая<br />
подобные социальные группы, имеет ежегодный оборот в 2,4 млрд. доларов. Бренды «,Oggi», «Woolg», «Cotton», «Colin’s», «Sasch»,<br />
«Ellen Kloss» удовлятворяют потребности средних социальных слоев.<br />
Инновации являются важным и необходимым фактом для преодоления проблем компаний, что обязывает менеджеров быть ответственными<br />
и использовать максимум времени и энергии для приобретения конкурентоспособности фирм. Мировая практика<br />
показывает, что инновационные компании в частых случаях не достигают успеха тогда, когда жизненный цикл перспективной бизнес-идеи,<br />
сама идея автора-фирмы безуспешна. В частности, производящая видео камеры фирма ,,Ampex“ безуспешно завершила<br />
«жизненный цикл проекта», однако осуществление данного проекта и переход в фазу бизнес-процесса смогла лишь компания<br />
,,Sony“.<br />
В истории разработки проектов в процессе их осуществления в подобной ситуации как ,,Ampex“ оказались фирмы ,,Berky”- по<br />
производству калькуляторов, ,,Gablinger» - по производству легкого пива, ,,Chux“ - по производству одноразовых салфеток. Однако,<br />
проекты этих фирм, их переход в бизнес-процесс и, в конечном итоге, жизненный цикл товара успешно осуществили лишь<br />
компании ,,Casio“, ,,Miller lite“, ,,Procter&Gamble“.<br />
Таким образом, история развития лидирующих компаний показывает, что на протяжении нескольких лет успешно проведенный<br />
«жизненный цикл бизнес-проекта» переходит в «бизнес-процесс» и, затем в «фазу жизненного цикла товара». На основе логического<br />
мышления возможно сделать заключение, что «жизненный цикл товара» начинается после успешного завершения каждого бизнеспроекта,<br />
т.е на первом этапе воспроизводства товара, с целью поддержания потребительского спроса, компании пытаются путем<br />
реализации метода «нестандартного мышления» создавать иновационный товар.<br />
Литература:<br />
1. Г.Джолия, Д.Сехниашвили «Экономика и управление знаниями», Тб., 2010<br />
2. Управление знаниями, Коллектив авторов, Изд/Альпина-Бизнес-Букс-Год: 2006<br />
3. П.Мартин, К. Теит. "Управление проектами" Минск, 2006.<br />
4. М.Коротков «Управление кочеством образования» мос. 2006<br />
5. Cистемы менеджмента знаний, Санкг-Петербург, Год: 2003<br />
6. П.Сенге, Обучающаяся организация, Пер. с англи. ЗАО Олимп-Бизнес, Год. 2003<br />
7. В. Д.Шапиро Управление проектами. мос.1996<br />
208
Content<br />
CONTENT<br />
PEDAGOGICAL SCIENCES<br />
Actual problems of modern pedagogics<br />
Luhautsova A.I., Krasnova T.I., Torhona A.V., INTERNATIONALIZATION OF TEACHER EDUCATION IN BELARUS:<br />
DYNAMICS, PROBLEMS, PECULARITIES.................................................................................................................................................................................11<br />
I. Ishutina, A. Mailibaeva, PROJECT METHOD AT ESTABLISHING INFORMATION CULTURE IN FUTURE<br />
IT TEACHERS......................................................................................................................................................................................................................................................13<br />
Ишутина И.Р., ИССЛЕДОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ К ПРИМЕНЕНИЮ<br />
КОМПЬЮТЕРНЫХ ОБУЧАЮЩИХ ПРОГРАММ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ............................................14<br />
Конурова-Идрисова З.К., О НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ<br />
В ПОМОЩЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ ДИСЦИПЛИНЫ «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО».................................................................15<br />
Наби Ы.А. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА<br />
В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ............................................................................................................................................17<br />
Nyyazbekova K.S., FENOMENOLOGY OF SOCRATIC DIALOGUE IN PEDAGOGICAL ANTHROPOLOGY...................................19<br />
Praliyev S.ZH. CITATION INDEX AND IMPACT-FACTOR – CRUCIAL ATTRIBUTES OF SCIENTIFIC JOURNALS<br />
AND SCIENTIST RATING..........................................................................................................................................................................................................................................21<br />
I.Е. Rgizbaeva, THE THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF COMMUNICATIVE TASK DESIGN FOR<br />
INFANT AND INTERMEDIATE COURSES..................................................................................................................................................................................................23<br />
Семенова Л.А. МЕТОД НАСЛАИВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ КАК СПОСОБ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ЗАПОМИНАНИЯ<br />
ТЕОРЕТИЧЕСКОГО УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА...............................................................................................................................................................................25<br />
Syzdykov K. THE MORALITY OF PROVERBS.........................................................................................................................................................................................26<br />
Умурзаков А. Г. ПРОБЛЕМА ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА<br />
К ФОРМИРОВАНИЮ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭТИКИ У УЧАЩИХСЯ...................................................................................................28<br />
Иванова Н.В., Виноградова М.А., ДЕТСКАЯ СУБКУЛЬТУРА КАК ФОРМА СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ<br />
СОВРЕМЕННОГО ДЕТСТВА 1 ..................................................................................................................................................................................................................31<br />
Кунаккулов Х.Р., Зверев С.В. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ<br />
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТУДЕНТА ТЕХНИКУМА В<br />
УСЛОВИЯХ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА............................................................................................................................34<br />
Мертинс К. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАНИЕ ОБУЧЕНИЕ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ВУЗЕ........................................36<br />
Морозова М.В. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ<br />
ОБУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ»...............................................................38<br />
Ольшванг О.Ю.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ EURONEWS ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ.............................................39<br />
Ратнер Ф.Л., Морозова Е.А. МЕДИКО-СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОГО ЗДОРОВЬЯ<br />
И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ РЕШЕНИЯ............................................................................................................................................................................................................40<br />
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ СТАТУС КОНЦЕПТА<br />
Рубцова А.В. «ПРОДУКТИВНАЯ ИНОЯЗЫЧНАЯ ТЕКСТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»<br />
(ПРОДУКТИВНЫЙ ПОДХОД)...................................................................................................................................................................................................................41<br />
Сигал Н.Г. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ<br />
С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ.....................................................................................................................................44<br />
Фоминых В.Н., Смирнова Т.П., Гонтова Н.Г. СОЗДАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА –<br />
ДВИЖУЩАЯ СИЛА РАЗВИТИЯ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТА....................................................................................................................................46<br />
Aizikova L.V. NEOLIBERAL TENDENCIES IN MODERN EDUCATION..................................................................................................................48<br />
Голобородько А.П. ФОРМИРОВАНИЕ КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ –<br />
БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ...............................................................................................................................................................................................................................50<br />
Намакштанская И.Е., Романова Е.В., Новикова Ю.Н., Атанова Г. Ю. СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ В ШВЕЦИ<br />
И СРЕДНЕГО И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.................................................................................................................................................................................51<br />
Науменко Т.И. СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ В ПЕДАГОГИКЕ РАННЕГО ДЕТСТВА............................54<br />
Tarnopolsky O.B. DEFINITION AND ESSENCE OF THE CONSTRUCTIVIST APPROACH TO TEACHING<br />
FOREIGN LANGUAGES FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION.............................................................................................................................56<br />
Innovational processes in education<br />
Шаяхимова Р.К. НЕМЕЦКАЯ МОДЕЛЬ ГУМАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ...............................................58<br />
Shornikova O. FORMATION OF MODERN HIGHER EDUCATION SYSTEM OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN<br />
ON THE BASIS OF COMPETENCE-BASED APPROACH .............................................................................................................................................................60<br />
Морарь М.М. КОМПЕТЕНЦИИ КАК ЭЛЕМЕНТ МОДЕРНИЗАЦИИ КУРРИКУЛУМА<br />
ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА..................................................................................................................62<br />
Цквитария Т.А. К ВОПРОСУ О МЕЖДУНАРОДНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ<br />
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.............................................................................................................................................................................64<br />
Gryzun L.E. PROJECTING A CURRICULUM SUBJECT MODULAR STRUCTURE ON THE BASIS<br />
OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE INTEGRATION........................................................................................................................................................................66<br />
Ruden V. PEDAGOGIC INTERACTIVE TECHNOLOGY “DEVELOPMENT CRITICAL WAY<br />
OF THINKING THROUGH READING AND WRITING” AS QUALITY IMPROVEMENT MECHANISM<br />
OF TEACHING ACADEMIC DISCIPLINE ...................................................................................................................................................................................................68<br />
Theory and methodology of physical training, sport training, health-improving and adaptive physical culture<br />
Саносян Х., Меграбян С. ИСТОКИ И СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА<br />
ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ..................................................................................................................................................................71<br />
Theory and methodology of professional education<br />
Форня Ю.В. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКМЕОЛОГИЯ В КОНТЕКСТЕ ВЫСШЕГО<br />
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ...........................................................................................................................................................................................................74<br />
209<br />
Content
Content<br />
Стариков П.А. ПОТРЕБНОСТЬ СТУДЕНТОВ ВУЗА<br />
В ФОРМИРОВАНИИ ТВОРЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ .............................................................................................................................................77<br />
Волкова Г.К. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ФОРМ ФОРМИРОВАНИЯ<br />
ИНОЯЗЫЧНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ<br />
МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ.......................................................................................................................................................................................................................................80<br />
Бейсенбекова Г.Т. ЗНАЧИМОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ<br />
ПРИ ОБУЧЕНИИ КАЗАХСКОМУ ЯЗЫКУ........................................................................................................................................................................................82<br />
Nyyazbekova K.S. PROFESSIONAL-PRACTICAL BLOCK OF THE LANGUAGE COMPETENCE<br />
DEVELOPMENT MODEL FOR FUTURE LINGUISTS...................................................................................................................................................................83<br />
Оразбаева Ф.Ш. СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАГЛЯДНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ КАЗАХСКОМУ ЯЗЫКУ.........................85<br />
Оpen disciplinary section<br />
Nuriyeva S.H. THE MOTIVATION FOR LEARNING OF THE FOREIGN LANGUAGE<br />
AND TEACHING MATERIALS............................................................................................................................................................................................................86<br />
Мусайбеков Р.К. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМ – ОДНА ИЗ ФОРМ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ<br />
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ.......................................................................................................................................................................................88<br />
Zilite Ligita TOURISM AND EDUCATION MANAGEMENT STUDENTS’ CHARACTERISTICS FROM POINT<br />
OF SOCIONICS VIEW..........................................................................................................................................................................................................................................90<br />
Одинець О.А. ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ФАХІВЦІВ З ПЕРУКРСЬКОГО МИСТЕЦТВА<br />
ТА ДЕКОРАТИВНОЇ КОСМЕТИКИ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА..................................................................................94<br />
Травников Е.Н. ЧТО НЕОБХОДИМО ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ<br />
ДЛЯ УСПЕШНОГО ПОДЪЕМА УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ (ЧАСТЬ 2).....................................................................................................................98<br />
PHILOLOGICAL SCIENCES<br />
Comparative and historical, typological and correlative linguistics<br />
Магеррамова С.А. О НЕКОТОРЫХ АНТРОПОМОРФИЧЕСКИХ МЕТАФОРАХ<br />
(на материале русского, азербайджанского и английского языков).........................................................................................................................................103<br />
Араева Л. А. ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОПОЗИЦИОНАЛЬНО-ФРЕЙМОВЫЙ СЛОВАРЬ:<br />
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ, ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СЛОВАРНЫХ СТАТЕЙ,<br />
ПРАГМАТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ...............................................................................................................................................................................104<br />
Олехнович О.Г. ВЛИЯНИЕ ТРАДИЦИЙ НЕМЕЦКОЙ НАУЧНОЙ МЫСЛИ НА ФОРМИРОВАНИЕ<br />
РУССКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ........................................................................................................................................................................110<br />
Foreign literature (with the indication of the definite literature)<br />
Хинчагашвили Н., Марзие Я. ПРОЕКТ ПОСОБИЯ «АЛЕКСАНДР КУПРИН И МИР ВОСТОКА»...................................................112<br />
Галлямова М.С. ГЕРОИЧЕСКАЯ ДРАМА «ГЕРОЙ-ХРИСТИАНИН» В ТВОРЧЕСТВЕ ДЖОРДЖА ЛИЛЛО.........................114<br />
Gref E.B. NARRATIVE STRATEGIES IN GRAHAM SWIFT’S WATERLAND..............................................................................................................116<br />
Germanic languages<br />
Алиева (Аскерова) С., ДИАЛЕКТНЫЕ СЛОВА В СОВРЕМЕННОЙ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ<br />
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ......................................................................................................................................................................................118<br />
Ветрова О.Г.КУЛЬТУРА НАУЧНОГО ОБЩЕНИЯ: ХЕДЖИНГ В АКАДЕМИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ..........................................120<br />
Колистратова А.В. О НЕКОТОРЫХ ИТОГАХ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЭВОЛЮЦИОННОГО<br />
РАЗВИТИЯ ФОЛЬКЛОРНОГО ДИСКУРСА В КОНТЕКСТЕ БРИТАНО-АНГЛИЙСКОЙ СИТУАЦИИ...........................121<br />
Nilova C.V. SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASPECT OF INTERGENERATIONAL COMMUNICATION......................................................125<br />
Demetska V.V ADAPTATION AS A CONCEPT OF TRANSLATION AND INTERCULTUROLOGY .........................................................127<br />
Khorova I. FOUR-LETTER ART: SOCIOLINGUISTIC PECULIARITIES<br />
OF TABOO LANGUAGE AND ITS TRANSLATION......................................................................................................................................................................129<br />
Journalistics<br />
Kamzin K., MOUNTING LOCALIZATION OF REALITY.................................................................................................................................................................132<br />
Чепурная А.И. К ПРОБЛЕМЕ ЭПИСТЕМИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ЯЗЫКЕ ЖУРНАЛИСТИКИ.......................134<br />
Native language<br />
Гусейнова В.К. ТОПОНИМЫ В РУССКОЙ И АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ И ПАРЕМИОЛОГИИ................136<br />
Шаханова Р.А. ЦЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ – ОСНОВА АКСИОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ...................138<br />
Шаханова Р.А. Махрачев С.Ф. ОПИСАНИЕ СЕГМЕНТА ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ<br />
ЮЖНОРУССКОЙ ДИАЛЕКТНОЙ ЗОНЫ<br />
(на примере представлений о загробном мире на территории Тамбовской области).........................................................................................................140<br />
Slavic languages<br />
Саметова Ф.Т. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ПРОСТРАНСТВО<br />
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ................................................................................................................................................................................................................................................143<br />
Редьква Я. ТЕРЕБОВЛЯ ЕТНІЧНО-АНТРОПОГЕННА VS. ТЕРЕБОВЛІ<br />
АНРОПОНІМІЧНОЇ ТА “ЖЕРТОВНОЇ”................................................................................................................................................................................................144<br />
Content<br />
Theory of literature. Textology<br />
Мирзоева Л.Ю. ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПАРОДИЙНОГО ТЕКСТА КАК СПОСОБ<br />
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ ПЕРЕВОДЧИКОВ..............................................149<br />
210
Open specialized section<br />
Татаринова Л.А. РАДИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ...........................................................................152<br />
Якоба И.А. ЯЗЫКОВАЯ ИГРА В ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ.............................................................................................................................154<br />
Назмєєва Н.А. ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КОГЕЗІЇ У АНГЛОМОВНІЙ НАВЧАЛЬНІЙ ІНСТРУКЦІЇ...............................................156<br />
PSYCHOLOGICAL SCIENCES<br />
Correctional psychology<br />
Маркелов В.И., Каращан В.А. ВЗАИМОСВЯЗЬ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ<br />
С ФОРМОЙ ОБУЧЕНИЯ....................................................................................................................................................................................................................................158<br />
Яковлева Н.В. КОРРЕКЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ КАК НАПРАВЛЕНИЕ КОРРЕКЦИИ<br />
АСОЦИАЛЬНОСТИ ПОДРОСТКОВ.......................................................................................................................................................................................................160<br />
Developmental psychology, acmeology<br />
Долгова В.И. АКМЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ<br />
КУЛЬТУРЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ..................................................................................................................................................................................................................163<br />
Скляр Н.А., Богданова С.В., Петров А.А., Прянишникова О.А. КРИТЕРИИ ЭМПАТИЙНОГО ПОВЕДЕНИЯ<br />
В ПЕРЦЕПТИВНЫХ ОЦЕНКАХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ<br />
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ............................................................................................................................166<br />
Скляр Н.А., Богданова С.В., Петров А.А., Прянишникова О.А., ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНТЕРНЕТ – ЗАВИСИМОСТИ<br />
И КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ.....................................................................................................................................167<br />
Черняк В.И. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА СОСТОЯНИЙ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДОМИНАНТ<br />
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ .....................................................................................................................................................................................169<br />
General psychology, psychology of person, history of psychology<br />
Грошев И.В. КОММУНИКАТИВНЫЕ РОЛИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН В ПРОЦЕССЕ ОБЩЕНИЯ..............................................172<br />
Стариков П.А. СИСТЕМНО-ИНТЕГРАТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ТВОРЧЕСТВА....................................................................................176<br />
Жовтянская В.В. ОНТОЛОГИЯ ИГРЫ ......................................................................................................................................................................................................179<br />
Попескул А.А. ПРИРОДА УБЕЖДЕНИЙ. РОЛЬ УБЕЖДЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ<br />
РЕАБИЛИТАЦИИ/ЛЕЧЕНИЯ ........................................................................................................................................................................................................................181<br />
Juridical psychology<br />
Самойлова М.В. КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ТЯЖКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ<br />
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОДРОСТКОВ Г. СУРГУТА...................................................................................................................................................183<br />
Суденко В.Е. КАТЕГОРИИ «ВОЗМОЖНОСТЬ» И «ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ» И ИХ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ<br />
ПОТЕНЦИАЛ В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА....................................................................................................................................................................186<br />
Labour psychology, engineering psychology, ergonomics<br />
Ващенко І.В., Андросович К.А. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ УСПІШНОСТІ<br />
У СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ..................................................................................................................................................................188<br />
Степанчук Н.Н. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ АРТ-ТЕРАПИИ В УПРАВЛЕНИИ СОСТОЯНИЕМ<br />
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ ПЕДАГОГА........................................................................................................................................................189<br />
Medical psychology<br />
Форня Ю.В. ОСНОВНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ<br />
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА................................................................................................................................................................................................192<br />
Pedagogical psychology<br />
Nyyazbekova K.S. DEVELOPMENT OF THE MENTAL ABILITIES OF THE STUDENTS BILINGUALS.............................................195<br />
Вильданова Ф. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ<br />
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ВУЗЕ.........................................................................................................................................................................................197<br />
Черванева З.А. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ЯДРО «НОВОЙ» ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ........................199<br />
Social and political psychology<br />
Kret M.V. YOUNG ADULT’S ATTITUDE TOWARDS THE OTHER AND ITS INFLUENCE UPON THE SUCCESS<br />
DYNAMICS OF FOREIGN LANGUAGE ACQUISITION...............................................................................................................................................................201<br />
Погонцева Д.В. СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О КРАСИВОМ МУЖЧИНЕ:<br />
ОТ ДЕНДИ К МЕТРОСЕКСУАЛУ.............................................................................................................................................................................................204<br />
OPEN INTERDISCIPLINARY SECTION<br />
Content<br />
Чхаидзе И.Г. ОСОБЕННОСТИ ПРИНЦИПОВ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ<br />
И БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ.............................................................................................................................................................................................................................207<br />
Content<br />
211
Scientific publication<br />
«PROBLEMS OF MODERN PHILOLOGY, PEDAGOGICS AND PSYCHOLOGY»<br />
Materials digest of the XXV International Scientific and Practical Conference<br />
and the II stage of Research Analytics Championship in pedagogical and psychological sciences and the<br />
I stage of the Championship in philological sciences.<br />
(London, May 16-21, 2012)<br />
Layout 60×84/8. Printed sheets 24,65. Run 200 copies. Order № 01/07-2012.<br />
Publisher and producer International Academy of Science and Higher Education<br />
1 Kings Avenue, London, UK N21 1PQ
ISBN 978-1-909137-04-2<br />
9 781909 137042