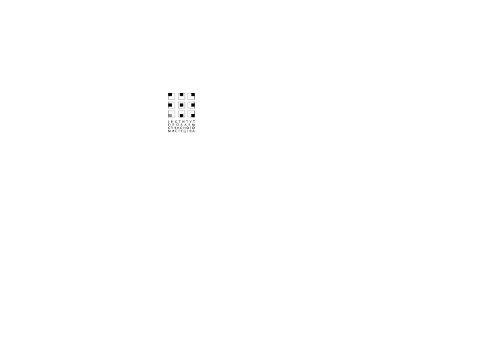Мария Шкепу - Інститут проблем сучасного мистецтва
Мария Шкепу - Інститут проблем сучасного мистецтва
Мария Шкепу - Інститут проблем сучасного мистецтва
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Мария</strong> <strong>Шкепу</strong><br />
Национальная академия искусств Украины<br />
ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА<br />
ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО<br />
КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
Киев<br />
ФЕНИКС<br />
2010
ББК Ю252.7+85.1+87.8<br />
УДК 7.011+111.85<br />
Ш 66<br />
ПЕРЕДНЄ СЛОВО<br />
Ш 66 <strong>Шкепу</strong> М. А. Эстетика безобразного Карла Розенкранца / Ин-т <strong>проблем</strong> соврем.<br />
искусства Нац. акад. искусств Украины. — К.: Феникс, 2010. — 448 с.<br />
ISBN 978-966-651-873-9<br />
В монографии рассматриваются теоретические, методологические, исторические и искусствоведческие<br />
аспекты эстетики безобразного. К этому блоку теоретических очерков представлен перевод<br />
«Эстетики безобразного» немецкого философа Карла Розенкранца (1805–1879).<br />
Книга рассчитана на философов, культурологов, искусствоведов, всех интересующихся эстетической<br />
<strong>проблем</strong>атикой.<br />
ББК Ю252.7+85.1+87.8<br />
ISBN 978-966-651-873-9<br />
Утверждено к печати Ученым советом<br />
Института <strong>проблем</strong> современного искусства НАИ Украины<br />
16 декабря 2010 г., протокол № 5<br />
Рецензенты:<br />
доктор философских наук, профессор Л. Т. Левчук<br />
(Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко)<br />
доктор философских наук, профессор А. П. Воеводин<br />
(Восточноукраинский национальный университет им. Владимира Даля)<br />
Научный редактор — кандидат архитектуры, доцент А. А. Пучков<br />
© М. А. <strong>Шкепу</strong>, 2010<br />
© ИПСИ НАИ Украины, 2010<br />
© Изд-во «Феникс», 2010<br />
Ви тримаєте в руках книгу, в якій вперше російською мовою<br />
представлено переклад «Естетики потворного» німецького філософа<br />
XIX ст. Карла Розенкранца та теоретичні нариси, що супроводжують<br />
цей переклад, виконані провідним науковим співробітником<br />
ІПСМ НАМ України, доктором філософських наук, професором<br />
Марією Олексіївною <strong>Шкепу</strong>. Якщо, як це обґрунтовується<br />
у нарисах, у системному вигляді феномен естетики потворного міг<br />
бути здійснений виключено у логіко-естетичному просторі німецької<br />
класичної філософії, то у практичному відношенні він актуалізований<br />
напруженим рухом сучасної історії, самоусвідомленням<br />
та самовідчуттям людини у неї. Безперечно, він віддзеркалений<br />
і в пертурбаціях художнього процесу, але, перш за все, в окресленні<br />
минулих і теперішніх абрисів феномену естетичного. Через те<br />
видання перекладу «Естетики потворного» К. Розенкранца нашим<br />
<strong>Інститут</strong>ом зумовлено не тільки і не стільки підспудними явищами<br />
<strong>сучасного</strong> <strong>мистецтва</strong>, скільки доцільною необхідністю осмислення<br />
перетворень естетичного, котре виходить за межі самосвідомості<br />
й «самовідчуття» художньої практики, намагаючись повернутися<br />
до власної тотальності. У цьому смислі <strong>проблем</strong>атика нарисів,<br />
у яких осмислюється місце і значення «Естетики» Розенкранца<br />
у логіці історії, у логіці генезису видів <strong>мистецтва</strong> й підстав їх подальших<br />
трансформацій, а також окремих аспектів негативної<br />
феноменології естетичного, окреслює контури «русла» «течії речей<br />
за власною основою», як називав цей процес Андрій Бєлий.<br />
У даному випадку йдеться про виявлення «векторності» повернення<br />
естетичного у «русло» власної основи.<br />
При читанні книги можуть кинутися в очі дві уявні невідповідності.<br />
Перша з них відноситься до поверхневої невідповідності<br />
характеру «Естетики потворного» К. Розенкранца, що заявлена<br />
ПЕРЕДНЄ СЛОВО<br />
5
її автором як студіювання чистої області естетики, і характеру нарисів М. <strong>Шкепу</strong>, котрі<br />
виглядають віддаленими від безпосередньої <strong>проблем</strong>атики естетичного процесу. Друга<br />
невідповідність стосується уявної невідповідності простору ідей і матеріалу, за допомогою<br />
яких класик виклав власну концепцію потворного (і які дійсно зменшують, звужують<br />
не стільки категоріальний, скільки історичний простір феномена, що досліджується, —<br />
можливо саме через це у щоденнику 1843 року О. Герцен характеризує концепцію класика<br />
як «занятную книжку»), фундаментальному значенню, яке надається «Естетиці потворного»<br />
Марією <strong>Шкепу</strong>. І не в тому сенсі, що естетика потворного позбавлена такого<br />
значення, а у сенсі несподіваності її філософського розкриття через категорію основи<br />
і розташування у просторі «основи становлення історії як основи становлення естетики<br />
єдності людини й історії».<br />
Але і перша і друга невідповідності, що «лежать на поверхні», лишаються поверховими.<br />
Перше заперечується змістом категоріального каркасу потворного, який виводиться<br />
через фундаментальні відношення сутності, змісту та меж протиріч ідеальної, естетичної<br />
та вольової триєдності людського світосприйняття та світопереживання. Те, що такі<br />
співвідношення відносяться до простору філософського пізнання і, відтак, саме філософії<br />
належить їх розкриття, є беззаперечним. Але не може йтися про «чисту»<br />
«філософію естетики»: сучасне мистецтво і сучасний мистецький процес не лише вийшли<br />
на окреслені межі, але й переживають потребу самовизначення у власній категоріальній<br />
самосвідомості й у своїх інтенціях.<br />
Другу «невідповідність» заперечити більш складно. Але не через те, що вона дійсно<br />
існує, а через те, що, відносячись до закону «достатньої підстави», заперечення у даному<br />
випадку є тотожнім основі, що, як щиросердно кажуть філософи, ускладнюється само<br />
по собі, через інше самої себе та повертаючись до самої себе. Феномен естетики потворного<br />
репрезентований Карлом Розенкранцем як спотворене свого іншого самої ідеї. Розглянутий<br />
через основу світу, він виводиться М. <strong>Шкепу</strong> як відчужене іно-буття класичного<br />
становлення історії, котре не здійснило зняття себе «поверненням ідеально-усезагального<br />
у достовірну тотальність естетичного». У цих двох аспектах повинна, напевно, долатися<br />
уявність другої «невідповідності». Скоріше за все, у цьому напряму сучасна теорія естетики<br />
та мистецтвознавства можуть знайти принципові підстави для власних рефлексій.<br />
Карл Розенкранц попередив, що пізнання естетики потворного є рухом у пеклі<br />
страждання. Марія <strong>Шкепу</strong> попередила, що читання книги не буде світлом ані для душі, ані<br />
для розуму. Але ж попередили! І, не дивлячись на не дуже веселу тональність теми, в обох<br />
попередженнях присутній оптимістичний момент: на відміну від попереджень Мінздраву,<br />
вони обіцяють не хворобу, а відшукування шляху до теоретичного й естетичного одужання.<br />
Вам вирішувати, в якому обсязі читати й осмислювати презентовану книгу.<br />
Академік Віктор СИДОРЕНКО,<br />
директор <strong>Інститут</strong>у <strong>проблем</strong> <strong>сучасного</strong> <strong>мистецтва</strong> НАМ України<br />
PREFACE<br />
You are holding a book, in which the translation of “Aesthetic<br />
of Ugliness” (Aesthetik des Haesslichen, 1853) by Karl Rosenkrantz,<br />
the German philosopher of the 19 th century, into the Russian language<br />
is presented for the first time. The translation and theoretical researches<br />
are made by prof. Maria O. Shkepu, main science researcher of the<br />
Modern Art Research Institute of the National Academy of Arts in Ukraine.<br />
As it was stated in the presented research the phenomenon of the<br />
aesthetics of ugliness could be viewed strictly in the logical and aesthetic<br />
field of German Classic Philosophy, whereas in the practical<br />
dimension it was actualized by the tense development of the contemporary<br />
history, self consciousness and self perception of the contemporary<br />
people in it. Without a doubt this phenomenon was mirrored<br />
in the perplexities of the art process, but first of all it was reflected<br />
in circling around the past and present borders of the phenomenon<br />
of the aesthetic. That is why the publication of “Aesthetic of Ugliness”<br />
by our Institute is caused not only by the under cover phenomena<br />
of the contemporary art but by the reasonable necessity of over thinking<br />
the aesthetic transformations, which overstep the limits of the self<br />
consciousness and self perception of the art practice, trying to return<br />
to its own totality. In this sense the research investigates the position<br />
and the role of the “Aesthetic of Ugliness” by Karl Rosenkrantz in the<br />
logic of history, in the logic of genesis of art types and prerequisites<br />
of their further transformations, the research studies some aspects<br />
of the negative phenomenology of the aesthetics. The problematic field<br />
of the research shapes the contours of the trends, “flows of the objects<br />
on their own causes”, as Andrei Byely the poet named this process.<br />
In this case we can talk about unveiling “vectoring directions” for the<br />
return of the aesthetic “into the nest of its own cause”.<br />
During the reading of the book we may face two main imaginary<br />
PREFACE<br />
7
controversies. The first controversy touches the would be non correspondence of the “Aesthetic<br />
of Ugliness” by Karl Rosenkrantz , which was stated by the author as a study of the pure aesthetics,<br />
with the research by Maria Shkepu, which seems to be far away from the problems<br />
of the aesthetic process. The second controversy is viewed as the non correspondence of the field<br />
of ideas and data, with the help of which the author presented his own conception of the ugliness<br />
(and they really narrow and diminish not only categories but the historical sphere<br />
of the investigated phenomenon — that is why the conception of Rosenkrantz was characterized<br />
“the curious book” in the diaries of 1843 by O. Gerzen) to the fundamental sense, induced to the<br />
“Aesthetic of Ugliness” by prof. Shkepu. But it is not meant that the aesthetics of the ugliness<br />
is deprived of such sense, but it is unexpected and it was uncovered with the help of the category<br />
“cause” and placed in the space of “the cause of the history development as the cause of the<br />
development for aesthetics unity of the world and the man”.<br />
But both the first and the second controversies lay on the surface and remain there. The first<br />
one is denied by the category structure of the ugliness, which is deducted having in mind the fundamental<br />
relations between essence, content contradictions limits of the aesthetic, ideal and will<br />
triple unity of the human world view and world perception. These relations are lying in the<br />
sphere of the philosophic knowledge thus without a doubt the philosophy uncovers them.<br />
“The pure philosophy of the aesthetics” is non relevant notion nowadays, the contemporary art<br />
and art process over stepped old boundaries and need self definition within the frames of the<br />
category self consciousness and intentions.<br />
It is more hard to deny the second “controversy”. But not because it really exists, it is subjected<br />
to the “law of the sufficient cause”, in this case the denial is equal to the cause, and as philosophers<br />
sincerely say it is getting complicated by itself through its other self and returning to the<br />
own self. The phenomenon of the aesthetic is presented by Karl Rosenkrantz as crumpled another<br />
self of the idea. Viewed through the prosm of the world causes it is deducted by Maria Shkepu<br />
as an alienated another being of the classic historic development, which has not taken over itself<br />
by the “return of the general ideal to the evident totality of the aesthetics”. In these two aspects<br />
the imaginary second controversy is overcome. And following this direction the contemporary<br />
theory of the aesthetics and art can find principal foundations of their own reflections.<br />
Karl Rosenkrantz warned that the research of the aesthetics of the ugliness was a path of the<br />
torturing hell. Maria Shkepu warned that the reading of the book would not be delightful either<br />
for the soul or the mind. But they warned! But despite not very merry tonality of the theme,<br />
there is an optimistic moment: these warnings, different from the warnings by the Health<br />
Ministry, promises not a disease but a search for the theoretic and aesthetic recovery. You are<br />
free to decide in what dimension to read and over think this book.<br />
Victor SYDORENKO, Academician<br />
Director of the Modern Art Research Institute<br />
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ<br />
Бывают обстоятельства, при которых человек действует<br />
по принципу «Кто, если не я?» Это те ситуации, которые, по субстанциальной<br />
значимости и трагическим последствиям способны<br />
парализовать волю большинства, хотя именно здесь воля должна<br />
бы выразить себя «положительным большинством» и в полноте<br />
своего долженствования. Но таким большинством и таким долженствованием<br />
эти обстоятельства себя не разрешают. Феноменологически<br />
они компенсируются волей отдельной личности, персонализирующей,<br />
как правило, высокую трагедию.<br />
Бывают обстоятельства, обусловливающие бездействие<br />
по принципу «Кто угодно, только не я!» Это те ситуации, которые,<br />
вследствие несубстанциальности своих противоречий, обусловливают<br />
отрицательность действия в виде экстракции индивидуальной<br />
воли из реальной совокупности таких противоречий. Это отказ<br />
от собственной сущности и свободы, выражающий себя добровольным<br />
подчинением уродливым «обстоятельствам» и тем<br />
способствующий дальнейшей эскалации их уродства.<br />
Ситуация опасной смелости ознакомления публики с феноменом<br />
эстетики безобразного может быть сформулирована вопросом:<br />
«Почему именно я?» Ведь если путешествие по печальным<br />
тропам несвободы осуществляется современным человеком<br />
ежедневно, и не только наяву, но и «во сне» 1 , то, казалось бы, феномен<br />
безобразного как эстетика наличного бытия несвободы<br />
должен остаться в сокрытом пространстве индивидуального, рас-<br />
1 Чем иным, кроме как беспокойством этих «прогулок» по кругам несвободы,<br />
обусловлена инвазия бессонницы или плохого сна, констатируемая социологическими<br />
исследованиями вкупе с медицинской статистикой и обобщенная как производная<br />
депрессивности, охватившей современный социум?<br />
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ<br />
9
терявшегося и потерявшегося в «пост-пост-истории» несчастного сознания. Или же<br />
не растерявшегося и не потерявшегося, но не менее несчастного самосознания, ибо даже<br />
если «подкашивание ног» не обязательно, как это утверждала Н. Саррот, сопровождается<br />
«подкашиванием мозгов», то перенос бытия в пространство небытия «не сходит<br />
с рук», как «не сходит» и с безумной орбиты отрицательной бесконечности. Мечта испанского<br />
режиссера Ф. Аррабаля о том, чтобы человек научился наслаждаться безобразным<br />
во имя достижения «счастья свободы», которое не требует самопреодоления<br />
по восходящей развития, осуществилась. Только существует точка падения, в которой,<br />
не выдерживая неестественную для него невесомость, человек погибает. И этот живой<br />
мертвец осваивает небытие, пожирая живые формы собственной жизни. Следовательно,<br />
вносимая современным человечеством в непреодоленное основание отчуждения и в осознанное<br />
наращивание уродства деструктивной формы дерегляция сопровождается<br />
особенной формой обращенности внешнего во внутреннее, когда «внутреннее» исчезло,<br />
а «внешнее» предстает измышленным очерчиванием безразличного пространства формы.<br />
Формы, исчерпавшей отражение внутреннего в экстенсивности эстетического пространства,<br />
которому в том же отношении и в той же одновременности осталось направить<br />
себя «вовнутрь» 1 — на саморазрушение. Шансы человечества в таком случае мизерно<br />
малы, ибо саморазрушение и выживание — вещи несовместимы, не так ли? Тоска<br />
по красоте обращается в пропасть. Возможно, это еще одна причина, из-за которой исследование<br />
Карла Розенкранца оказалось выброшенным «за борт маршрута плавания»<br />
расплывшегося исторического сознания. Но при отсутствии понимания безобразного<br />
как производной отчужденной истории, отношение к его явлениям может оказаться<br />
обыденным и просто ханжеским.<br />
1 Оборачивание отчуждения на саморазрушение, когда «очарование в интенсивности пустоты» порождает ситуацию<br />
истребления мира через утверждение себя в качестве деструктивного субъекта. Ряды Мервина Пика — проклятие<br />
этому субъекту: Ты выпей небо, звезды съешь<br />
И ветер сжуй.<br />
Пускай тебя замучает изжога,<br />
Пускай случится заворот кишок!<br />
Луну-горбунью проглоти, дружок.<br />
Придумывай историю свою,<br />
Которых много…<br />
Которых много было на земле<br />
Придумано, чтоб Вечность запугать.<br />
Удар по струнам сердца — выпей небо!<br />
Враз проглоти и выплюнь шар земной,<br />
И стихнет голос боли ледяной<br />
И канет в небыль.<br />
В любом случае теоретическое изложение феномена безобразного относится к тем,<br />
которые, как выражался один из персонажей Андрея Платонова, формулирует себя<br />
вопросом: «Зачем тебе сущность? Только голове будет хорошо, а сердцу плохо». Не сказала<br />
бы, что в данном случае и голове хорошо — следование за логикой становления<br />
и торжества безобразного не может быть пиршеством ни чувств, ни разума. Казалось бы,<br />
в силу отрицательности его «деликатной природы», сопровождающейся раскрытием<br />
изнаночной стороны культуры, публичное изложение отчужденных акциденций 1 безобразного<br />
относится к изложению того, о чем «не говорят» — в деформации как его завершенной<br />
стадии феномен безобразного высказывает себя предельными формами омерзительного<br />
и относится к извращенным явлениям регрессии человека. К регрессии, достигшей<br />
в современном мире кульминации, в которой не только не считает себя бесстыдной,<br />
но и которой манкирует, подобно выставляющему напоказ свои увечья нищему. В этом<br />
смысле теория безобразного Карла Розенкранца может сыграть роль и выполнить функции<br />
журнала «Здоровье», по которому можно изучить безобразные болезни ума и чувств,<br />
их симптомы и клинику. Ибо если деформация свойственна все же не всем, то опасность<br />
негативной прогрессии аморфности (начала) угрожает каждому без исключения — ведь<br />
любое начало содержит в себе единство бытия и ничто становления и поэтому представляет<br />
собой равность возможностей движения к полноте единства чувственной формы и<br />
содержания, или к декадансу, ложному движению, к самодеструкции и деструкции мира.<br />
В этом смысле чтение и осмысление этой книги может быть скорее тайным, чем открытым,<br />
но, на мой взгляд, оно обязательное для всех, поскольку, вследствие «слепой» зависимости<br />
от обстоятельств, как и от собственной стихийности, становление человека<br />
содержит в себе возможности отчуждения, которые не всегда преодолеваются. Поэтому,<br />
в феноменологическом аспекте постижение этой концепции является одним из необходимых<br />
моментов самосознания его развития.<br />
Вместе с тем, теория безобразного не может не быть полезной современным представителям<br />
искусства и искусствоведению в целом, поскольку в ней они могут найти<br />
шифр ко многим искусственным тайнам современного искусства и его предназначения.<br />
И все же этих причин было бы недостаточно для того, чтобы взяться за этот малоприятный<br />
труд. Представляется, что главная причина, из-за которой «Эстетика» Розенкранца<br />
не удержалась в философии искусства и искусствоведении заключается в том, что она<br />
не была рефлексирована в контексте основания логики истории. Но при отсутствии теоретического<br />
постижения феномена безобразного как производной отчужденной истории<br />
— производной, положенной самим становлением абстрактной всеобщности мира<br />
(в форме универсальных законов развития) в основание становления истории, отношение<br />
к нему может оказаться обыденным, морализаторским, или возбуждающем нездоровое<br />
1 Латинское слово акциденция в румынском языке имеет также и значение крушения. Одна из современных<br />
семантических инверсий акцидентальности как пожирание несубстанциальным субстанциального.<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
10<br />
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ<br />
11
любопытство. Именно поэтому нельзя ставить на первое место эту производную, ибо<br />
теоретическое познание изнанки становления обусловлено не только тем, что из «бытияв-себе»<br />
безобразное превратилось в тотальное «бытие-для-себя», но и тем, что оно возвело<br />
себя в симулякр действительного основания истории. Следовательно, выявление<br />
негативной природы безобразного может быть имманентно осуществлено не с позиций<br />
эстетики как таковой (в ее узкофилософском или искусствоведческом понимании), и не<br />
с позиций «чистой» философии, а на основании тождества разума и чувственного, снятого<br />
в природе человеческих чувств через снятия основания обесчеловечивания последних.<br />
То есть, на основании мышления и чувственного, экстраполированного на тождество различий<br />
философии и искусства.<br />
Возможно, это неестественное, превращенное и извращенное обустройство-укоренение<br />
деформации в абсолютную форму (основание) мира и обусловило то, что в исторической<br />
проекции настоящее время есть время отречения от основ. Эта безосновательность<br />
ума и чувств заморозилась в пространстве дуализма настолько, что перестала замечать<br />
неестественность былого разрыва, которым мучилось время классическое, оставив<br />
человечеству память о себе в состоявшейся деформации мира как наличного бытия абсолюта<br />
безобразного и исследовании его в теории безобразного немецкого философа Карла<br />
Розенкранца. Но память о нем была стерта настолько, что единственное системное исследование<br />
феномена безобразного осталось без должного внимания более ста лет —<br />
изданное автором в 1853 году, оно впервые было переиздано в переводе на румынский<br />
язык только в 1984-м Виктором Эрнестом Машеком 1 . Причем, перевод был осуществлен<br />
с фотокопии оригинала, сохранившегося в единственном экземпляре и хранящегося<br />
в дрезденском Музее немецкой литературы. Изменилась ли ситуация за двадцать шесть<br />
лет? В конце 1990-х произведение было переиздано в Германии. В первой половине 2000-х<br />
перевод с немецкого языка осуществили французы. Отрывок из главы «Деформация» переведен<br />
У. Эко на итальянский язык и включен в его знаменитую «Историю уродства»,<br />
переведенную, в свою очередь, на русский язык в 2007-м [1], а интернет-издания предоставляют<br />
некоторые цитаты из «Эстетики» Розенкранца без указания, откуда они взяты.<br />
По-видимому, такими же «анонимными» являются ходящие по рукам отрывочные фрагменты<br />
в русском переводе, хотя лично мне они не попадались 2 .<br />
1 Необходимо отметить достойную подражания традицию румынской культуры прошлого века, а именно то,<br />
что с многочисленными сериями переводов лучших достижений мировой культуры на румынский язык едва ли ктолибо<br />
мог состязаться. Количество переведенных работ многочисленных серий из истории мировой культуры,<br />
в рамках которых был также осуществлен и издан перевод «Эстетики безобразного», мне неизвестно, но в 1998 году,<br />
во время научной стажировки на философском факультете Бухарестского университета, я видела на раскладках<br />
перевод только из серии истории мировой эстетики перевод под номером 1547.<br />
2 Осенью 1988 года на Первых Кантовских чтениях (г. Калининград) я представила доклад по <strong>проблем</strong>е соотношения<br />
кантовских антиномий, эстетики безобразного и антиномий деформации основания предыстории. Доклад<br />
Как отмечает В. Машек, многие главы эстетики Розенкранца описаны Эдуардом<br />
Хартманом в труде «Немецкая эстетика Канта», вышедшем в Лейпциге в 1886 году. Вместе<br />
с тем, упоминания об этом необычном исследовании можно встретить не только<br />
у Т. Адорно, но и у находившего это произведение «занятной книгой» А. И. Герцена,<br />
у Л. Н. Толстого, что говорит о том, что современникам Розенкранца был знаком его<br />
труд. В том числе и за пределами Германии. Неоднократно апеллировал к нему Мих. Лифшиц.<br />
Это отнюдь не означает, что феномен безобразного не занимал и не продолжает<br />
занимать умы исследователей, но все же не в должной мере и, как мне думается, не в<br />
крайне необходимом на сегодняшний день ракурсе.<br />
Так почему же именно я беру на себя смелость ознакомить публику с трудом Розенкранца<br />
со всеми крайне неприятными моментами, сопровождающими этот труд? 1 Если<br />
здесь присутствует случайность, то в статусе необходимой случайности. И она не сводится<br />
к тому, что где-то во второй половине 80-х уже прошлого столетия в очень богатом разноязыкой<br />
литературой книжном магазине «Дружба» посчастливилось приобрести румынский<br />
вариант «Эстетики безобразного». Причина — в другом и именно она превратила это<br />
приобретение в счастливую, даже свободно-атрибутивную случайность, поскольку розенкранцовское<br />
исследование является одним из ключевых для понимания такой сложнейшей<br />
теоретической <strong>проблем</strong>ы как классическое становление основания истории 2 . Суть заклю-<br />
вызвал бурю отрицательных эмоций у стремительно и добровольно впавшей в безумную (без ума) симпатию к этому<br />
самому основанию. Но представителем Всесоюзного общества «Знание» мне было предложено написать<br />
брошюру по «Эстетике безобразного» Розенкранца. Работа была написана, но, по-видимому, потерялась в пространствах<br />
распадающейся страны.<br />
1 Это случай, когда я согласилась бы с выражением: «Не женское это дело!» Но, знаю, одни профессионалы<br />
поймут, а для незнающих меня лично и цитирующих мои работы я почему-то постоянно фигурирую как особа мужского<br />
пола. Это порожденное особенностью моей фамилии в данном случае меня устраивает.<br />
2 Феномены становления и основания также относятся к тем, которые мало занимали философскую рефлексию.<br />
Это обусловлено не только природой основания, раскрывающейся исключительно в конце его, совпадающего<br />
с классическим временем восхождения абстрактной всеобщности. В принципе, подготовка такого восхождения-углубления<br />
в основание всеобщего категориально была подготовлена Гегелем, но в силу того, что историческая ситуация,<br />
когда «диалектику учили не по Гегелю», спрятавшимся за снобизмом воинствующего невежества плюрализмом<br />
мнущих философию мнений продолжается в виде расправы над диалектикой вообще, то и не исследованность<br />
основания и становления — на мыслительной совести «пост» поколений философов и человечества в целом,<br />
так и не удосужившегося превратить квинтэссенцию способности суждения мировой мысли в собственную мыслительную<br />
способность. Так и «случилось», что феномен становления остался нераспредмеченным достоянием Гегеля<br />
[3; 4; 5], румынского философа ХХ века К. Нойки [6] и отечественного философа ХХ–ХХI века А. Босенко в виде<br />
его кандидатской диссертации [7] . По <strong>проблем</strong>е категории основания на сегодняшний день защищена одна<br />
диссертация [8]. И хотя понятие основание присутствует во многих работах, используется оно «втемную», наподобие<br />
того, как математики объясняют природу многих чисел, не раскрывая для себя природу числа вообще.<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
12<br />
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ<br />
13
чается в том, что логика становления феномена безобразного от аморфности до деформации<br />
имманентна логике становления всеобщего в отчужденном периоде истории и эстетическая<br />
деформация является наличным бытием завершенности такого становления.<br />
Именно поэтому чтение и восприятие этого труда в плоскости «чистой эстетики» несовместимо<br />
с адекватным разумением его природы и места в логике истории. В такой плоскости<br />
невозможно и понимание основания безобразного не только как без-образности<br />
основания истории, но и обреченности на безобразный исход его становления и, соответственно,<br />
преодоления общественных предпосылок такого исхода. Иными словами, логика<br />
становления безобразного представляет собой эстетическое единство идеального<br />
(в его гносеологической семантике) и нравственного моментов сопровождающего «прогресс<br />
восхождения Идеи» (Гегель) регресса нисхождения чувственного и снисхождения<br />
к нему «чистой» Идеи.<br />
В контексте теоретических коллизий немецкой классической философии, в которых<br />
отражался завершенный дуализм становления в форме распада основания, «Эстетика безобразного»<br />
занимала место атрибутивно опосредующего звена гегелевской абстрактной<br />
идеальности и фейербаховской чувственной материальности в трактовке сущности человека.<br />
Но основание этой завершенности было положено основоположником немецкой<br />
классической философии — Кантом. В этом смысле, кантовский схематизм как «место<br />
встречи» трансцендентального разума и «вещи-в-себе» воспроизводится в завершающей<br />
стадии антиномичности разума и чувственного. Именно поэтому рассматривание Хартманом<br />
«Эстетики безобразного» Розенкранца в контексте кантовской эстетики целесообразно<br />
и поучительно. То, что в своей эстетической теории Кант «снова впал в противопоставление<br />
субъективного мышления и объективных предметов, абстрактной всеобщности<br />
и чувственной единичной воли» [2, 1, 62], обусловливает необходимость положить<br />
в основу распредмечивания его теории «Эстетику безобразного» как такой, в которой<br />
в превращенном единстве присутствуют абстрактно-эстетическая теория Гегеля и ее<br />
антиномичная противоположность в виде эстетической философии Л. Фейербаха. Если<br />
эстетика в гегелевском варианте суть восхождение чувственного через становление видов<br />
искусства к «чистому научному самосознанию», когда чувство приобретает характер<br />
всеобщности исключительно как теоретическое чувство, то при условии закрепления<br />
прекрасного за «чистым разумом», реальная чувственность деградирует до состояния<br />
неопосредованной всеобщностью (идеальностью) непосредственность. Но поскольку<br />
«в своей абстрактной изолированности от природы, в своей абстрактной противопоставленности<br />
чувственному, духовное не является эстетическим объектом» [9, 161], то и «освобожденное»<br />
от опосредования идеальностью чувственное предстает уродливым<br />
эстетическим объектом и диагностируется на основе завершенного разрыва разума<br />
и чувственности. В этом дуализме, когда одна крайность представляет человека как «изобретательного<br />
и расчетливого раба нечеловечных, рафинированных, неестественных<br />
и надуманных вожделений» [10, 42, 129], эстетика Розенкранца приближается к теории<br />
чувственного Фейербаха. Гегелевский идеальный абсолют красоты впал в дисгармонию<br />
и оказался безразличным к практическому отрицанию безобразного, а «дисгармония»<br />
становится безобразной тогда, когда она зряшно отрицает себя, так как в этом случае<br />
возникает противоречие в противоречии» [9, 115].<br />
Таким образом, необходимость вернуться к этому печальному, бьющему по чувствам<br />
и нервам исследованию вызвано не только теоретическими <strong>проблем</strong>ами современного<br />
искусства, но, прежде всего, историческими превращениями основания безобразного<br />
и безобразности основания, к которому современное искусство относится как к отдельному<br />
моменту или частному случаю проявления художественного или псевдо художественного<br />
отражения.<br />
Предмет рефлексии этой книги на самом деле является объектом, поскольку феномен<br />
безобразного успешно преодолел пространство частности и приобрел не столько<br />
печальное, сколько победное шествие тотального характера. Это злобное и разрушительное<br />
шествие негативности, превратившееся из метафизического момента становления<br />
в самостоятельную сущность, перестало восприниматься трагически, ибо если в трагедии<br />
погибает положительный герой, то смерть героя (выразим этим понятием персонификацию<br />
величия человеческой сущности) стала не только приемлемой, но и желанной. Тем<br />
человек поставил лоснящуюся от дутой «самодостаточности» точку на свою устремленность<br />
в вечность и, решив насладиться конечными вещами 1 , растворился в ерунде и обозлился<br />
на то, что могло бы напомнить ему об утраченном.<br />
1 Чем интенсивнее человек ориентируется на потребление конечного, тем интенсивнее необходимое количество<br />
«предметов потребления» сокращается. Отказ от общезначимых ценностей обладает тенденцией изъятия самого<br />
необходимого. «Бездомный человек» — следствие неукоренности истории в основании сущностного развития,<br />
обладающая своей эстетикой:<br />
Со своим домом и имуществом на спине<br />
Шел он по городу — ему нужен был мир и покой.<br />
В нескончаемом лабиринте метро он нашел их.<br />
Сперва разостлал он опавшие листья,<br />
Потом обернул пластиковыми мешками руки и ноги,<br />
Оставив свободными кисти рук, чтоб держать флейту. Затем<br />
лег на картонной подстилке, насовав газеты под пальто,<br />
чтоб не замерзнуть. «Люкс» — говорили приятели.<br />
Еще одну картонную упаковку<br />
он положил на себя; теперь, сладко вытянувшись,<br />
можно было мечтать о «Nuit», «Chambertain» и «Classe-spleen», и<br />
юной красотке с серьгами в ушах.<br />
Рай в норе наслаждений.<br />
Франк Де Критс. Бездомный. Пер. с фламанд. Д. Сильвестрова<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
14<br />
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ<br />
15
Но «объект» этой книги не для души — родившаяся в недавнем времени смесь рока<br />
и ноктюрна подавила «революционно-анархистское отрицание» рока как направления<br />
музыки, приписываемое ему основателями, и трансформировало печаль познания чувств<br />
второго в особенную какофонию звуков, отразивших роковую трансфузию разума в особенную<br />
форму добровольного сумасшествия, притупившего чувства до полной утраты<br />
восприимчивости красоты и болевого порога восприятия безобразного. По этой причине<br />
теоретическая эстетика безобразного — не «для души», а для потерявшегося в блуде рассудка<br />
ума, но, быть может, еще не полностью угасшего. Ведь если человечество должно сохранить<br />
какое-либо основание для своей жизни, то этим основанием должен быть разум<br />
(правда, это уже банально звучит?). Но как возможен разум, когда за душой ничего нет?<br />
Иными словами, если изолироваться от способности ужаснуться, способен ли разум сохранить<br />
свою великую способность страстного стремления к истине? Ведь истина не есть,<br />
как требовали философы Нового времени, беспристрастное тождество «знания» и «объекта»<br />
(что было оправдано в контексте логики и истории познания того времени), а, как<br />
(будто не оправдано для истории и логики познания) выразил Сократ, — она есть страсть.<br />
В самом деле, к каким человеческим чувствам можно призывать в настоящем времени?<br />
Феноменологически оно — время — стало «комплексом ощущений», ощущений старательно<br />
скрывающих или удостоверяющих, легализующих и разворачивающих свои<br />
комплексы. Парадокс заключается в том, что, чем агрессивнее укореняется безобразное<br />
в пространстве истории и чувств, тем меньше человек оказывается способным к его отрицанию.<br />
Настолько неспособным, что перестает его замечать, или же свыкается с ним как<br />
со своей, заменяющей первую, «второй натурой». Да и то сказать — усилия для такой<br />
трансформации его восприятия были приложены немалые и довольно успешные. Ими<br />
удалось достичь «уравнение сущностей» (И. Кальвино), когда прививка к привыканию<br />
к смерти как «смешному приколу» в исполнении убогих «дефективщиков» совокупилась<br />
с фотоохотой на теряющих сознание от возраста и боли ветеранов во время праздника<br />
победы над фашизмом — гонорар за такие снимки «оправдывает» себя — «классно» ведь<br />
схватить момент неэстетичного в присущей (всем без исключения) механике падения. Падает-то<br />
великий! А подтасовка величия механикой падения обессиленного тела — ориентированный<br />
на плоскость «эстетического» восприятия люмпена «высший пилотаж мастерства<br />
естественной инсталляции». И кто без всяких подтасовок олицетворяет в данном<br />
случае безобразное падение?<br />
Верно, что современное искусство должно ужасать. Проблема в том, что оно уже не<br />
ужасает. Ведь реакция на ужас адекватна не тогда, когда от него в страхе убегают или отворачиваются,<br />
а когда возникает потребность устранения причин, порождающих этот<br />
ужас. А такой реакции нет. Привыкание к безобразному и усмирение безобразным состоялось.<br />
Сердечные приступы, «с непривычки» сопровождавшие просмотры фильмов ужасов<br />
в начале 90-х, уже не «приступают» — привыкли к ужасам жизни «как в кино». И нет<br />
естественной реакции на пролитую кровь, а есть интерес с ее «луже»; нет отвращения<br />
к откровенному садизму по отношению к окружающим, а есть интерес к тому, как освоить<br />
это «искусство»; нет вопроса, почему красота исчезает из облика и феноменологического<br />
пространства индивида, а есть ирония по поводу потребности видеть красивыми<br />
людей. А ведь симулякры восполнили именно нормальные потребности, ибо ненормальные<br />
потребности не знают потребности восполнять себя: они живут непосредственной<br />
полнотой «средств» и «по средствам», порождающим посредственность (А. С. Канарский).<br />
Это ли лелеемая свобода?<br />
В этом контексте антиномичность современных эстетических рефлексий проявляет<br />
себя безразличием к противоречиям, требующих реального разрешения, и интересом<br />
к тому, что реальной «ценности» не имеет. Необходимое — не интересно, интересное —<br />
не необходимо. Именно поэтому любое направление современной теории эстетики, если<br />
она оторвана от фундаментального основания и от развивающейся логики развития теоретико-чувственного<br />
единства человека, является не сотворением культурного мышления<br />
и чувств очеловеченного человека, а онтологической, гносеологической и чувственной<br />
самодеструкцией (Жак Деррида торжествует). Абстрагирование искусствоведения<br />
и «пост-эстетики» от трагически напряженных противоречий реальной жизни является,<br />
наверное, следствием прошлого абстрактного созерцания тенденций исторического развития,<br />
так неудачно (мягко говоря) использованных для самозащиты философской сферой<br />
познания. Хотя страх перед иррациональной действительностью не защитит от дальнейшего<br />
ужаса, ведь самой страшной ношей является ноша логической превращенности<br />
разумного существа. В аспекте логики превращенность такого рода не представляет собой<br />
позитивного интереса и остается сферой этики и эстетики. Оказалось, что «новая»<br />
теоретическая культура совершенно беспомощна перед культурным распадом реального<br />
человека (для кого и для чего она в таком случае?). Она испугалась этого изуродованного<br />
существа, которое переродилось внезапно в опустошенном и изгаляющемся своей пустотой<br />
пространстве между ощущением и чувством, ибо введение человека в трансцендентальную<br />
культуру (или превращения — извращения — культуры в качестве субъективной<br />
трансценденции) стало возможным именно через симулякр ликвидации этой пустоты.<br />
«Новая», негативная предметность человека предстала в невозможности существовать<br />
обладая зрением, но не видеть, обладать слухом, но не слышать, иметь руки, но не работать<br />
и не обнимать, когда мир меркнет в глазах точно также как было утеряно звучание<br />
космических сфер и запачкались руки никчемными делишками. Восхождение к предельной<br />
напряженности чувств граничит здесь с погружением в абсолютное бесчувствие, безразличие,<br />
сопрягаясь со своеобразной, сокрытой формой самоубийства, когда еще бьется<br />
сердце, дышит грудь, но суть уже вымерла. А для того, чтобы забыть о потере, лучше перекрасить<br />
все в другие цвета, вымучить неестественные формы, назвать вещи другими<br />
именами (ибо с недавних пор они так плохо называются, что звать их по имени означает<br />
злословить), в конце концов, устроить себе пир во время чумы. В этом пространстве погибает<br />
даже классический индивидуализм со своим, хотя и неправомерно приукрашенным<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
16<br />
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ<br />
17
рафинированностью, вызовом повседневности. Так изуродованный обстоятельствами<br />
«индивидуум» уже сам уродует обстоятельства. Но эта голограммно-геометрическая<br />
прогрессия уродства не только объявляет о себе. Она «выкрикивает свою муку» (Розенкранц)<br />
и причины последней требуют постижения в самом фундаменте жизни, истории.<br />
Не в том ли заключена феноменальность трансцендентальной эстетики, в которой<br />
анти-эстетика заняла несоответствующее и несвойственное ей место всеобщности, чтобы<br />
проследить за «инфра» лучами последней, когда излучающая сила уже погасла (тоска<br />
о несбывшемся в прошлом, тоска по утраченному времени), за тем, как недопустимо и непростительно<br />
она абстрагировалась от реальных преград, придававшие этому излучению<br />
не яркости, а кривизны? Или потому, что, преодолев «кривизну» жизни, сущностное вырвалось<br />
из темницы и темноты времени сиянием «чистой», незамутненной тревогами реального<br />
бытия Идеи? Или, может быть, феноменальность эстетики — это субъективное<br />
наслаждение самопробуждением, пропуск в тоннель времени? Впрочем, в виде прошлого,<br />
тоннель времени еще можно осветить бегающим по его стенам и охватывающим лишь<br />
фрагменты «фонариком» рефлексии, но он уже не подлежит распредмечиванию в плоскости.<br />
Хотя бы потому, что лишен направления. Такая феноменальность требует переворачивания<br />
и обращенности феноменологии чувств в основании их становления, и даже<br />
негативности такого, если оно не состоялось, поскольку излучение пространства культуры=эстетики<br />
высвечивается прошлыми временами, но то, что их «искривляло», закреплено<br />
и во времени настоящего. Необходимо направить эстетическую рефлексию не просто<br />
в более глубокие «страты», но в самое основание космогонии, закрепленном и распятом<br />
на каркасе обезумевшего «логоса» истории. В этом основании и в его проблесках можно<br />
найти то, что «культурология» категорически не хочет видеть. Возможно потому, что эта<br />
современность — нечиста не только и не столько в смысле «нечистой» силы, она также<br />
не «кристаллизована», отталкивая своим безобразием как покрытый язвами смертельно<br />
больной организм. И все же это безобразная жизнь. В историческом аспекте своего распада<br />
— это форма жизни, выдерживающая противостояние смерти сомнительным «аргументом»<br />
противопоставления живущих в подвале истории и неистребимых никакими медицинскими<br />
препаратами и историческими профилактиками простейших. Но, будучи<br />
жизнью, она могущественней «чистых образов» абстрактных «моделей» теорий, которые<br />
слишком уж абстрагируются (вплоть до ликвидации органа абстракции — даже в случае,<br />
когда удается запутать мозги алогичными формами и безумными образами) от собственной<br />
субстанциальности. Ведь, избавившись от того самого «логоса», культурология как<br />
схематизм суммы теорий предстает общением с духом прошлых поколений за круглым<br />
эзотерическим столом, озаботившись поиском нетленного в тлене-остатке. Неужели занесенные<br />
и поглощенные песком истории поколения имеют большее преимущество перед<br />
поколениями нынешними? И действительно ли не ясно, почему пространство современной<br />
культуры и «учения» о ней — пустыня, по которой, никогда не удовлетворив свою искусственную<br />
жажду и, недоверчиво оглядываясь друг на друга, с трудом передвигаются<br />
философ и искусствовед, а за ними в трансцендентальном присутствии отсутствия — весь<br />
сонм остальных «представителей» (со своими представлениями, которые — всего лишь<br />
результат чувственно-созерцательного уровня познания!) форм общественного сознания?<br />
По этой пустыне можно двигаться только в одиночку, даже если это совокупное<br />
множество одиночеств. Ибо в такое пространство невозможно заманить кого-то, как<br />
и соблазнить им нельзя. Поэтому современная «специфика» культурологии всевозможных<br />
направлений — отражать, что культура отвернулась от самое себя. Культура становится<br />
не столько излишеством, сколько «лишней» в своих собственных сущностных<br />
явлениях. Причем раньше, чем становится «лишней» для большинства «некультурных».<br />
Действительна негативная действительность, «реальность — в снах» — внутреннее «ничто»<br />
опустошенного сознания и опустошенных чувств разрушает и объективный мир.<br />
И «если человечество начало оперировать понятиями «анти-нейтрон», «анти-материя»,<br />
почему бы ему не оперировать и понятием «анти-человек»? — спрашивал себя Константин<br />
Нойка. Почему бы, в отместку Пармениду, утверждающему, что невозможно постигнуть<br />
небытие, не сотворить его со скуки?<br />
Культура не чувствует и не выводит себя из абстрактно-обобщенного пространства<br />
«общественной ноосферы» (в которой семантически размыты ее положительные и негативные<br />
различия в значении «культуры» и «антикультуры»), потому что во всех своих теоретических<br />
производных пытается мыслить себя вне основания и логики истории. Это<br />
единственная причина, вынудившая меня взять на себя совершенно неблагодарную и, местами,<br />
даже эстетически дискредитирующую работу.<br />
В силу того, что Розенкранц исследует эстетику безобразного с объективно-идеалистических<br />
позиций, осмысление феномена осуществляется вне рефлексии объективного<br />
основания — тождества материального и идеального становления основания и атрибутивности<br />
субстанции истории. Учитывая факт одновременности его творчества не только<br />
с возникновением и присущих ему субъективных предпосылок мышления неклассической<br />
философии, и не только философии Фейербаха, консервация его методологии стала возможной<br />
как феномен теоретического самосознания «последнего из могикан» классической<br />
немецкой философии. В силу этого, читателя ожидает несколько теоретических<br />
сложностей:<br />
– испытание теоретической готовности освоить первую главу как принципиально<br />
важную в том смысле, что «ключ», ядро и причина безобразного в ней раскрывается через<br />
тонкие и почти незаметные отклонения в логике становления противоречия. Кажущаяся<br />
наиболее абстрактной, первая глава содержит в себе не только фундаментальную<br />
тайну ложного единства, разворачивания и разрешения противоречий конкретных явлений<br />
безобразного 1 . Она содержит в себе и тайну отражения ложного единства, развора-<br />
1 Из множества литературы, посвященной природе противоречий и способам из разрешения, самыми верными<br />
для обучения источниками остаются «Энциклопедия философских наук» Гегеля (если иметь в виду ее большую<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
18<br />
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ<br />
19
по сравнению с «наукой логики» доступность), а также «Диалектика как теория развития» (К., 1966) и «До питання<br />
про діалектику взаємовідношення “вибуху” і “стрибка” в процесі руху» (К., 1961) В. А. Босенко.<br />
стойное особого внимания исследование современного российского философа С. Лишаева<br />
[12]. Вместе с тем, нельзя обойти вниманием многоаспектные исследования, осуществляющиеся<br />
учеными Института <strong>проблем</strong> современного искусства Национальной академии<br />
искусств Украины. Среди них работы О. Авраменко, А. Босенко, А. Веселовской,<br />
Г. Вышеславского, М. Гринишиной, И. Зубавиной, Е. Кашубы-Вольвач, А. Клековкина,<br />
А. Липковской, А. Метлёва, Н. Мусиенко, М. Протас, А. Пучкова, А. Роготченко, О. Сидора-Гибелинды,<br />
И. Савчука, В. Сидоренко, А. Соловьёва, А. Федорука, О. Чепелик,<br />
Н. Яковлева, М. Юр [13] и других авторов научных сборников ИПСИ. Другое дело, что<br />
в аспекте феномена безобразного эти исследования также требуют двойного опосредования<br />
и вторичной рефлексии, поскольку материалом для обобщения они могут служить,<br />
будучи вплетенными в ткань опосредованного применения в осмыслении эстетики современности<br />
через <strong>проблем</strong>ные противоречия современного содержания видов искусства.<br />
За почти десять лет со дня основания Институт <strong>проблем</strong> современного искусства наметил<br />
широкий спектр научно-исследовательсих <strong>проблем</strong> теории современного искусства<br />
и осуществил довольно неординарные исследования по всем этим направлениям.<br />
Следует отметить и неустанные усилия, прилагаемые директором Института, народным<br />
художником Украины, академиком НАИ Украины, профессором Виктором Дмитриевичем<br />
Сидоренко, в активизации деятельности коллектива научных сотрудников<br />
к теоретическому осмыслению современных трансформаций эстетического в разных<br />
практиках визуального творчества. Осмыслению таких явлений посвящена и организация<br />
выставок современного искусства, особенно молодых художников, имеющая своей целью<br />
не только ознакомление, но и реализуемое в работе научных семинаров и научно-практических<br />
конференций осмысление и теоретическое обобщение транзитивных форм эстетического<br />
и эстетических форм транзитивности пространства и времени в современном<br />
искусстве. При этом <strong>проблем</strong>атика и методология исследований сотрудников ИПСИ<br />
вышла за пределы ограниченной методологии чистого искусствоведения на уровень<br />
философских обобщений. Это радует, поскольку только в этом направлении возможны<br />
адекватные логике нового синкретизма философии и искусства научные выводы. Как возможно<br />
и качественно новая саморефлексия самого художественного процесса.<br />
То, ради чего задумана эта книга, изложено. Изложено с осознанным риском упреков<br />
не только по поводу стиля, но, прежде всего, по поводу кажимой отдаленности от феномена<br />
эстетического <strong>проблем</strong>атики очерков. Но отдаленность самой теории эстетики<br />
от фундаментального основания становления истории, из которого «вырастают» все<br />
остальные феномены (безобразного в том числе), уже не оправдывает себя и требует возвращения<br />
к его осмыслению. Одним-то основанием мы должны обладать! И, чтобы<br />
не быть отождествленным с предпосылками, условиями и обстоятельствами, это основание<br />
должно быть фундаментальным. Такому требованию времени посвящены очерки<br />
второго раздела. В нем представлены не статьи, посвященные анализу феномена безобразного<br />
в современном искусстве (ему будет посвящена другая книга), не историко-эсте-<br />
чивания и разрешения общественно-исторических противоречий, вследствие чего становление<br />
прекрасного не только сопровождается становлением безобразного как деструкции<br />
истории, но и подменивается завершенной деструкцией человека;<br />
– гносеологическое несоответствие формально-логического, обыденно-рассудочного<br />
мышления онтологическим противоречиям способно установить серьезные преграды<br />
для понимания второй главы, ибо правильное (или точное) не всегда истинно и за пределами<br />
истинности оно вполне может укорениться как заданный «традицией» стереотип<br />
эстетического. В таком виде эстетическое не имеет ничего общего со своей собственной<br />
природой;<br />
– учитывая современную ре-актуализацию мифологии (прежде всего — в ее демонических<br />
формах), существует опасность обыденного восприятия всех «сверхъестественных<br />
форм» безобразного в том виде, в котором они интерпретированы в третьей главе.<br />
То, что Розенкранц был обречен ввести деформацию в статус мистической деформации<br />
идеи и завершить свою эстетику карикатурой как насмешкой над ней, было обусловлено<br />
теоретическими предпосылками его метода философствования. История же не завершается<br />
«чистой Идеей», как в случае Гегеля, и не разрешает свои противоречия в комическом,<br />
как это представляется Розенкранцу. История в виде такой карикатуры не расстается<br />
«со смехом» со своим прошлым, а примиряется со своей деформацией.<br />
Следовательно, выявление трансфузий фундаментального основания истории в эстетике<br />
безобразного и места эстетики безобразного в логике отчужденно-всеобщего<br />
становления такого основания — единственный мотив, из-за которого я посчитала необходимой<br />
эту работу.<br />
Не нахожу возможным рекомендовать читателю литературу, которая облегчила бы<br />
адекватное прочтение обеих глав этой книги. Во-первых, потому что к такой литературе<br />
изначально должна относиться переработанная в способе мышления история диалектики,<br />
послужившая Розенкранцу методологией исследования. Во-вторых, потому что современная<br />
литература, посвященная феномену безобразного, не подлежит рекомендации.<br />
Чем только не «обогатилось» человечество в направлении этого нездорового отражения<br />
нездорового общества! Эстетика безумия, эстетика самоубийства, эстетика смерти<br />
и многие другие «эстетики» такого рода, изголяющиеся некрофилией современного<br />
неразумия и инверсированного бунта бесчувствия. Стоит ли это рекламировать? И не входит<br />
ли литература такого содержания в содержательное определение деформации? Впрочем,<br />
не имеет ли она отношения и к области психиатрии?<br />
Библиография <strong>проблем</strong>ы требовала бы отдельного каталогического издания. Перечислить<br />
ее не представляется возможным. Ограничусь только немногими источниками<br />
[11], из которых в методологическом аспекте отметила бы как тонкое, глубокое и домария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
20<br />
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ<br />
21
тические этюды на эту тему (генезис безобразного в искусстве описан в «Истории уродства»<br />
Умберто Эко), как не представлены и рефлексии по поводу рефлексий безобразного<br />
в так званой постклассической теории искусства. Целью очерков второго раздела было<br />
выявление фундаментального основания эстетики безобразного. Но своей фундаментальностью<br />
это основание является общим для всех феноменов общественной жизни,<br />
культуры, искусства и философии в том числе. По этой причине представленные очерки<br />
являются философским осмыслением феномена безобразного в его базовом происхождении<br />
и в перспективе возможности его преодоления.<br />
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ<br />
Карл Розенкранц<br />
Эстетика<br />
безобразного
Справка к изданию<br />
«Хочешь быть впереди классиков — пиши предисловия к ним»,<br />
— иронично пошутил кто-то. Ирония обоснованная относительно<br />
пишущих. Но не только. Поколения, образовавшиеся не на первоисточниках,<br />
а на «общедоступном» «популярном объяснении» их<br />
«предисловного» или «переработанного» содержания, разучились<br />
читать и мыслить самостоятельно. Хотя последнее словосочетание<br />
тавтологично, ибо несамостоятельное мышление мышлением<br />
не является, как не является воображением и «несвободное<br />
воображение». Вынужденное и порожденное определенным этапом<br />
в истории образования, «дидактически-просветительское<br />
подспорье» в виде предисловий, введений и т. п. сначала неправомерно<br />
«задержалось», а позже окончательно подменило собой<br />
культуру самообразования мышления в его критическом саморазвитии.<br />
Итог этой подмены — перемещение первоисточников с позиции<br />
«обязательной литературы» учебных, рабочих программ<br />
и образования в целом на позицию литературы «дополнительной»<br />
и, соответственно, перемещение «учебных пособий» из литературы<br />
«дополнительной» в литературу «обязательную». Результат<br />
«на лицо» и в мозгах современника, точнее, в его потрясенном<br />
и «трясущемся» сознании.<br />
Изучение первоисточника предполагает отсутствие потребности<br />
в «предисловиях». Или же они могут читаться в конце, да и<br />
то в качестве диалогического пространства развития критической<br />
мысли, но ни в коей мере как накопление герменевтических интерпретаций,<br />
за которыми — много правд, но не видно единственной<br />
истины. Поэтому второй раздел настоящей книги не преследует<br />
цель объяснить читателю «Эстетику безобразного» Карла Розен-<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО справка к изданию<br />
25
1 Что написал бы сегодня Розенкранц относительно феномена безобразного? Каким образом он «расшифровал»<br />
бы особенности современного художественного процесса? За какими критериями объяснил бы природу современной<br />
квадратуры, куба, «минус бесконечности» современных деформаций? Смог ли бы он подвести под комическое<br />
современное торжество Танатоса в виде «постмортального существования» постмодернистской истории?<br />
С логических оснований его «Эстетики» это невозможно. Но с каких оснований это возможно? И каково место<br />
«Эстетики безобразного» в становлении такого основания?<br />
общему типу и в принципе присутствовать не может. Такая логика представлена в «Капитале»<br />
Маркса, но ведь в ней речь идет о другой истории — о истории, которая хотела весело<br />
расстаться со своим прошлым, а не просто посмеяться над его уродливым настоящим.<br />
Философский перевес в подходе к обоснованию места феномена безобразного как<br />
«изнанки», «зазеркалья» становления истории («предыстории») может и должен пониматься<br />
как объективно-закономерный и целесообразный также и потому, что вся западноевропейская<br />
история философии содержит в себе и отражает логику всемирно-исторического<br />
процесса в его восхождении к абстрактно-всеобщему понятийному самоопределению.<br />
И не имеет значения, что все эти «ступени восхождения и самопознания духа»<br />
(Гегель) не стали ступенями восхождения каждого этноса, живущего на этом, «отданном<br />
на расправу дуракам» (Г. Ярмыш) шаре Земном. Все «остальные истории» могут служить<br />
зарисовками (хотя и своеобразными, а в пространстве информационных технологий —<br />
путано трансформированными) к отдельному периоду («общественно-экономической<br />
формации») классического становления западноевропейской цивилизации. К примеру,<br />
в год принятия христианства Киевская Русь формально «прошла» через три такие формации:<br />
еще не исчерпанную первобытную, по логике вещей следующую за ней, но урезанную<br />
рабовладельческую, и априорно (не имеющей материально-производственных предпосылок)<br />
феодальную, так как христианство является формой общественного сознания, которая<br />
конституируется и господствует при феодально-сельскохозяйственном типе материального<br />
производства. Непонимание этого феномена является, на мой взгляд, определяющей<br />
причиной того, почему теория эстетики Киевской Руси пока что не написана. Да и не<br />
только Киевской Руси. Ведь большинство стран Восточной Европы не имели в полном<br />
смысле этого слова собственной античности, собственного средневековья, собственного<br />
Возрождения, собственного Нового времени и собственной классики, со свойственными<br />
каждому из этих этапов категориальным развитием на собственном основании самосознания.<br />
Остальные типы этнокультуры развивались уже на основании переноса в свои теоретические<br />
предпосылки достижений западноевропейской мысли. Это было не механическое<br />
одалживание и в процессе такого двойственного становления горели свои костры,<br />
раньше времени уходили из жизни свои «возмутители спокойствия», растаптывались<br />
сердца своих Данко, выигрывали состязание с миром повседневной ограниченности свои<br />
Сократы. Но «локальные пассионарии» выходили за пределы локальности, персонифицируя<br />
собой не «этническое основание», а основание мира в отдельном этносе. В них билось<br />
то же всечеловеческое сердце, но сила страсти последнего производилась мощью разума.<br />
Вот почему в становлении логики истории «стержневой линией» является становление Разума,<br />
а чувственное, эстетическое выглядит производным и в объективно-идеалистической<br />
теории искусства предстает таковым в виде «теоретического чувства».<br />
Существует и другая, не менее весомая причина, из-за которой предлагаемый перевод<br />
розенкранцевской эстетики должен восприниматься как изложение — перевод с перевода<br />
представляет собой иной уровень ответственности. Тем более, когда речь идет<br />
кранца. В нем представлены размышления автора относительно основания, места и закономерности<br />
феномена безобразного в логике «слепого» становления истории и основания,<br />
места и правомерной целесообразности самого исследования Розенкранца в системе<br />
систем немецкой классической философии. Отдаю себе отчет в том, что расставленные<br />
акценты могут вызвать упрек в преобладании философского аспекта над аспектом искусствоведческим.<br />
Частично такой упрек правомерен. Но только частично. Нет необходимости<br />
обосновывать такой подход тем, что искусствоведческий аспект феномена безобразного<br />
представлен самим Розенкранцем. Как нет необходимости и в том, чтобы еще раз<br />
подчеркнуть ограниченность преувеличения искусствоведческого подхода к данному феномену,<br />
ибо завершение Розенкранцем своей концепции карикатурой усиливает диссонанс<br />
того, что карикатура не справляется с явлением безобразного в реальной жизни 1<br />
и не способна покончить с ним. Поэтому она не только не выполняет свое положительноотрицательное<br />
предназначение, но, сведенная только к феномену искусства, вписывается<br />
в современные явления безобразного как один из его пассивных модусов.<br />
Осмысление феномена безобразного и его рефлексии Розенкранцем требуют постижения<br />
и снятия в логике философского становления сущностных сил и сущностного самосознания<br />
человека, поскольку, во-первых, классическая философия завершает себя снятием<br />
непосредственного, чувственного, эстетического в мышлении (в духе, в чистом самосознании);<br />
во-вторых, потому что, невзирая на реальность предмета своего исследования,<br />
сохранивший верность гегелевской методологии автор концепции не только раскрывает<br />
природу безобразного с оснований объективного идеализма, но и в соответствии с такой<br />
методологии, не рассматривает безобразное в контексте основания истории. А, ограничиваясь<br />
пространством искусства, не выводит его на уровень реальных противоречий и необходимости<br />
разрешения антиномичного антагонизма прекрасного и безобразного как<br />
деформации общественного развития. Впрочем, это ни в коей мере не может быть претензией<br />
к Розенкранцу. И не потому, что, сосуществуя в одном времени с философией Фейербаха,<br />
с неклассической философией и с философией марксизма, Розенкранц подходит к исследованному<br />
явлению с теоретических оснований исчерпанной классической философии.<br />
А потому что логика данного феномена как движение от аморфности до деформации через<br />
неточность могла быть исследована исключительно с позиций гегелевской методологии —<br />
с объективно-идеалистической методологии. Ибо ни в фейербаховской, ни в неклассической<br />
философии не присутствует методология становления какого-либо феномена по всемария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
26<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО справка к изданию<br />
27
ективная сложность текста умножается и субъективною. Но отказ от чтения первой главы<br />
«Эстетики» Розенкранца и переход к последней главе оставит эту книгу непрочитанной,<br />
потому как без теоретического ядра первой, последняя глава не может быть адекватно<br />
(фундаментально) освоена. Кто-то ее найдет «любопытной», кто-то — мерзкой, ктото<br />
просто перекрестится, кто-то ее закроет. И снова опасность забытья?<br />
Система «Эстетики» Розенкранца — фундаментальный труд и требует, безусловно,<br />
категориального мышления и у читателя. Она отличается тем, что автор вводит читателя<br />
не в пространство перечисления примеров, а в необходимость понимания фундаментальной<br />
закономерности возникновения, становления и утверждения безобразного. И эту<br />
печально «магистральную» линию необходимо удержать, освоить в ее противоречивости.<br />
И все это для того, чтобы постигнуть основание и логику становления безобразного как<br />
основание и обратную логику его снятия и преодоления в абсолюте красоты.<br />
Проблемный «сюжет» этой книги — не для души. И если теоретическая эстетика безобразного<br />
не «для души», а для ума, то пусть последний выдержит печаль его познания.<br />
Выдерживает же он ежедневное созерцание пестрой эклектики грязи современного бытия,<br />
украшенной в плохо освещенных «подземках» классической музыкой. Выдерживает<br />
же он невыносимость собственной аморфности, «потеряв сознание» в распадающемся<br />
мышлении. Выдерживает же он свои «приблизительные» и малоадекватные «динамике<br />
вещей» и процессов «соображения», защищающие себя симулякрами «воображения»,<br />
в котором не имеет места вхождение в образ, ибо и образ распался на фрагменты, следуя<br />
по логике которых, можно окончательно потерять разум. И выдерживает же он это все,<br />
когда невыносимость мышления оборачивается отречением от него и когда его обезличенный<br />
(трансцендентальный, метафизический, нигилистический, ничтойный и т. п.)<br />
«носитель» привыкает жить на мусоросвалке истории и культуры. В той степени, в какой<br />
выздоровление предполагает изучение клиники заболевания, движение по этому скользкому,<br />
малоприятному, не освещенному и все же требующему преодоления пути, постижение<br />
безобразного может оправдать себя.<br />
1 Этот факт имеет историческое объяснение, которое, впрочем, достойно отдельного исследования со стороны<br />
филологов и философов. Было интересно услышать признание владеющих русским языком немецких философов, что<br />
Гегеля на русском языке понять легче, чем на немецком. Признание тем более важное, что предельная категориальность<br />
языка Гегеля непосвященным кажется довольно бедной. Вместе с тем, такой факт отнюдь не отрицает красоту<br />
и богатство других языков, на которых общаются и творят семантику и идиоматику своей культуры народы мира.<br />
о языках совершенно разных групп. И если в философско-категориальном отношении<br />
немецкий и русский языки наиболее развиты в мире 1 , то испанский, итальянский, португальский,<br />
французский и, конечно же, румынский обладают иными лингвистическими<br />
и этимолого-семантическими характеристиками, которые в случае перевода с перевода<br />
способны усложнить своими синтактическими конструкциями передачу оригинальной<br />
конструкции мысли. Хотя это совершенно не означает, что в таком случае они порождают<br />
семантическую подтасовку. Тем не менее, невозможность осуществить прямой перевод<br />
не позволяет приписывать Розенкранцу представленный на суд читателя вариант изложения<br />
текста. Целью этой работы было ознакомление публики с драматично актуализированной<br />
современностью концепции безобразного.<br />
Ну, и третий аспект моей ответственности за эту работу. Проблема возможности<br />
«блеска перевода» не только непосредственно связана с вышесказанным, когда варианты<br />
перевода обречены на определенную герменевтику, неосознанное злоупотребление может<br />
быть обусловлено семантическими «ножницами» категориального перевода. Все<br />
претензии к категориальному качеству изложения приму в свой адрес и в этом моя совесть<br />
будет чиста. Сказанное отнюдь не означает, что мною были допущены осознанные<br />
интерпретации, но стилистические, синтактические, лексические, категориальные и другие<br />
особенности румынского языка навевали не только определенные трудности, но и нередкие<br />
сомнения. Изысканно рафинированный, бесконечно синонимичный, мягкий,<br />
вплоть до злоупотребления сослагательным наклонением (использующееся как форма<br />
выражения и не обязательно как выражения действительной условности), идиоматически<br />
неисчерпаемый румынский язык обрекает переводчика на постоянную вторичную рефлексию.<br />
Из последней (если говорить о философском тексте) как формы языкового выражения<br />
нередко следует выводить категориальный смысл через двойное отрицание.<br />
Вместе с тем, многие категории в румынском языке отсутствуют, или же омонимизированы<br />
с другими. В контексте логики возникновения, разворачивания и разрешения противоречия<br />
в нем отождествляются понятия «основание», «единство» и «тождество», многозначно<br />
и одновременно синонимично звучат понятия «саморазличение», «раздвоение<br />
единого», «противоположности», из-за чего ощутимо усложняется возможность понять<br />
их применение в отдельном случае и, соответственно, передача нюансов их различения<br />
в оригинальном и переводном тексте. Передача раскрытия феномена безобразного, особенно<br />
на стадии аморфности, которую Розенкранц выводит из трансформаций логики<br />
противоречия от основания до его крайних противоположностей, довольно сложна. Объмария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
28<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО справка к изданию<br />
29
Биографическая справка 1<br />
Биографические данные Карла Розенкранца представлены прежде всего в его автобиографии<br />
«Из Магдебурга в Кёнигсберг», изданной в 1873 году. К. Розенкранц родился<br />
23 апреля 1805 года в Магдбурге в семье среднего государственного служащего. Мама его<br />
была француженкой. Воспитанный отцом на основе идеалов Просвещения, он рано увлечется<br />
идеями романтизма. Во время обучения в лицее один из преподавателей — Йохан<br />
Стребе ориентирует его на изучение немецкого средневековья, которое стало модным<br />
предметом научных исследований благодаря романтизму. Поступив весной 1824 года<br />
в Берлинский университет, Розенкранц продолжает изучать историю древней и средневековой<br />
немецкой литературы. На третьем курсе он переводится в Галльский университет<br />
и посвящает себя исключительно философии, особенно философии гегелевской. Знакомство<br />
с «Феноменологией духа» Гегеля существенно расширяет его кругозор. Еще в студенческие<br />
годы — с 1827 по 1830 годы, под влиянием гегелевской методологии он издает<br />
серию статей по эстетике и литературе. Самой важной из этих работ является «История<br />
немецкой поэзии Средних веков» (1830), в которой, по собственному признанию автора,<br />
предпринята попытка распространения гегелевского метода на изучение модальностей<br />
формирования средневекового самосознания. Через процесс развития средневековой литературы<br />
Розенкранц пытается раскрыть относящиеся к Средним векам идеи из «Феноменологии<br />
духа», которые изложены Гегелем в параграфах о «Несчастном сознании»<br />
и «Отчуждение духа». Эта работа завершает цикл его исследований о Средних веках.<br />
Итоги постижения гегелевской философии будут воплощены в трехтомном исследовании<br />
«Введение в историю поэзии» (1832–1833 гг.), в котором история мировой литературы<br />
впервые представлена в соотношении с тогдашним пониманием прогресса познания,<br />
распространенного немецкой классической философией на теорию искусства в целом<br />
и поэзии в частности.<br />
Университетское обучение завершается в 1828 году исследованием «Этапы немецкой<br />
литературы» и защитой (в том же году) докторской диссертации на тему «Исследование<br />
философии Спинозы». В 1831-м Розенкранц становится профессором этого же университета,<br />
а в 1833-м переезжает в Кёнигсберг, где занимает пост заведующего кафедрой философии<br />
местного университета, в котором преподавал мыслитель мирового уровня<br />
Иммануил Кант. Как и его великий предшественник, Карл Розенкранц останется здесь<br />
на всю жизнь. Уникальность преподавательского стиля и широкий культурный диапазон<br />
1 В доступных источниках биография Розенкранца представлена более чем скудно. Как правило, кратко анонсируется,<br />
что он является учеником Гегеля. Частыми повторами такого же рода характеризуются сайты, на которых<br />
о нем говорится. Эта биографическая справка построена преимущественно на материале румынского переводчика<br />
Виктора Машека, поскольку именно его вариант биографии немецкого философа наиболее целостен, последователен<br />
и завершен.<br />
его курсов, как и прогрессивно-полемическая позиция в политических спорах его времени,<br />
вызывают у студентов высокое уважение и любовь. Многие из них переводились<br />
из берлинского и галльского университетов в Кёнигсберг с целью учиться у Розенкранца<br />
и укрепили его авторитет как самого лучшего профессора Альбертинского университета.<br />
Изложенные в читаемых курсах и на различных конференциях литературные взгляды<br />
вскоре спровоцировали конфликт Розенкранца и прусского режима, включившего его<br />
в когорту прогрессивных интеллектуалов, которые вели «священную борьбу» за свободу<br />
прессы. Начиная с 1841 года, Розенкранц все чаще обращается к исследованию идей<br />
французского утопического социализма.<br />
Прекрасный знаток гегелевской философии, по которой издает многочисленные работы,<br />
среди которых «Критическое осмысление гегелевской системы» (1840), «Жизнь Гегеля»<br />
(1844), а в 1870-м, в связи с юбилеем рождения философа, он пишет самую объемную<br />
монографию, посвященную на то время Гегелю. Но Розенкранц испытывает мощное<br />
противостояние со стороны старогегельянцев, когда в своей работе «Система науки»<br />
(1850) пытается развить некоторые идеи Гегеля по философии природы. Это время, когда<br />
Розенкранц издает некоторые из главных своих трудов, а именно «Эстетика безобразного»<br />
(1853), «Поэзия и ее история» (1855), «Теория логических идей» в двух томах<br />
(1858–1859 гг.), с которыми он связывал большие надежды и в адрес которых была<br />
направлена яростная критика тех же старогегельянцев в связи с актуализацией Розенкранцем<br />
некоторых кантианских идей. Многие из аспектов этого печального опыта<br />
привели к тому, что в ущерб систематическим исследованиям, Розенкранц переориентируется<br />
на сугубо исторические по характеру работы.<br />
В последний период жизни его теоретические интересы концентрируются на французском<br />
Просвещении. Так, в 1866 году он опубликовал в Лейпциге двухтомную монографию,<br />
посвященную Дени Дидро («Жизнь и творчество Дидро»). И это в условиях, когда<br />
поражение буржуазной революции марта 1848 года привела в духовном плане к разложению<br />
немецкой классической философии, то есть той буржуазной идеологии, которая<br />
ориентировалась на рациональном познании всеобших законов природы и общества,<br />
а также индивидуального и общественного прогресса. В пространстве идей ее постепенно<br />
занимал иррационализм и пессимизм А. Шопенгауэра. Карл Розенкранц — один из немногих,<br />
кто противостоит такому положению дел и остается верным идеям мартовской<br />
революции. Будучи последовательным человеком и ученым, он по-прежнему защищает<br />
и распространяет рациональную философию Гегеля, в которой видел развитие просветительских<br />
идей.<br />
С целью посвятить себя целиком исследованиям творчества Дидро, в 1864 году Розенкранц<br />
отказывается от должности ректора Альбертинского университета, покупает<br />
у библиотеки Эрмитажа (Екатерина II купила у Дидро библиотеку) копии рукописей<br />
посмертно изданных трудов французского философа и впервые издает их в переводе<br />
на немецкий язык. Речь идет, прежде всего, об известных «Салонах» Дидро. Этот же<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
30<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО биографическая справка<br />
31
материал, как и прекрасное знание изданных произведений Дидро, позволило Розенкранцу<br />
предложить немецкому читателю освободиться от заблуждений и недооценки философии<br />
Дидро. Написанная монография получила восторженные оценки не только в Германии,<br />
но и во Франции — не менее восторженная оценка получена и от многих выдающихся<br />
деятелей, среди которых и Сан-Бев, а почти семьдесят лет спустя, в 1931-м, Робер<br />
Диккман будет утверждать, что это самое ценное систематическое исследование творчества<br />
Дидро, которого даже сегодня не может превзойти ни один исследователь французского<br />
Иллюминизма.<br />
В этот же период Розенкранц издает несколько важных работ о философии Руссо<br />
и Вольтера. Замечателен факт, что во время франко-немецкой войны, в 1870 году Розенкранц<br />
открывает цикл свободных семинаров в Кёнигсбергском университете по общей<br />
теме «Французская философия и литература XVIII века», центральной <strong>проблем</strong>ой которых<br />
является творчество и личность Вольтера. Вольтеру же посвящен объемный труд, изданный<br />
в 1877 году. Это последний труд, написанный Розенкранцем, — труд, которым<br />
философ выразил желание отметить юбилей рождения Вольтера и Руссо в 1878-м.<br />
Роценкранц умер 14 июня 1878 года, так и не реализовав тайную мечту жизни, которою<br />
делился в переписке лишь с самыми близкими друзьями, а именно — быть приглашенным<br />
преподавать философию в берлинском университете. Но рациональный дух, сохраненные<br />
последователями Гегеля уверенное в развитие и прогресс диалектическое мышление,<br />
уже давно не были в моде.<br />
Карл Розенкранц<br />
ЭСТЕТИКА<br />
БЕЗОБРАЗНОГО<br />
Предисловие<br />
Эстетика безобразного? Почему бы и нет? Эстетика стала общим<br />
названием для многочисленных концепций, которые, в свою<br />
очередь, делятся на три класса. Первый из них ориентируется<br />
на идею прекрасного, второй — на процесс его воплощения,<br />
то есть на искусство, а третий — на систему видов искусства как<br />
представления идеи прекрасного в определенной сфере. Поскольку<br />
понятия относятся к первому классу, мы объединяем их под названием<br />
метафизики прекрасного. Но развитие идеи прекрасного<br />
делает неизбежным анализ безобразного. Таким образом, понятие<br />
безобразного как отрицательной формы прекрасного становится<br />
частью эстетики. Другой науки, способной включить в себя<br />
этот предмет, не существует, поэтому правомерно говорить об эстетике<br />
безобразного. Никто же не удивляется, когда в биологии<br />
разрабатывается понятие болезни, в этике — понятие зла, в теории<br />
права — понятие несправедливости, а в теологии — понятие<br />
греха. Но формулировка «теория безобразного» недостаточно<br />
выражает генеалогию концепции. Впрочем, изложение и исследование<br />
<strong>проблем</strong>ы составляют те факторы, которые должны обосновать<br />
название.<br />
Я старался развить понятие безобразного как такое, которое<br />
с первых своих проявлений и до завершенности в форме дьявольского,<br />
опосредует понятие прекрасного и комического. Одновременно<br />
я разворачиваю космос безобразного, начиная с его неопределенностей<br />
— аморфности и асимметрии, и заканчивая его<br />
интенсивными образованиями в бесконечном разнообразии<br />
разложения прекрасного через карикатуру. Отсутствие формы,<br />
неистинность (неточность, неправильность) и деформация пред-<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО предисловие<br />
33
рал и использовал чуть больше половины, могу сказать, что был и вправду экономным.<br />
В выборе примеров я преследовал цель всестороннего подхода, чтобы не допустить ситуаций,<br />
как это часто бывало в истории наук, когда односторонний пример закрепляет ограниченное<br />
представление о всеобщей действительности.<br />
По способу, каким использовался этот материал, я могу показаться слишком несовременным<br />
и педантичным. Ведь современные исследователи придумали странный способ цитирования,<br />
когда кроме так званых кавычек ничего больше не указывается. Откуда взята<br />
та или иная цитата остается тайной. Достаточно, если упоминается хоть чье-то имя. Добавление<br />
к имени автора названия книги кажется им излишним педантизмом. Конечно,<br />
попытка защитить общеизвестные или бесспорные вещи при помощи специально подобранных<br />
цитат была бы наивной. Но, с моей точки зрения, наиболее редко использованные,<br />
мало приемлемые или спорные идеи требуют точности ссылок, чтобы, при желании читатель<br />
мог обратиться к источникам, сравнивать и ориентироваться в них самостоятельно.<br />
Изящество не может быть целью, оно — только одно из средств, полностью подчиненных<br />
научному изложению, а на первое место всегда должны ставиться глубина и точность.<br />
После завершения работы с ужасом констатирую, что среди примеров просочились<br />
многие, относящиеся к ближайшему настоящему, поскольку они были наиболее свежими<br />
в памяти и, к тому же, привлекли внимание из-за особенного интереса к авторам. Не разгневаются<br />
ли на меня эти авторы, среди которых и несколько моих друзей? Это сильно бы<br />
меня огорчило. Но в таком случае, они должны будут задаться вопросом об истинности<br />
написанного мной. В этом случае их нельзя будет осудить. Из бережной формы, в которой<br />
я формулировал свои наблюдения, как и из других контекстов, в которых, когда они того<br />
заслуживают, я их хвалю, они заметят, что мои дружеские чувства по отношению к ним остаются<br />
прежними. Насколько помнится, большинству я изложил свои критические замечания<br />
в письменной форме. Те замечания, которые приводятся в тексте без изменений, их<br />
не должны удивить. Я бы отказался от таких замечаний, если бы из собственного опыта<br />
не знал как вспыльчивы современные теоретики, с каким трудом они переносят несогласия<br />
с собой, как сильно жаждут похвалы, но не совета, как они строги, но лишь тогда, когда<br />
критикуют других, как ждут от критики «характера» и преданности, то есть восхищения.<br />
Думаю, мое сочинение может изучаться не только в научных, но и более широких кругах.<br />
Ведь в силу природы предмета исследования эта доступность в некоторой степени будет<br />
ограничена. Была необходимость коснуться малоприятных явлений и называть некоторые<br />
вещи своими именами. Как теоретик я смог уклониться от углубления в разные<br />
частности, ограничиваясь, как в случае выдумок Сотада 1 , намеками. Как историк я не<br />
1 Сотад — греческий поэт из Маронии (Фракия), автор комедий III в. до н. э. Писал порнографические и педерастические<br />
сатирические поэмы стихотворным размером «сотадей» («сотадская рифма», вид палиндрома) на ионийском<br />
диалекте древнегреческого языка. Стихи Сотада выражали амбивалентное отношение автора: вслед<br />
за описанием непристойных сюжетов он занимался нравоучениями.<br />
ставляют собой последовательные ступени серии метаморфоз. Предпринята попытка доказать<br />
что безобразное находит свои положительные предпосылки в прекрасном, деформируя<br />
его и производя вместо возвышенного — вульгарное, вместо приятного — отвратительное<br />
и вместо идеала — карикатуру. Все виды искусства и вся история искусства<br />
разных народов привлечены для иллюстрации подходящими примерами эволюцию соответствующих<br />
понятий. Эти примеры являются и точками отсчета, и теоретической субстанцией<br />
для будущих исследователей этой сложной области эстетики. Настоящим исследованием,<br />
недостатки которого известны лучше всего мне самому, я надеюсь восполнить<br />
ощутимую пустоту, поскольку концепция безобразного рассматривалась, с одной стороны,<br />
ограниченно и как само собой разумеющаяся, а с другой — слишком обобщенно, что<br />
породило опасность ее конституирования в основании односторонних определений.<br />
Доброжелательный и действительно желающий самообразоваться читатель согласится<br />
с изложенным выше, но все же может задаться вопросом: заслуживает ли серьезного исследования<br />
такой сложный и ускользающий предмет? Вне всякого сомнения, ибо, поставив<br />
однажды эту <strong>проблем</strong>у, наука вынуждена постоянно возвращаться к ней и требовать<br />
ее разрешения. Разумеется, мне не приходит в голову утверждать, что я эту <strong>проблем</strong>у решил.<br />
Буду благодарен, если в этой, как и в других областях, будет признана заслуга, что<br />
мною сделан хотя бы шаг вперед. Некоторые, возможно, подумают об этом исследовании:<br />
Здесь, внизу, все же ужасно,<br />
А человек не должен желать дразнить богов<br />
И никогда не пытаться увидеть<br />
То, что ночью овеяно ужасом.<br />
Те, которые так думают, могут не читать мою концепцию безобразного. Наука же следует<br />
по логике собственной необходимости. Она должна развиваться. Среди бесконечных<br />
специализаций труда Шарль Фурье выявил одну, названную им «трудом самопознания»,<br />
для которой не существует врожденной склонности, но которой люди отдаются без<br />
остатка, потому что осознают ее необходимость для общего блага. Долгу такого рода<br />
я попытался ответить этой книгой.<br />
Но действительно ли тема так уж отталкивает? Нет ли в ней и светлых моментов?<br />
Не скрывает ли она в себе и положительное содержание для философа или художника?<br />
Думаю — да, так как безобразное не может пониматься иначе, как промежуточное звено<br />
прекрасного и комического. Комическое невозможно без ингредиента безобразного, воплощающееся<br />
и перевоплощающееся в свободе прекрасного. Этот счастливый вывод нашего<br />
исследования, к которому постоянно будем приходить, искупит малоприятный характер<br />
некоторых подразделов.<br />
Прошу мне простить, что временами, по ходу изложения, я так много мыслил примерами.<br />
Хотя все эстеты — Винкельман, Лессинг, Кант, Жан Поль, Гегель, Ф. Т. Фишер, да и<br />
сам Шиллер, рекомендовавшие ограниченное использование примеров, поступают также.<br />
Имея в виду объем материала, который с этой целью на протяжении многих лет я собимария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
34<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО предисловие<br />
35
имел на это права, но как философ имел полную свободу так поступить. И все же, несмотря<br />
на эти предупреждения, найдется кто-нибудь, кто заметит, что не было необходимости<br />
быть таким строгим. Уверяю вас, в таком случае исследование было бы невозможным<br />
и не состоялось бы. К сожалению, в современной науке присутствует некоторая стыдливость,<br />
ибо в случае некоторых явлений животного мира и искусства затушевывание возведено<br />
в статус исключительной нормы. И как сегодня это затушевывание лучше всего<br />
достигается? О таких феноменах не говорится вообще. Они объявляются несуществующими.<br />
В угоду салонным вкусам они безжалостно отбрасываются. К примеру, при помощи<br />
деревянных гравюр (так как без инкрустированных иллюстраций уже невозможна<br />
ни одна современная научная работа) и микроскопных фотографий представляют физиологию,<br />
теорию жизни, защищаемая перед сообществом круга господинов и госпож в какой-нибудь<br />
столице, и ни слова не говорится об органах воспроизведения и сексуальных<br />
функциях. Очень пристойно! Вся история классической немецкой литературы была совершенно<br />
кастрирована во имя ее адаптации для девичьих пансионатов, для того, чтобы<br />
допустить к употреблению грациозными девственницами и нежной женской душою только<br />
того, что признано светским, чистым, красивым, возвышенным, оживленным, приятным,<br />
изящным, очищающим и т. п. Так родилась невообразимая фальсификация истории<br />
литературы, которая выходила за пределы даже педагогических задач, что извращает ее<br />
смысл и формирует идиллическое чтение, традиционно базирующееся на одностороннюю<br />
селекцию. В этом смысле счастливый случай представляет собой появление исследования<br />
Куртца, которое, благодаря своей независимости, заставит фабричных рабочих<br />
выйти на другие темы, с другими преимуществами и с другим способом мышления, в отличие<br />
от того, с чем они свыклись на этой протоптанной до пресыщения дороге. Каждый<br />
мыслящий человек поймет, что при всем желании, мы не можем пользоваться анемическим<br />
стилем пансиона и что в таком случае я могу обратиться к требованиям Лессинга:<br />
Я не писал для детей,<br />
Что с достоинством шагают в школу,<br />
Держа в руках Овидия,<br />
Не понятого их учителями [1].<br />
Карл РОЗЕНКРАНЦ<br />
Кёнигсберг, 16 апреля 1853 г.<br />
[Введение]<br />
…и прими совет,<br />
не дорожи слишком солнцем и звездами,<br />
иди, следуй за мной в глубины темного царства.<br />
ГЁТЕ<br />
Великие знатоки человеческой души спускались в ужасающую пучину зла, придавая<br />
форму его жутким воплощениям, вырывавшиеся им навстречу из собственной ночи. Такие<br />
великие поэты как Данте довели впоследствии до совершенства воссоздание этих образов;<br />
такие художники как Орканья, Микеланджело, Рубенс, Корнелиус придали им<br />
непосредственную, чувственную данность, а такие музыканты как Спохр предоставили<br />
возможность услышать жуткие вои проклятия, в котором, изливая свою душевную муку,<br />
жалобными звуками зло вопит до изнеможения.<br />
По своему происхождению ад обладает не только религиозной, но и эстетической<br />
природой. Мы пребываем посреди зла и страдания, но также и посреди безобразного.<br />
Ужас, отвратительность, мерзость деформирования, а также неестественных образований,<br />
вульгарности и гнусности изголяются в бессмысленных формах, начиная с ничтожных<br />
образов до гигантских гримас, которыми, скрипя зубами, ухмыляется дьявольское<br />
зло. В этот ад красоты мы попытаемся спуститься. Но это было бы невозможным без<br />
того, чтобы одновременно не быть втянутым и в ад, предоставленный империей зла, ибо<br />
самое безобразное уродство — не то, которое внушает нам отвращение в природе под видом<br />
болот, изувеченных деревьев, ящериц и саламандр, морских чудовищ и огромных<br />
рептилий, крыс и обезьян — это эгоизм, который демонстрирует свой порок коварными<br />
и фривольными поступками, морщинами и синяками страдания и преступления.<br />
Этот ад нам хорошо известен. Каждому досталась своя доля пыток. Он различными<br />
способами поражает наши ощущения, глаза и уши. Человек с более тонкой душой, с более<br />
рафинированной культурой особенно страдает из-за него, так как грубость и вульгарность,<br />
разложение и деформация шокирует более благородные чувства тысячами превращений.<br />
И только одно явление остается до сих пор недостаточно познанным в соответствии<br />
с его объемом и огромной значимостью. Это случай безобразного.<br />
Теория прекрасного искусства, законы хорошего вкуса, наука эстетики были широко<br />
разработаны и усовершенствованы на протяжении последнего столетия в контексте европейской<br />
культуры, но только понятие безобразного, хотя оно везде упоминается, не изображено.<br />
Можно считать, что пришло время, чтобы и изнаночная сторона светлого образа<br />
прекрасного стала предметом научной эстетики, наподобие болезни в патологии и зла<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО [введение]<br />
37
сти мышления и если нам захочется превратить эфемерную тонкость эстетики в эстетику<br />
сервировки чая как тождественной ее (эстетики. — М. Ш.) меры, жеманно отвлекаясь<br />
на циничное и ужасное, мы не сможем исследовать ее серьезно. Эстетика безобразного<br />
обязывает уделить внимание и таким концепциям, обсуждение и даже упоминание которых<br />
может быть переведено в контекст, оскорбляющий хороший вкус. Кто возьмется изучать<br />
патологию и терапию болезней, должен быть готовым и к отвратительным аспектам.<br />
Точно также и в этом случае.<br />
Нетрудно заметить, что безобразное является понятием, которое может постигаться<br />
лишь как условное, в отношении с другим понятием. Этим другим является понятие прекрасного,<br />
так как безобразное существует лишь в той степени, в какой существует<br />
прекрасное как его положительная предпосылка. Если бы не существовало прекрасное,<br />
не существовало бы и безобразное, поскольку оно всего лишь отрицательность прекрасного.<br />
Прекрасное представляет собой идею восхитительного, подлинного, а безобразное<br />
— ее отрицание, обладая в таком качестве производным бытием. Оно может состояться<br />
в и через прекрасное. Не в том смысле, что прекрасное может одновременно быть и безобразным,<br />
а по той причине, что те же условия, которые выражают необходимость прекрасного,<br />
переходят в свою противоположность.<br />
Эта внутренняя связь прекрасного и безобразного как самоотрицание, включающее<br />
возможность того, чтобы безобразное зависало в бытии как негативное прекрасное,<br />
предполагает аннулирование противоречия прекрасного с безобразным, а также их новое<br />
соединение. В этом процессе прекрасное обнаруживается как сила, побеждающая мятеж<br />
зла, подчиняя его себе. Из такого примирения рождается веселое, которое вызывает<br />
смех. В этом процессе безобразное освобождается от своей гибридной эгоистической<br />
природы, осознает свою никчемность и становится комичным. Комическое включает в себя<br />
момент, отрицательно относящийся к чистому и простому идеалу, но это его преобразование<br />
приобретает выражение видимости и аннулируется. Положительный идеал<br />
может опознаваться в комическом потому, что в той мере, в которой его негативный аспект<br />
расплывается, он утрачивает свою отчетливость.<br />
Таким образом, выявление безобразного обусловливается его сущностью. Прекрасное<br />
представляет собой положительное условие существования безобразного, а комическое<br />
является формой, в которой, через противостояние прекрасному, безобразное освобождается<br />
от своего отрицательного характера. Прекрасное относится к безобразному<br />
исключительно отрицательно, так как оно является прекрасным в той мере, в какой не является<br />
безобразным, а безобразное является безобразным лишь в той мере, в какой оно<br />
не прекрасно. И не в том смысле, что прекрасное, чтобы быть прекрасным, нуждается в безобразном.<br />
Оно прекрасно и без своего сравнительного термина, но безобразное представляет<br />
собой опасность, которая угрожает ему через себя и самим собой, противоречием<br />
прекрасного по отношению к самому себе, обусловленное собственной сущностью.<br />
в этике. И не потому, как раньше говорилось, что неэстетическое в своих частных проявлениях<br />
мало познано. Разве было бы это возможным, когда природа, жизнь и искусство напоминает<br />
о нем каждую минуту? Но полное изложение его соотношений и ясное постижение<br />
его организации еще не было предпринято. Во всяком случае, немецкой философии<br />
принадлежит первенство заслуги и мужества признания безобразного как интегративного<br />
момента эстетики, а также и того, что прекрасное проходит через безобразное, чтобы стать<br />
комическим. Это открытие, при помощи которого прекрасное входит в свои права через<br />
отрицательное, не может оспариваться. Но трактовка природы безобразного до сих пор<br />
ограничивалась недостаточным, поверхностно-обобщенным анализом, а с другой стороны,<br />
односторонним духовным рассмотрением. Она слишком ориентировалась на объяснение<br />
некоторых персонажей из творчества Шекспира и Гёте, Байрона и Калло, Гофмана [2].<br />
В восприятии отдельных людей «эстетика безобразного» может звучать как «деревянное<br />
железо», поскольку безобразное является противоположностью прекрасного. И, тем<br />
не менее, безобразное неотделимо от понятия прекрасного, потому как прекрасное постоянно<br />
содержит в себе возможность и эволюцию безобразного в форме отклонения,<br />
в которое каждую минуту можно впасть через «чуть больше» или «слишком мало». Любая<br />
эстетика, описывающая положительные определения прекрасного, обращается и к отрицательным<br />
дефинициям безобразного, хотя бы для того, чтобы предупредить о том, что<br />
если действия не соответствуют требованиям положительного определения, прекрасное<br />
деградирует и вырождается, а на его месте возникает безобразное. Эстетика безобразного<br />
должна объяснить происхождение безобразного и описать возможности и модальности<br />
его выражения, становясь, таким образом, полезной и художнику. Безусловно, для<br />
художника было бы более приемлемым изображение прекрасного без изъяна, чем посвятить<br />
свой талант безобразному. Стремиться к чудесным воплощениям возвышеннее<br />
и приятнее, чем изображать дьявольскую гримасу. И все же художник не всегда может<br />
обойти безобразное. Он часто даже нуждается в нем как в промежуточном средстве реализации<br />
идеи, а также в качестве сравнительного термина. Абстрагироваться от безобразного<br />
не сможет особенно художник, созидающий в области комического.<br />
Здесь речь идет только о тех видах искусства, которые представляют собой самодостаточную<br />
цель в качестве свободного искусства и как теоретические искусства направлены<br />
на восприятие ухом и глазом человека. Виды искусства, ориентированные на практическую<br />
пользу и ощущения вкуса и обаяния исключаются. К. Ф. фон Румор в работе «Дух кулинарного<br />
искусства», Ант в своих изысканных лекциях о искусстве приема пищи, де Ваерст<br />
в рафинированном труде о гастрономии, который остается справочником непреходящей<br />
ценности особенно в этнографическом аспекте, подняли эту сибаритствующую<br />
эстетику на высокий уровень. На этих работах можно убедиться в том, что присущие<br />
и прекрасному, и безобразному общие законы, относятся также к эстетике рафинированной<br />
сервировки стола, которая многим представляется самой важной. Но нам не следует<br />
идти в этом направлении. Разумеется, теория безобразного требует полнейшей серьезномария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
38<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО [введение]<br />
39
ражении уродства благодаря тому, что оно становится средством комического. Безусловно,<br />
комическое не раскрывается здесь в деталях, а только в той степени, в какой требуется<br />
выявление процесса превращения.<br />
ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВООБЩЕ<br />
То, что безобразное является отрицательным явлением, достаточно ясно следует<br />
из вышесказанного. Общая теория отрицательного находится с безобразным в отношении,<br />
которое сводится к тому, что безобразное также выражает нечто отрицательное.<br />
Как чистая абстракция идея отрицательного вообще не обладает чувственной формой.<br />
А то, что не способно проявить себя в чувственной форме, не может стать эстетическим<br />
предметом. О понятиях «ничто», «иное», «безмерное», «несущественное», «отрицательное<br />
вообще», как логических абстракций мы не можем иметь общий образ и представление,<br />
поскольку, как таковые, они не принимают чувственно-воспринимаемую форму.<br />
Прекрасное — это идея, так как оно представлено в чувственном бытии как свободная<br />
оформленность некоторой гармонической тотальности. Как отрицание прекрасного безобразное<br />
разделяет с ним качества чувственного явления и не может существовать только<br />
идеально, когда бытие присутствует лишь в форме концепции бытия, а его конкретная<br />
реальность исключена из времени и пространства.<br />
И точно также, как мало может быть названа безобразною концепция «отрицательного<br />
вообще», так мало может быть названо и отрицательное, представленное несовершенством.<br />
НЕСОВЕРШЕННОЕ<br />
В том смысле, в котором мы утверждаем, что прекрасное является идеей, можно также<br />
утверждать, что оно является совершенством. Достаточно часто, особенно в эстетике<br />
прошлого столетия, понятие прекрасного отождествлялось (в том числе и Баумгартеном)<br />
с понятием совершенства. И все же, совершенство в своей сущности не находится в прямой<br />
связи с прекрасным. Могут существовать хорошо приспособленные животные,<br />
то есть, в рамках биологической конечности — прекрасно организованные как живые организмы<br />
и именно поэтому особенно безобразные, наподобие верблюда, ленивца, каракатицы,<br />
бульдога, чесоточной лягушки и т. п. Ошибка индивидуального мышления, заблуждение,<br />
ложное суждение, неверный вывод представляют собой несовершенство интеллекта,<br />
которое не подчинено природе эстетического. С этой точки зрения не ставшие еще<br />
виртуозной привычкой добродетели производят впечатление несовершенства, но,<br />
в стремлении к совершенству, они способны достигать бесконечную силу эстетического<br />
притяжения. Безобразный характер является одновременно и плохим характером.<br />
Понятие несовершенства относительно. Оно всегда зависит от меры, послужившей<br />
ему началом собственной самооценки. Листок несовершенен по сравнению с цветком,<br />
Что касается безобразного, дело обстоит иначе. Оно есть то, что оно эмпирически есть<br />
через себя самого; но факт, что оно «безобразное» возможен лишь через свое отношение<br />
к прекрасному, в котором находит свою меру. Таким образом, как и добро, прекрасное<br />
является абсолютной сущностью, а безобразное, как и зло, является сущностью относительной.<br />
Но не в том смысле, что в определенном случае безобразное могло бы быть сомнительным.<br />
Это невозможно, ибо необходимость прекрасного устанавливается через него самого.<br />
Безобразное же относительно, так как оно не может измеряться через самое себя,<br />
а только посредством прекрасного. В повседневной жизни каждый руководствуется собственным<br />
вкусом, согласно которому прекрасным кажется нечто такое, что другой находит<br />
безобразным, и напротив. Но если мы освободим этот случайный характер эмпирически-эстетических<br />
рассуждений от его неуверенности и неясности, сразу же обозначится<br />
необходимость критики и посредством такой критики установление самых высоких принципов.<br />
Как область условного прекрасного мода полна феноменов, которые, осмысливаясь<br />
в аспекте идеи прекрасного, могут считаться исключительно безобразными, но которые<br />
временно считаются прекрасными не потому, что они действительно таковы в себе<br />
и для себя, а исключительно потому, что дух определенной эпохи находит именно в таких<br />
феноменах свое точное выражение, а также потому, что эпоха свыклась с ними. Дух заинтересован<br />
в моде, прежде всего, удовлетворением собственного настроения, которому может<br />
послужить в качестве адекватной представленности и безобразное. Поэтому, прошедшие<br />
моды, особенно недавнего прошлого, оцениваются, как правило, как безобразные или<br />
комические, поскольку смена настроения осуществляется только через контрасты.<br />
Покорившие мир римляне республиканского периода считались утонченными. Цезарь<br />
и Август еще не носили бороду, и только начиная с романтической эпохи Адриана, когда<br />
империя все больше и больше становилась жертвой варварских нашествий, густая борода<br />
снова вошла в моду. Как будто чувствуя свою слабость, римляне хотели удостоверить<br />
свою храбрость и мужество. Самые удивительные метаморфозы моды представляет нам<br />
история первой французской революции. В философском аспекте они были проанализированы<br />
В. Гауфом [3].<br />
Прекрасное, таким образом, являет собой первую границу безобразного, вход в него,<br />
а комическое — вторую его границу, выход из него. Прекрасное исторгает из себя безобразное,<br />
комическое, напротив, сращивается с безобразным, очищая его в то же время<br />
от отталкивающих черт, выявляя его относительность и ничтожность по сравнению с прекрасным.<br />
Исследование понятия безобразного, его эстетика, имеет четкую логику. Оно<br />
должно начаться с того, чтобы вспомнить теорию прекрасного, причем не столько для того,<br />
чтобы представить его в полноте его значения, как следовало бы поступить с метафизикой<br />
прекрасного, а только в той мере, в какой могут быть выделены фундаментальные<br />
самоопределения прекрасного, из и через отрицание которых рождается безобразное.<br />
Такое исследование должно завершиться понятием превращения, используемое в изобмария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
40<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО [введение]<br />
41
держиваться этого принципа, то можно избежать любую дискуссию относительно выбранного<br />
нами вида, так как эта соподчиненность не позволяет забыть о существующем<br />
соотношении. Как драматический вид, поэзия объективно совершенна, а лирическая<br />
и эпическая поэзия подчинены ей, но отсюда не следует, что лирическое и эпическое как<br />
необходимые формы поэзии не способны достигать абсолютного характера. Таким образом,<br />
рассматриваемая в ее относительности, архитектура менее совершенна, чем скульптура,<br />
живопись и т. д. И все же, в единстве особенности формы и материала каждый вид<br />
искусства может достигать абсолюта. Иными словами, это означает, что соподчиненность<br />
как таковая никак не относится к безобразному. Если некоторый вид или направление<br />
искусства охарактеризовать как неразвитый или несовершенный, то это не будет<br />
тождественным эстетической деградации. Не включая в себе понятие безобразного, такое<br />
утверждение было относительным, что с необходимостью вытекало бы из этих иерархических<br />
отношений. Относительно конкретных произведений искусства часто принято<br />
выражать сравнительную степень прекрасного посредством простых количественных<br />
схем. Утверждают, например, что «Мюнхгаузен» является наиболее значимым произведением<br />
Иммерманна и этим одновременно утверждается, что оно является и самым прекрасным<br />
его произведением. Но менее прекрасное ни в коем случае еще не тождественно<br />
безобразному.<br />
БЕЗОБРАЗНОЕ В ПРИРОДЕ<br />
В природе, для которой существование в пространстве и времени является наиболее существенным,<br />
безобразное принимать бесконечные формы. Становление, свободе процессов<br />
которого в природе подчинено все, делает возможным в любой момент избыток и нарушение<br />
меры, способствуя разрушению чистых форм, к которым внутренне устремлена<br />
природа и, таким образом, становление делает возможным безобразное. Поскольку в своем<br />
полихроническом существовании отдельные формы обрушиваются на жизнь, в своих<br />
морфологических процессах они мешают друг другу и сталкиваются между собой.<br />
Благодаря симметричности своих пропорций и своей простоте геометрические и стереогеометрические<br />
формы, треугольник, квадрат, круг, призма, куб, сфера и т. п. внутренне<br />
красивы. Как универсальные, абстрактно эстетические формы, они обладают идеальным<br />
бытием лишь в материальной представленности, так как в конкретном виде возможны<br />
лишь как формы некоторых природных конфигураций кристаллов, растений и животных.<br />
Здесь движение природы представляет собой переход от окостенелых прямолинейных соотношений<br />
к гибкости живых линий и к удивительному слиянию прямой и кривой.<br />
С точки зрения эстетики, до тех пор, пока простая материя подчинена лишь закону<br />
гравитации, она представляет собой нейтральное состояние. Она не необходимо прекрасна<br />
и не необходимо безобразна — она случайна. К примеру, для того, чтобы быть совершенной<br />
как масса, Земля должна быть совершенной сферой. Но она не является таковой.<br />
цветок несовершенен по сравнению с плодом, если мы будем оценивать значимость цветка,<br />
отправляясь от плода как нормального бытия растения. Но в эстетическом аспекте<br />
несовершенство в ботаническом, или, точнее, экономическом смысле, цветок, как правило,<br />
выше оценивается, чем плод. В этом смысле, несовершенство так мало идентично<br />
безобразному, что как эстетическая ценность оно способно преодолеть даже то, что<br />
с точки зрения реальности и тотальности, предстает завершенным. Если в несовершенном<br />
проявляется направленность к истине, добре и красоте, тогда такая направленность<br />
может стать прекрасной, даже если и не в степени совершенства. К примеру, ранние произведения<br />
подлинного художника еще сохраняют в себе следы многих недостатков и несовершенств,<br />
и все же в них проступает печать гения, призванного творить великие<br />
произведения. Стихи Шиллера и Байрона еще несовершенны, но все же часто, и именно<br />
через особенности этого несовершенства, заявляют о будущем их авторов.<br />
Следовательно, несовершенное в значении недостатков начала не должно отождествляться<br />
с понятием ошибочного или неудовлетворительного, по отношению к которым это<br />
понятие часто употребляется в значении эвфемизма. Как необходимый уровень развития<br />
несовершенство в любом случае находится на пути к совершенству, причем таким образом,<br />
что ошибочное или неудачное составленное представляют реальность, которая<br />
не только заставляет ожидать лучшего, не только будит желание более высокого совершенства,<br />
но и находится в положительной противоречивости с такими понятиями. В положительном<br />
смысле несовершенное требует всего лишь последующего развития, чтобы<br />
предстать перед нами в полноте того, что оно уже есть в-себе. Неудачно составленное является<br />
тем отрицательным несовершенством, которое включает в себя еще нечто, что<br />
не должно в нем присутствовать. Рисунок может быть несовершенным, но красивым,<br />
и все же, отрицая принципы эстетики, плохой рисунок является искажением.<br />
Наше исследование изначально предполагает адекватное понимание относительной<br />
природы прекрасного, которая укоренена в самом искусстве и может быть выражена следующим<br />
образом: из того, что некоторая вещь прекраснее другой вещи, не следует, что<br />
менее красивая вещь является безобразной. Речь лишь о различиях степеней, которые еще<br />
не искажают красоту.<br />
Во-первых, мы должны помнить, что все виды искусства находятся в отношении координации<br />
относительно искусства вообще, даже если между собой они могут состоять<br />
в отношении соподчинения. Относительно вида вообще все типы одинаково обоснованы,<br />
что все же исключает то, чтобы один относительно другого находился на более высоком<br />
уровне. Архитектура, скульптура, живопись, музыка или поэзия абсолютно равны между<br />
собой как виды искусства, но верно и то, что в их вышеперечисленной последовательности<br />
выражена иерархия, в которой непосредственно исследуемый вид преобладает над<br />
предыдущим в возможностях более адекватного выражения сущности и свободы духа.<br />
Относительно отдельного вида искусства истинно одно и то же уточнение, так как количественные<br />
особенности каждого из них относятся к искусству как видовые. Если примария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
42<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО [введение]<br />
43
Земля приплюснута у полюсов и растянута в зоне экватора, к тому же ее поверхность<br />
представляет собой максимальную беспорядочность рельефа. Рассматриваемый стереометрически<br />
профиль поверхности Земли предстает самыми непредсказуемыми очертаниями<br />
беспорядка случайных возвышенностей и углублений. И относительно половины поверхности<br />
Луны нельзя утверждать, что хаос возвышенностей и углублений делают ее<br />
прекрасной. Кажущийся издалека лишь сверкающим небесным телом, серебряный диск<br />
Луны красив, но совокупность его долин, пропастей и конусов — нет.<br />
Линии, по которым двигаются небесные тела в своем многообразном эллипсическом<br />
и спиралевидном движении, не могут рассматриваться в качестве эстетических предметов,<br />
ибо они являются линиями лишь в наших схемах. Но бесконечное множество небесных<br />
тел действует на наше восприятие не своей массой, а светом. Любующиеся небом прибегают<br />
к некоторой иллюзорной фантазии, благодаря названиям созвездий Лебедь, Лира,<br />
Геркулес, Орфей и др. Как красиво они звучат! Современная астрономия стала более<br />
прозаичной, воспевая в именах, которые она дает созвездиям, сектант, телескоп, воздушный<br />
насос, типографию и другие важные открытия такого рода.<br />
Тот факт, что механические процессы подобно импульсу, выбросу, падению, рывку<br />
могут стать красивыми, обусловлен не только формой движения, а также природой таких<br />
объектов и мерой их скорости. К примеру, раскачивающиеся качели не могут быть ни прекрасными,<br />
ни безобразными. Но представим себе, что на качелях сидит грациозная<br />
девушка, которая тихонько раскачивается в прозрачном весеннем воздухе, и тогда это<br />
предстанет образом ясной красоты. Освещающий темноту ночи полет ракеты, воспламеняющейся<br />
в наивысшей точки и как будто сливающейся со звездным небом, прекрасен<br />
не столько механическим движением, сколько благодаря скорости и свету.<br />
Динамические процессы природы не прекрасны и не безобразны, так как в их случае<br />
форма никогда не достигает выражения. Сцепление, магнетизм, электричество, гальванизм,<br />
химизм в своем действии как таковом, просты. Но результаты их действия могут<br />
быть красивыми, как, например, яркость электрической искры, зигзагообразный луч молнии,<br />
величественный раскат грома, превращения цветов в химических процессах и т. п.<br />
Широкое поле открывается фактическими конфигурациями эластических мобильностей<br />
того или иного газа. Большая свобода движения газа порождает как прекрасные, так и безобразные<br />
формы. Изначальной формой экспансии газа является равномерно распространяющаяся<br />
во всех направлениях сфера. Но поскольку газ распространяется до бесконечности,<br />
его сферическая форма размывается из-за преграды твердых тел, или же через<br />
смешивание с другими газами, в которых он хаотически растворяется. Какую богатую<br />
и неисчерпаемую игру сумеречных конфигураций, напоминая обо всем и ни о чем, представляют<br />
нам облака! [4]<br />
Замкнутый характер образований в органической природе выражает принцип своего<br />
существования. Отсюда происходит отрыв прекрасного от случайного, с которым оно<br />
было связано в неорганической природе. Поскольку оно обладает индивидуальным бытимария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
44<br />
ем, органическое образование сразу же принимает четкий эстетический характер.<br />
Но именно это порождает в более детерминированной форме возможность безобразного.<br />
В этом смысле содержание прекрасного в природе должно следовать за превращениями<br />
природы. Мы не можем здесь специально останавливаться на этом вопросе<br />
и рекомендуем читателю наиболее удачные работы Ж.-А. Бернардена де Сен-Пьера, Г. Х.<br />
Эрстеда и Ф. Т. Фишера [5]. В природе в целом, через борьбу прямых и кривых линий, благозвучие,<br />
симметричность и гармония формы восходят от простых кристаллических фигур<br />
до царства растений, до неисчислимых конфигураций в животном мире, в котором<br />
кривая торжествует тысячами искривлений и колебаний. Это процесс, который одновременно<br />
включает в себя бесконечные метаморфозы и градации колорита.<br />
Рассматриваемые сами по себе отдельные кристаллы прекрасны. В агрегатном состоянии,<br />
смешанные с другими, они часто принимают фантастические комбинации, как хорошо<br />
видно по изумительным экземплярам, что представлены в репродукциях книги о минералах<br />
Шмидта [6].<br />
Огромные конгломераты поверхности земли принимают самые разные, часто — необъяснимые<br />
формы. Горы могут казаться красивыми, когда их контуры соответствуют чистым<br />
и слегка волнистым линиям; возвышенными, когда они поднимаются подобно стене огромных<br />
волн, с огромными, протыкающими небо вершинами; некрасивыми, когда демонстрируют<br />
глазу мерзкие трещины и хаотический беспорядок; смешными, когда провоцируют<br />
нашу фантазию причудливыми и гротескными разломами. В непосредственной же реальности,<br />
при свете дня, эти формы производят еще более странные эффекты. Прелесть Аума-ту,<br />
писка Во-хя-те гор Цзи-Цзин комплекса семи звезд Китая [7] подчеркивают собой<br />
сияние лунного света. Между химическими свойствами и формой существует и та корреляция,<br />
которую выделяет Хаусманн в классической работе, посвященной отношению<br />
структуры земли, растительного и животного миров. Охлаждение накаленной когда-то<br />
поверхности Земли, как и игра воды и воздуха, начертили огромные линии на ее облике [8].<br />
Растения прекрасны почти без исключения. Согласно одной теологии, ядовитые растения<br />
должны бы быть безобразными, но именно они демонстрируют бесконечное множество<br />
изящных форм и прелестных цветов. Их наркотические действия способны привести<br />
к смерти, но растение безразлично к такому действию. Разве оно предназначено для<br />
убийства? Наркотик способен привести к летальному исходу, но состоянием опьянения,<br />
которое оно порождает, может помочь жизни победить болезнь. Понятие яда относительно<br />
и греческая фармакология часто использует его в качестве лекарства [9].<br />
Но поскольку растение обладает жизнью, оно способно стать и болезнетворным.<br />
Жизнь с ее свободой порождения закономерно приводит к этому. В зависимости от их<br />
совместимости растения могут расти беспорядочно, заполняя пространство и утверждаясь,<br />
таким образом, деформированными способами. Они могут подвергаться насилию<br />
и агрессии извне, попадая под произвол, который их калечит и изменяет. Но они могут<br />
высыхать и деградировать, заболевая по внутренним причинам, а с болезнью может разкарл<br />
розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО [введение]<br />
45
ки, с целью изображения фантастично-комических фигур [10]. Но в случае животного остается<br />
бесспорным то, что могут возникнуть формы неразвитого уродства, которые уже<br />
не способны смягчить свой ужасный вид комической чертой. Реальное основание таких<br />
образований обусловлено естественной необходимостью приспособления животного<br />
к совершенно разным условиям, областью и формой рельефа, сопровождающие его<br />
на протяжении разных исторических периодов. Подчиняясь такой необходимости, природа<br />
вынуждена варьировать в пределах одного и того вида — например, собаки —<br />
до бесконечности. Некоторые медузы, сепии, пауки, камбалы, ящерицы, лягушки, грызуны,<br />
обезьяны положительно безобразны [11]. Некоторые из этих животных важны, или,<br />
по меньшей мере, интересны для нас подобно рыбе «торпеды». Другие впечатляют в своем<br />
уродстве величиной и силой, как гиппопотам, носорог, верблюд, слон, жираф. Изредка<br />
организация животного принимает комический вид, как в случае цапли, пингвинов,<br />
некоторых видов мышей и обезьян. Многие животные прекрасны, наподобие некоторых<br />
видов ракушек или бабочек, жуков, голубей, попугаев, лошадей. Мы отмечали, что безобразные<br />
формы возникают в переходные периоды животного мира, поскольку на уровне<br />
формы в них проявляются колебания и неустойчивость между разными типами. К примеру,<br />
многие амфибии безобразны, так как они одновременно и водные, и наземные животные.<br />
Они еще рыбы и уже не рыбы, воплощая, таким образом, двойственность, которая<br />
также выражена как внешне, так и внутренне. Чудовищные формы животных доисторических<br />
эпох возникли особенно потому, что огромные организмы вынуждены были приспособиться<br />
к внешним условиям рельефа и температуры. Рыба-ящерица и рыба-птица,<br />
огромные рептилии, способные выжить в тех огромных болотах и в атмосфере горячих<br />
и удушливых паров. Двойственный характер состояния земли того времени должен был<br />
отразиться и в двойственном характере животной формы. И сегодня там, где земля находится<br />
в состоянии процесса образования и нетронутой жизни, еще можно встретить<br />
гибридные формы существования, наподобие австралийского утконоса.<br />
Таким образом, животное по своему происхождению может быть некрасивым из-за<br />
своих непосредственных характеристик. И все же, оно может стать безобразным, даже<br />
если в первоначальной форме было красивым, так как, подобно растениям, может подвергаться<br />
деградации, внутренне или внешне обусловленной мутациею, или через<br />
болезнь. В общих случаях, уродство животного сильнее уродства растения, так как его<br />
организм более целостен и замкнут, в то время как в том, что определяет его контуры,<br />
бесконечно карабкающееся растение подвластно некоторой дозе случайного. Изменение<br />
животного порождается в-себе и для-себя. Оно может быть раненым или подвергнуться<br />
ампутации того или иного органа и в таком случае животное автоматически будет обезображено.<br />
Оно не может заменить свои органы другими, исключая излишнюю волосяную<br />
растительность, когти и других, способных вырастать вновь. Можно сорвать розу,<br />
не причиняя вред кусту и не нарушая его целостную красоту. Но нельзя отрезать крылья<br />
птице или хвост кошке, не разрушая их форму и не притупляя их удовольствие к жизни.<br />
виться обесцвечивание и деградация как явления безобразного. Во всех этих случаях естественная<br />
причина уродства очевидна. Это не некоторый сатанинский, чуждый жизни<br />
и растению принцип, а само растение, которое, будучи живым, подвергнуто болезни и,<br />
как следствие, через наросты, атрофию, измельчение и искажение, как и потери нормального<br />
цвета через появление пятен, бледности может утратить свою первоначальную форму.<br />
Чуждой растению причиной является внешнее насилие, которое может напустить<br />
на него гроза, вода, огонь, животные или человек. Это внешнее воздействие может и изуродовать,<br />
и сделать красивым. Зависит от типа воздействия. Гроза может сорвать листья<br />
с дуба, обломать ветки, превращая его, таким образом, из великого дерева в изувеченное<br />
растение. Но когда равномерно бьет по покрытым листьями ветвям, покачивая их, гроза<br />
также может подчеркнуть упругую и энергичную сторону его прекрасной кроны. Нормальные<br />
превращения в метаморфозах растения нейтральны по отношению к безобразному,<br />
поскольку, как необходимые ступени, они не содержат в себе ничего уродливого.<br />
Превращение бутона в цветок и цветка в плод сопровождается тихим и неуловимым волшебством.<br />
Когда поздней осенью бледнеет хлорофил в листьях и они раскрашиваются тысячами<br />
красных или «ржавых» тонов, этот процесс порождает множество художественных<br />
эффектов. И как же прекрасен вид созревающих золотых полей, когда они фактически<br />
сохнут!<br />
Но в животном мире возможностей для появления безобразного больше, чем в растительном,<br />
так как здесь богатство форм бесконечно, а жизнь утверждается энергичней<br />
и уверенней. Чтобы верно понять безобразное в животной форме, необходимо подчеркнуть,<br />
что природа стремится, прежде всего, защитить жизнь и ее видовые проявления, будучи<br />
в этом смысле безразличной к отдельной особи и к прекрасному. Этим объясняется<br />
то, почему природа создает действительно безобразные экземпляры, то есть животных,<br />
которые становятся безобразными не в результате мутаций, старения или заболевания,<br />
а которым безобразная форма присуща внутренне. В нашем эстетическом познании это<br />
порождает множество ошибок — когда, с одной стороны, некоторый тип будет читаться<br />
прекрасным вследствие привыкания к нему, а из-за отклонения от него будет считаться<br />
безобразным; другая ошибка происходит, когда некоторый организм обобщается в форме,<br />
в какой он предстает перед нами с той или иной гравюры или как коллекционный<br />
экземпляр. Но совершенно иначе выглядят животные в своей естественной среде — лягушка<br />
в воде, ящерица в траве или в трещине скалы, обезьяна, карабкающаяся на дерево,<br />
полярный медведь на льдине и т. п.<br />
В своей эстетической упорядоченности кристаллы могут формироваться эмпирически<br />
несовершенно, если процесс их образования нарушен, но в их природу включена красота<br />
стереометрической фигуры. Растения могут пережить мутацию или увядать и разрушаться<br />
по внутренней причине, но, согласно их природе, они прекрасны. Если в определенных<br />
формах они сразу же преодолеют эту деформацию какой-либо смешной чертой, наподобие<br />
кактусов, моркови, семейства тыквенных, этим явлением часто пользуются художнимария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
46<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО [введение]<br />
47
ция, инцест и геноцид — понятия, относящиеся исключительно к духовной сфере и страх<br />
перед беззакониями животного мира, которые как таковые не существуют, был бы проявлением<br />
сентиментализма.<br />
Когда речь идет о прекрасном и безобразном в природе, мы обычно не думаем об этих<br />
частностях, а видим красоту, которая включает в себя все формы природы как характерное<br />
единство. Пейзаж бывает монотонным, когда то или иное образование природы естественно<br />
доминирует в нем — гора, речка, лес, пустыня и т.п., контрастным, когда две<br />
формы будут противоположными; или гармоничным, когда определенное противоречие<br />
снимет себя в более высоком единстве. Благодаря смене дней и сезонов каждая из этих<br />
базовых форм может пройти через бесконечное разнообразие стадий. Эстетическое впечатление<br />
от воздействия того или иного пейзажа зависит прежде всего от освещения. Пустыня<br />
кажется возвышенной, устрашающе величественной, когда тропическое солнце<br />
раскаляет ее как Сахару; меланхолически возвышенной, когда, к примеру, луна купает<br />
в своих серебристых лучах пустыню Гоби. Но каждая из этих фундаментальных пейзажных<br />
форм способна выразить себя и прекрасно, и безобразно. Ассоциирующаяся обычно<br />
с монотонностью уродливость достигает этого качества через индифферентизм некоторого<br />
абсолютного отсутствия формы, точно также как неоживленное дыханием ветра<br />
свинцовое море гладко-недвижимо под серым небом.<br />
ДУХОВНОЕ БЕЗОБРАЗНОЕ<br />
По абсолютно априорной причине или, напротив, вследствие определенного излишества,<br />
ей несвойственного, животная форма может стать безобразной. В своей количественности<br />
и соразмерности части животного организма жестко предопределены, так как пребывают<br />
в органической взаимосвязи друг с другом. Лишний, или расположенный не в соответствующем,<br />
предположенном для этого вида месте, орган противоречит базовой<br />
структуре животного и обнаруживает это противоречие. Если, к примеру, родится овца<br />
с восемью копытцами, тогда это дублирование необходимого количества копыт является<br />
уродливым отклонением.<br />
Внутренняя определенность величины животной формы обусловливает и то, что каждый<br />
отдельный орган обладает величиной, определяющейся «балансом органов» таким<br />
образом, что вследствие увеличения или уменьшения этой меры возникает диспропорция,<br />
которая с необходимостью будет безобразной. Как правило, подобная гипертрофия или<br />
атрофия является следствием некоторых болезней, которые могут быть и наследственными,<br />
возникая из самых темных глубин жизни. Деформация может возникнуть еще в эмбрионе<br />
или во время родов. Сначала болезнь разрушает организм частично, а впоследствии<br />
— полностью, и с этим разрушением обычно связано депигментация и деформация. Чем<br />
прекраснее животные, тем безобразнее становится образ их деградированного, ослабленного,<br />
распухшего и покрытого нарывами организма. Лошадь, бесспорно, самое красивое<br />
животное, но именно поэтому она выглядит отвратительнее других во время болезни,<br />
старения, с выпавшими глазами, с висячим животом, с выпяченными ребрами, с отдельными<br />
плешинами.<br />
Из вышесказанного следует, что безобразность животной формы, встречаем ли ее<br />
в первичном выражении или в результате случая и болезни, вполне объяснима, и мы<br />
не должны исходить из допущения ее неестественной причины, как это делает Карл Дауб<br />
в работе об Иуде Искариоте [12]. Необходимость соединения природой различных контрастов<br />
в одном организме — помещения млекопитающих типа китов и дельфинов в воде<br />
или мышей в воздухе, вооружения ящериц и амфибий равной способностью жить в воде<br />
и на земле — так же понятна, как и необходимость случайного, которое увеличивает животное<br />
извне или же деформирует его изнутри через болезнь. Почти не требует доказательств,<br />
что свирепость плотоядных и яд некоторых животных, в том числе и распыляющиеся<br />
ими в качестве самозащиты дурно пахнущие выделения, так же мало относятся<br />
к прекрасному или безобразному, как и яд некоторых растений с их формой. Если бы<br />
сверхъестественное объяснение происхождения безобразного как зла, коверкающего<br />
природу, было бы верным, хищные животные и ядовитые змеи в таком случае в принципе<br />
должны были бы быть безобразными, что не всегда верно, поскольку ядовитые змеи или<br />
семейство кошачьих характеризуется, как правило, красотой и даже величавостью. Неестественное<br />
в природе бессмысленно, так как, не обладая свободой, самосознанием и волей,<br />
оно не способно на преднамеренное нарушение закономерности. Для животных<br />
не существует законов самооценки и пиетета, а значит и возможность вины. Мастурбамария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
48<br />
Переходя от природы к духу, следует сразу же отметить, что абсолютной целью духа<br />
является истина и добро, которым он подчиняет прекрасное, точно также как органическая<br />
природа подчиняет их своей абсолютной цели — жизни. Христа как идеала свободы<br />
мы не представляем себе ни безобразным, ни прекрасным в смысле греческого идеала<br />
красоты. То, что мы называем духовной красотой, в действительности представляет собой<br />
сущность добра и чистоты помыслов. Такая красота может пребывать в невзрачном,<br />
и даже некрасивом теле. В своей удивительной устойчивости воля в-себе и для-себя<br />
не входит в пределы эстетического. Нравственная уверенность в непреложности своего<br />
содержания беспокоится в первую очередь не о форме своего проявления. Искренность<br />
доброжелательного человека заставляет забывать о его неотшлифованных манерах,<br />
бедности костюма, ошибках речи. Но вполне естественно, чтобы истина и доброта его характера<br />
порождали умение держать себя, которое излучается во внешнем чувственном<br />
проявлении и в этом смысле остается применимым утверждение К. Г. Лихтенберга, что<br />
каждая добродетель украшает и любой порок уродует.<br />
Это верное само по себе утверждение можно сформулировать и в более общей форме,<br />
если иметь в виду, что любое чувство и познание свободы украшает, и любое отсутствие<br />
свободы уродует. В данном случае понятие свободы применяется только в смысле неограниченного<br />
в себе, абстрагируемого от истины собственного содержания самоопределекарл<br />
розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО [введение]<br />
49
ния. Живой организм обречен на безразличие к самому себе, на то, чтобы быть только<br />
средством духа, позволяя последнему пройти через себя. Можно проверить истинность<br />
этой точки зрения на примере различных рас и социальных прослоек. Одновременно<br />
с ростом свободы увеличивается и красота ее конкретных явлений. Обладая большим количеством<br />
свободного времени, заполняя его игрой, любовью, поэзией, упражнениями<br />
с ружьем дети аристократии становятся прекраснее, поскольку эмансипировались<br />
от привязанности к природе, чувствуя себя свободнее. Тихоокеанские островитяне были<br />
прекрасными до тех пор, пока переживали радости любви, танца, борьбы и морских купаний.<br />
Дахоемские и бенинские чернокожие прекрасны, ибо сочетают в себе боевой дух<br />
и рвение к полезной деятельности с чувственными удовольствиями. Поэтому они даже заинтересованы<br />
в красоте. Их вождь имеет персональную охрану, состоящую их многих<br />
тысяч амазонок, очень красивых и храбрых девушек. Кто получает от вождя подарок,<br />
благодарит за него танцем перед всеми, то есть эстетическим действием.<br />
Отдельный человек, который в некоторых моральных аспектах предстает злым, может<br />
все же быть красивым в той степени, в какой, наряду со свойственными ему недостатками,<br />
может обладать достоинствами и даже чувствительностью. В частности, он может обладать<br />
формальной свободой, интеллигентностью, предусмотрительностью, трезвым<br />
умом, самообладанием, терпением — тем, что помогает злым людям отличаться своеобразной<br />
живостью и внешним благородством. В этой области происходят удивительные<br />
вещи. Нинон Ланкло была, конечно, красивой и не менее тонкой, но таковой она была<br />
благодаря свободе от условностей. Она дарила свое искусство свободно и для собственного<br />
удовольствия, но не продавала его.<br />
Поскольку тело относительно и может претендовать только на символическую ценность,<br />
вполне объяснимо, как возможно, что отдельный человек, будучи даже физическим<br />
уродом, инвалидом, с неправильными чертами, со следами оспы на лице, может<br />
не только заставить забыть об этом, но и способен одухотворить эти несчастные формы<br />
с таким выражением, очарование которого бесконечно притягивает к себе. Так уродливый<br />
Мирабо умел вызывать страсть у самых красивых женщин с того момента, как они<br />
позволяли ему заговорить с ними, а Ричард III, благодаря такому духовному превосходству,<br />
оказался способным превратить проклятия вдовы Генриха VI в любовные признания.<br />
Точно также в платоновском диалоге Алкивиад говорит, что Сократ некрасив, когда<br />
молчит, но прекрасен, когда говорит.<br />
То, что зло как духовное уродство становится привычным и искажает облик человека,<br />
подтверждается самой его сутью, поскольку оно представляет собой отсутствие свободы,<br />
вытекающее из ее произвольного отрицания. Поведение и вид счастливых, пребывающих<br />
в естественном состоянии обществ могже быть прекрасным потому, что они еще обладают<br />
естественной свободой. Заключаясь в том, что, хотя мы и понимаем зло, все же можем<br />
его желать, отсутствие свободы выражает самое глубокое противоречие со своей сущностью<br />
и это противоречие не может не просочиться вовне.<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
50<br />
Индивидуальные недостатки и пороки приобретают четкое выражение в облике:<br />
зависть, ненависть, ложь, жадность, скупость, распущенность накладывают свой особенный<br />
отпечаток на индивидуальные черты. Можно заметить беглый, скрытный взгляд воровок,<br />
движение которого французы называют латинским термином fur fureter и который<br />
в своем непрерывном выслеживании содержит в себе нечто ужасающее. Попадая в камеры<br />
больших тюрем, где переговариваются между собой от 60 до 100 воровок, можно увидеть<br />
этот специфический взгляд подсматривающего и хитрого, похожего на оптический прибор<br />
глаза. Разумеется, безобразное становится более выраженным, когда зло желанно в-себе<br />
и для-себя. Но, как ни парадоксально это звучит, тем, что в этом случае зло утверждается<br />
как систематическая тотальность, снова достигается определенная гармония воли и посредством<br />
нее — облика, что приводит к эстетическому подчеркиванию черт лица. Персонифицированный<br />
порок может быть более неприятным и кричащим, чем зло как таковое,<br />
которое в своей отрицательности снова становится целостным. В своей односторонности<br />
большой порок бросается в глаза; через свою интенсивность, глубину, а, точнее, отсутствие<br />
глубины абсолютного зла, он накладывает отпечаток на поведение и облик индивида и может<br />
существовать, не предоставляя работу судебным органам. Рабы вожделений, будучи<br />
богатыми и обладая широкой культурой, развлекаясь самыми тонкими изощрениями собственного<br />
эгоизма, пребывающие в состоянии постоянного кокетства, измученные собственной<br />
пресыщенностью салонные люди часто опускаются до самой низкой ступени зла.<br />
По сравнению с природой, духовное может интенсифицировать зло, потому что если<br />
в некоторых животных природа производит безобразное более прямо и положительно,<br />
человек искажает и деформирует естественную, данную ему изнутри красоту, что представляет<br />
собой самоотрицание свободы, на которое животное не способно.<br />
Таким образом, происхождение зла и его уродливых отражений во внешнем облике человека<br />
является истинной данностью его свободы, а не внешней трансцендентностью. Зло<br />
— это поступок человека, поэтому он носит ответственность за его последствия. И поскольку<br />
человек существенным образом относится к природе, из этого следует, что все определения<br />
безобразного, которые мы смогли бы отождествить с органической и особенной<br />
животной природой, возможны и в его случае. Безусловно, в соответствии со своей сущностью,<br />
человек должен обладать красивым обликом, но эмпирическая реальность, включая<br />
факторы случайности и произвола, предоставляет и безобразные формирования, причем<br />
не только в единичных случаях, но и в качестве широкого распространения наследственных<br />
признаков. И все же такие формы не представляют собой общие виды в том смысле, в котором<br />
бывают уродливые от рождения животные, прототип которых уже содержит в себе<br />
уродство, противоречивость и деформацию. В аспекте идеи человека они представляют собой<br />
несчастные случаи, эмпирическая необходимость которых, характеризуясь единичным<br />
или частным характером, относительна. Единичный характер проявляется, когда человеческий<br />
организм деформирован внутренней болезнью, например, золотухой, свинкой, горбатостью,<br />
переломом и тому подобным; частично, когда деформация порождена необходимокарл<br />
розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО [введение]<br />
51
стью приспособления организма к определенной среде. В случае такого приспособления<br />
к определенному рельефу человек должен пройти через те же процессы, что и животное.<br />
Теллурическое разнообразие земной коры выражается в разнообразии структурного типа<br />
и внешнего облика тем больше, чем больше они обусловливают разнообразие типов жизни.<br />
Жители гор и степей, охотник и рыбак, пастух и крестьянин, те, кто живут у полюсов и в<br />
тропиках, с необходимостью приобретают иной антропологический тип. Даже идиотизм<br />
может быть приписан этим условиям, так как в некоторых местах он непосредственно связан<br />
с перенасыщающими горные воды растворами известняка. Идиот же безобразнее чернокожего,<br />
поскольку к искаженности его облика прибавляется еще интеллектуальная бессмысленность<br />
и духовная немощь. Его лишенные выражения глаза, узкий лоб, отвисшая<br />
нижняя губа, жадность и сексуальная грубость, безразличие к реальности, помещают его<br />
на более низкой ступени по отношению к чернокожему и уподобляют обезьяне, которая<br />
с эстетической точки зрения обладает перед ним преимуществом не быть человеком.<br />
Следовательно, уродство не имманентно сущности человека. Понимание человека как<br />
мыслящего и свободного существа предполагает выражение этих свойств в симметрии его<br />
форм, в различии рук и ног, а также правильной осанке. Если, подобно бушмену или<br />
идиоту, человек некрасив от природы, то в такой деформации отражается отсутствие местной<br />
свободы, как и свободы относительно-наследственной. Болезнь производит уродство<br />
во всех случаях, когда деформирует скелет, кости и мускулы, к примеру, в случаях<br />
сифилиса или гангренозных поражений, как и тогда, когда пигментирует кожу, как при<br />
гепатите, или когда покрывает ее наростами, как при скарлатине, чуме, лишае, различных<br />
форм сифилиса или капиллярного грибка и т. п. Самые отвратительные деформации порождает<br />
сифилис, поскольку он сопровождается не только омерзительными язвами,<br />
но и разложением костей. Сыпь и гнойники похожи на чесоточного клеща, который роет<br />
себе проходы под кожей; их существование как паразитарных организмов противоположно<br />
сущности живого организма как целостности. Такие формы противоречия предельно<br />
безобразны. Болезнь порождает уродство особенно тогда, когда деформирует<br />
внешний вид человека, как в случае шизофрении. Но она перестает быть источником<br />
уродства когда, как в случае кахексии, туберкулеза и лихорадки придает организму<br />
трансцендентное выражение, вследствие чего человек выглядит неземным существом.<br />
Беспомощность, горящий взгляд, бледное или разрумяненное от температуры лицо<br />
способно более непосредственно выразить сущность духа. Душа предстает отделенною<br />
от тела. Она еще пронизывает его, но лишь как условный, чистый знак. В признаках оздоровления<br />
тело уже ничего для себя не означает, представляя собой лишь целостное выражение<br />
покидающего его духа, приобретая заново свою независимость от природы. Кто<br />
не видел пораженную туберкулезом юную девушку или юношу на одре смерти, которые<br />
выглядели при этом преображенными? У животного такое состояние невозможно.<br />
Из этого следует и то, что смерть не обязательно должна искажать лицо — она способна<br />
наложить на него и отпечаток прекрасного, ясного выражения.<br />
Таким образом, если при определенных условиях болезнь способна сделать человека<br />
даже красивым, ее преодоление тем более может стать предпосылкой прекрасного. Постепенное<br />
возвращение здоровья придает взгляду непринужденное выражение, а щекам<br />
легкий румянец. Напряжение сосудов и мышц, как и игра жизненных сил, заявляет о себе<br />
в стремлении к наслаждениям, излучая особенно выраженную красоту и придавая телу<br />
то невыразимое очарование, в котором волшебство омоложения еще содержит в себе<br />
противоречие хрупкости, а жизнь предстает в противоречивости смерти. Выздоравливающий<br />
представляет собой зрелище для Богов.<br />
Мы не можем пока что подвергнуть анализу душу больного, потому как она может выражаться<br />
и отличным от простого заболевания способом. А именно, когда заболевающая<br />
в-себе душа обусловливает отражение в-себе и того противоречия, в котором она пребывает<br />
в-себе как дух. Или, точнее говоря, психическое заболевание имеет то же значение,<br />
что и зло — безобразное в духе как таковое. А это уродство внутреннего проявляется во<br />
внешнем. Кретинизм, сумасшествие, бред, психопатическая ярость уродуют человека.<br />
К этому же относится и пьянство как искусственно спровоцированное самоотчуждение<br />
духа. Ясность, с которой дух во всех своих возможностях концентрирует все условия, все<br />
свои формы и познает себя как индивида, как рационального существа вообще, придают<br />
действительное существование и таким существованием — подлинное господство над телом.<br />
В случае психических расстройств человек как идиот утрачивает универсальность<br />
самосознания или опредмечивает в качестве внешнего предела как сумасшедший. Как шизофреник,<br />
индивид чувствует себя изнутри разорванным силой определенного противоречия<br />
и спасает себя из напряженности этой борьбы только при помощи фикции, считая<br />
себя другим, или же прибегая к насилию. Во всех этих случаях больной приписывает как<br />
реальному миру, так и воображаемому мнимые значения. Идиот все больше опускается<br />
до уровня животного, а в случае сумасшедшего на печальном, с отпечатком отвращения<br />
лице появляется странный, отстраненный от реальности предметов и присутствующих<br />
людей взгляд, с отвратительной суетливостью или же неподвижностью фиксирующийся<br />
на чем-то неопределенном. И даже в случае шизофреников, которые страдают от глубочайшего<br />
раздвоения сознания, по торжественности, с которой они иногда представляют<br />
себя, и по пустому и лишенному предметности пафосу их характера, можно заметить<br />
знак разрыва духа от самого себя.<br />
БЕЗОБРАЗНОЕ В ИСКУССТВЕ<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
52<br />
Как стало видно, царство безобразного так же огромно, как и область чувственных<br />
феноменов вообще, поскольку зло и роковое самоотчуждение духа становятся эстетическими<br />
объектами только посредством внешнего самовыражения. Поскольку безобразное<br />
бывает только относительно прекрасного, оно может проявить себя отрицанием любой<br />
формы красоты как в силу природной необходимости, так и в силу свободы духа: прирокарл<br />
розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО [введение]<br />
53
да смешивает прекрасное и безобразное случайно. В эмпирической реальности духа происходит<br />
то же. Поэтому, для того, чтобы наслаждаться прекрасным в-себе и для-себя,<br />
дух должен его порождать и совершенствовать в форме особого мира, который существует<br />
только для себя. Так рождается искусство. В видимости оно тоже связано с потребностями<br />
человека, но единственной его мотивацией является все же жажда духа к чистой,<br />
незамутненной красоте.<br />
Таким образом, если порождение прекрасного является долгом искусства, не должно ли<br />
показаться самым большим противоречием то, что искусство производит и безобразное?<br />
И если захотим обосновать такую ситуацию, утверждая, что искусство и в самом деле<br />
производит безобразное, но как форму прекрасного, то, очевидно, к вышеназванному<br />
противоречию можно добавить второе и, как кажется, более глубокое, иначе как возможно<br />
превращение безобразного в прекрасное?<br />
Эти вопросы открывают новые сложности. Поскольку последние возникают естественно,<br />
мы обычно пытаемся их обойти, прибегая к тривиальному тезису о том, что прекрасное<br />
нуждается в безобразном или, по меньшей мере, пользуется им для того, чтобы<br />
выразить себя вообще, с еще большей силой, точно также как и порок выражает себя в качестве<br />
условия добродетели. В мрачной бездне безобразного ясный облик прекрасного<br />
выделился бы еще ярче.<br />
Но можем ли мы успокоиться таким объяснением? Его истина, а именно то, что в противостоянии<br />
уродству, прекрасное должно еще сильнее восприниматься как прекрасное,<br />
относительна. Если бы оно обладало абсолютным характером, в таком случае любая форма<br />
прекрасного должна была бы сопровождаться безобразным. В таком случае, красота<br />
Ахилла должна выделяться на фоне Терсея. Но такое утверждение неверно. Как чувственное<br />
выражение идеи прекрасное абсолютно в самом себе и не нуждается во внешнем<br />
основании, в самозащите через противоположность самому себе. Оно становится прекрасным<br />
не посредством безобразного. Наличие безобразного в преддверии прекрасного<br />
не может усилить прекрасное как таковое, а может усилить только волшебство наслаждения<br />
им, — благодаря тому, что на фоне безобразного мы еще сильней переживаем<br />
превосходство прекрасного. Подобно тому, как, например, изобразив Данаю с расслабленным,<br />
окутанным облаком желания телом, готовому отдаться объятию золотого дождя,<br />
многие художники посчитали возможным написать в глубине или в одном из углов<br />
картины сморщенную, с острым подбородком старуху.<br />
Но прекрасное и возвышенное как таковые заставляют нас еще больше желать их безусловного<br />
и исключительного присутствия. Прекрасное самодостаточно настолько, что<br />
не только не нуждается в безобразном как сравнительного понятия — напротив, наличие<br />
последнего возмутительно. Абсолютная красота обладает успокоительным свойством<br />
и заставляет на время забыть об остальном. Зачем отклоняться от его счастливой полноты<br />
к другому? Зачем отравлять себе наслаждение его созерцания, рефлексируя над его<br />
противоположностью? Разве наряду со статуей Божества в церкви есть место и для стамария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
54<br />
туи коварного демона? Желает ли верующий пасть ниц еще перед чем-нибудь, кроме изображения<br />
Зевса?<br />
Следовательно, необходимо отказаться от неограниченного применения тезиса, что безобразное<br />
присутствует в искусстве ради прекрасного. Мы очень смутились бы, встретив<br />
его в архитектуре, скульптуре, музыке и поэзии. Контраст, в котором искусство часто<br />
нуждается, не должен достигаться через противостояние безобразному. Прекрасное всесторонне<br />
и поэтому в состоянии контрастировать своим собственным формам, как, к примеру,<br />
в случае Ифигении Гёте, где представлено множество прекрасных характеров; или<br />
в случае «Сикстинской мадонны» Рафаэля, где видим только величие, изящество, нежность,<br />
достоинство и никаких проявлений безобразного, без контраста которого творение<br />
обошлось, вызывая бесконечный восторг к абсолютному как чудесному совершенству.<br />
Телеологическое понимание безобразного не опирается на фундаментальные основания.<br />
Мы убедились, что относительно природы телеологическая точка зрения занята<br />
в первую очередь жизнью и только после этого — красотой. Дух также ставит истину<br />
и добро впереди эстетических требований. Прекрасно, когда истина и добро проявляются<br />
красивыми, но это не необходимо. И это не должно пониматься так, что если истина<br />
и добро не воплощают идеальную красоту, то они безобразны. Самозарождающееся<br />
безобразное не имеет в природе или духе иной цели, кроме самого себя. Природа не предостерегает<br />
нас о металлических, растительных и животных ядах посредством определенных<br />
форм и устрашающих цветов. А самый уважаемый человек может иметь несчастье<br />
быть горбатым, наподобие Эдипу, или иметь покалеченную ногу, как Байрон.<br />
Как же искусство, целью которого может быть только прекрасное, производит безобразное?<br />
Причина, очевидно, глубже уровня рефлексии внешних отношений. Она вытекает<br />
из сущности самой идеи. Конечно, искусство нуждается в чувственном моменте (и в<br />
этом заключается его ограничение относительно истины и добра), но в чувственном моменте<br />
оно стремится и должно выражать явление идеи в ее тотальности. От сущности<br />
идеи зависит отдать свои чувственные проявления во власти полной свободы, превращаясь,<br />
таким образом, в возможность отрицательного. Все формы, которые могут возникнуть<br />
из случайности и произвола, реализуют фактически эту свою возможность, но идея<br />
подтверждает свой удивительный характер особенно той мощью, которой, в суете перекрещивающихся<br />
феноменов, в борьбе между случайным и случайным, инстинктом и инстинктом,<br />
произволом и произволом, страстью и страстью, способна все удержать<br />
единство своей закономерности в многообразии этих проявлений. И если искусство<br />
не хочет выразить эту идею односторонне, тогда оно не может обойти безобразное. В любом<br />
случае чистые идеалы представляют самый важный — положительный момент<br />
прекрасного. А если природа и дух будут представлены согласно их целостной драматической<br />
глубины, тогда природное безобразное, зло и демоническое не должны отсутствовать.<br />
Несмотря на то, что они жили в идеале, греки все же имели циклопов, сатириков,<br />
гарпий, вещунов, химеры, у них был хромой Зевс, они воплощали в своих трагедиях ужаскарл<br />
розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО [введение]<br />
55
ные преступления (Эдиподия и Орестия), сумасшествие (Аякс), отвратительные болезни<br />
(гангрена ноги Филоктета) и, более того, в их комедиях встречаются пороки и гнусности<br />
различного порядка. Но зло полностью включено в сферу искусства начиная с христианства,<br />
которое стремится познать основы его природы, чтобы уничтожить его на корню.<br />
По этой причине, для того, чтобы представить данное явление идеи в его тотальности,<br />
искусство не может обойти измышления зла. Желание свести идею к простому прекрасному<br />
было бы неверным пониманием идеи. Из этого же отнюдь не следует, что с эстетической<br />
точки зрения безобразное равнозначно прекрасному. Производное происхождение<br />
безобразного порождает и здесь особенность. А именно — поскольку прекрасное находит<br />
свое основание в самом себе, оно может воплощаться искусством без посторонней<br />
причины, в то время как безобразное не обладает эстетической независимостью. Очевидно,<br />
эмпирическое безобразное может возникнуть и само по себе. Но с эстетической точки<br />
зрения абстрактное утверждение безобразного недопустимо, так как эстетически оно<br />
должно постоянно отражаться в прекрасном, в котором находит предпосылки собственного<br />
существования. Таким образом, можно сказать, что, поскольку безобразное не имеет<br />
основание в самом себе, оно получает необходимое объяснение в прекрасном. Можно<br />
стерпеть изображение уродливой старухи рядом с Данаей, но художник изобразил бы ее<br />
отдельно в крайнем случае и в специальном произведении, когда эстетический элемент<br />
был бы представлен ситуацией, или же в качестве портрета, подчиненного категории<br />
исторической правды. Конечно, зависимость безобразного от прекрасного не должна пониматься<br />
так, что безобразное может превратить прекрасное в идеальное средство для<br />
самого себя. Это было бы абсурдным. Безобразное может возникать рядом с прекрасным<br />
случайно и, в то же время, в подчиненной прекрасному форме Безобразное может выявить<br />
опасность, которой постоянно подвержено прекрасное в свободе своего движения,<br />
но оно не может стать прямым и исключительным предметом искусства. Только религии<br />
могут изображать безобразное как самоценный предмет в виде омерзительных идолов<br />
национальных религий и христианских сект.<br />
В системе философского объяснения мира безобразное, как болезнь и зло, не отражает<br />
ничего, кроме исчезающего момента и, в некоторой степени, включенное в этот широкий<br />
контекст, не только становится терпимым, но может стать и интересным. Вырванное<br />
же из этого контекста, оно становится эстетически невыносимым. Если в центре «Страшного<br />
суда» Ван Дейка представлены, с одной стороны, жуткие сцены ада, отчаяние осужденных<br />
и издевательства истязающего их дьявола, то очевидно, что художник выразил<br />
это смешение омерзительных гримас только в соотношении с противоположной стороной,<br />
на которой изображено вхождение благословенных в светлые сады Рая. А эти персонажи<br />
изображены в соотношении с центральной картиной самого суда, посредством<br />
симметрических групп и прекрасных хроматических ступеней которых делает их понятными.<br />
Но Ван Дейк не стал писать только ад, или же одного дьявола. В дидактических целях<br />
мы также изолируем безобразное, но художник, который предельно четко изобразил<br />
бы безобразное, никогда не станет утверждать, что он создал произведение искусства.<br />
Изображение Христа установил бы у себя в доме каждый. Но никто не поступил бы так<br />
с маской Мефистофеля. Такая индивидуализация предоставила бы безобразному независимость,<br />
которая противоречит его природе. Подобно тому, как прекрасное может<br />
изолироваться в искусстве вплоть до чистой духовности, точно также все поэтические выражения,<br />
которые преднамеренно были избраны для сотворения безобразного объекта,<br />
несмотря на усилия мысли, популярности не достигли. Этим нельзя наслаждаться.<br />
У французов есть дидактические поэмы на порнографические темы и даже посвященные<br />
сифилису; у голландцев о вздутии и т.д.; но даже хранители таких стихов стыдятся, если<br />
у них их кто-то увидит. Принц де Поллагония, о котором рассказывает Гёте [13], захотел<br />
изобразить безобразное в определенной систематической полноте посредством вида искусства,<br />
которое противится его воплощению самым решительным образом, а именно<br />
через скульптуру и, несмотря на приложенные усилия, не смог ничего создать, кроме трагикомической,<br />
конфузной достопримечательности. Искусство допускает существование<br />
безобразного лишь комбинируя его с прекрасным. Но в этой корреляции безобразное<br />
способно породить сильное воздействие. Искусство нуждается в нем не только для полного<br />
охвата реальности, но и особенно для того, чтобы направить то или иное действие к<br />
трагическому или комичному.<br />
Следовательно, если искусство изображает безобразное, было бы противоестественным,<br />
чтобы оно его приукрашивало, так как в этом случае безобразное уже не будет безобразным,<br />
не говоря уже о том, что приукрашивание безобразного только усилит его<br />
в качестве софистической выдумки эстетической лжи, которая интенсифицирует внутренние<br />
противоречия. Попытка более красивого воплощения безобразного, то есть, отрицание<br />
прекрасного через воспроизведение положительного, была бы противоестественной<br />
его природе и в итоге привела бы ни к чему иному, как к карикатуре безобразного,<br />
к противоречию противоречия. Так казалось бы, но все же верно, что искусство должно<br />
идеализировать безобразное, то есть, интерпретировать его в соответствии с общими законами<br />
прекрасного, которое безобразное нарушает своим существованием. Не в том<br />
смысле, что искусство должно скрыть, вырядить или фальсифицировать безобразное, облагораживая<br />
его чужими достоинствами, а в том, чтобы придавать ему форму, согласно<br />
полноте истины по мере ее эстетического выявления. Это необходимо, ибо так искусство<br />
поступает так со всей реальностью. Искусство отражает истинную, а не общую эмпирическую<br />
природу. Это природа, какою она должна быть, если бы собственная конечность<br />
позволила бы ей такое совершенство. Таким же образом представленная искусством<br />
история является объективной, но все же не обще-эмпирической. Это история, соответствующая<br />
своей сущности и идеальной истинности своей идеи. В повседневной реальности<br />
всегда присутствует самые возмутительные и отталкивающие формы безобразного,<br />
а искусство не имеет права воспроизводить их напрямую. Оно должно отобразить безобразное<br />
во всей остроте его уродливости, но должно это делать с тою же идеальностью,<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
56<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО [введение]<br />
57
при помощи которой трактует прекрасное. Оно опускает из содержания прекрасного все,<br />
что зиждется лишь на случайность собственного существования. Оно подчеркивает наиболее<br />
значительное в определении феномена и вычеркивает из него несущественные черты.<br />
Таким же образом искусство должно поступать и в случае безобразного, подчеркивая<br />
те формы и условия, которые заставляют его быть безобразным, и упуская лишь то, что,<br />
ослабляя и деформируя характерные ему черты, только случайно относится к его существованию.<br />
Это очищение безобразного от случайного, конфузного, непостоянного и нехарактерного<br />
является идеализирующим действием, и оно заключается не в том, чтобы<br />
прибавить красоты чуждому ей уродству, а в подчеркивании черт, определяющие безобразное<br />
как противоположное прекрасному, и в котором выражена, скажем так, его оригинальность<br />
как форма эстетического противоречия. Греки, во всяком случае, достигли<br />
в этой идеализации уровня, в котором аннулировали безобразное, превратив его, как<br />
в случае Энеид и Медузы [14], в положительность прекрасного. Но опирающееся на интерпретации<br />
отдельных скульптур широко распространенное мнение о том, будто бы греки<br />
искали идеальную красоту, предпочитая спокойную ясность и считая безобразными<br />
суету и безудержность выражения, слишком ограничено. Осмысление поэзии таких<br />
скульптур вынуждает отказываться от этого предрассудка. В своей прекрасной работе<br />
о статуе Аполлона в Ватикане Ансельм Фейербах показывает, что греков не пугало<br />
ни ужасное, ни его драматическая жизнеспособность [15]; это подтверждается и в живописи,<br />
причем не только после внимательного изучения фресок из Геркуланума и Помпей,<br />
а и картин Полигнота из дельфийских и афинских лесх 1 , как посчитал нужным отметить<br />
в комментариях Гёте, который был поклонником ясной, спокойной и уравновешенной<br />
жизни [16]. Таким образом, безобразное должно быть очищено искусством от всех<br />
гетерогенных излишеств и случайных пертурбаций и переподчинено общим законам прекрасного.<br />
Именно поэтому его самостоятельное изображение исказило бы основания<br />
искусства, поскольку в таком случае безобразное предстало бы самоцельным. Искусство<br />
должно позволить видеть его второстепенную природу и напоминать о том, что в своем<br />
происхождении безобразное существует не через самое себя, а только относительно<br />
и посредством прекрасного. Если же изображается в своей акцидентальности, то оно<br />
должно пониматься как структурный момент некоторой гармонической тотальности.<br />
Безобразное не должно быть обязательным, но должно предстать необходимым. Подчиняясь<br />
тотальности законов симметрии и гармонии, которых безобразное ущемляет в собственной<br />
структуре, оно соответствующим образом должно группироваться, но не выходить<br />
за пределы меры, которая соответствует ему в некотором контексте, и получить силу<br />
индивидуального выражения, которая бы не скрывала его значение.<br />
Говоря, к примеру, о пластических искусствах, образ человека, который справляет<br />
1 Лесха — в античной Греции место собраний для обсуждения общественных <strong>проблем</strong>. В Беотии лесхами назывались<br />
дома для общественных обедов; лесха книдян в Дельфах была украшена картинами Полигнота.<br />
1 Калибан — один из главных персонажей трагикомедии Шекспира «Буря». Антагонист мудреца Просперо,<br />
восстающий против хозяина слуга, грубый, злой, невежественный дикарь («уродливый невольник-дикарь»).<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
58<br />
нужду или которого тошнит, конечно же, отвратителен. И все же существуют художники,<br />
которые не побоялись показать такие сцены, сопровождающие большие застолья.<br />
Ведь люди не знают меры в удовольствиях. Для полноты изображения художник не захотел<br />
обойти это явление и подчеркнул его эстетически способом изображения. Как известно,<br />
так описал свадьбу в Каннах Паоло Веронезе. На первом плане он изобразил ребенка,<br />
который с детской непосредственностью мочится. Ребенок в этой ситуации вполне<br />
терпим, особенно когда, улыбаясь, поднимает рубашку, обнажая нежные ножки и ягодицы.<br />
Но на заднем плане изображен переевший и перепивший взрослый, которого стошнило<br />
прямо за столом, в который он упирается отягченной вином головой.<br />
С точки зрения музыки, диссонансом выступает отрицание музыки. Музыкант может<br />
допустить диссонанс лишь в том случае, если его появление подготовлено, является необходимым,<br />
где посредством предыдущего аннулирования укрепляется триумф высшей<br />
гармонии.<br />
Изображая Калибана 1 , поэт помещает его на остров посреди океана, принадлежащий<br />
колдуну, так что появление последнего не носит диковинного характера. Он первый житель<br />
острова, которого присвоил себе пришелец — это судьба всех, не вышедших<br />
из первобытного состояния народов, когда они вступают в контакт с цивилизованными<br />
народами. По этой причине, Калибану, в отличие от Просперо, принадлежит первичное<br />
право обладания островом и он знает об этом. В силу этого, он не только монстр, но и выражение<br />
некоторой универсальной исторической идеи. Более того, в качестве вселенской<br />
компенсации Шекспир ввел Ариеля, подчеркнув этим, с одной стороны, неловкость и животный<br />
характер прирученного монстра, а с другой — через контраст воздушной легкости<br />
грубой массивности — предоставил нам возможность чувствовать свое превосходство.<br />
Особенная <strong>проблем</strong>а здесь могла бы быть поднята архитектурой при помощи своих<br />
руин. Распад некоторого здания мог бы обещать уродство, но частично это будет зависеть<br />
от характера здания и его разрушения. К примеру, в руинах красивого здания сохранится<br />
что-то от величия плана, смелости пропорций, богатства его строения и наше воображение<br />
непроизвольно попытается воспроизводить его целостность. Но уродливое здание<br />
может выиграть от разрушения — его фундамент может распадаться в фантастическом<br />
беспорядке, не говоря о том, что разрушение безобразного доставляет эстетическое удовольствие.<br />
Это зависит и от того, каким образом образовалась руина, как разбросаны ее<br />
обломки и какие остатки сохранились. Маленькая куча камней, несколько голых стен еще<br />
не представляют собой художественный образ. Обломки сарая или подвала не будут интересными<br />
даже в лунном свете. Но дворец, монастырь или крепость покажутся романтическими.<br />
И, наконец, то, что руина может показаться красивой, обусловливается не только<br />
первичными пропорциями здания, но и тем, каким образом она сливается с окружаюкарл<br />
розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО [введение]<br />
59
щей природой, становясь ее фрагментом. Поскольку крыша отсутствует, двери и окна<br />
зияют, и любая внутренняя изолированность исчезает, сфагнум зеленеет на камнях, растения<br />
пускают корни в трещинах, птицы строят гнезда, где хотят, и лисица проникает<br />
в разбитое окно, здание уподобляется творению природы, на базальтовое образование<br />
которой оно становится похожим.<br />
БЕЗОБРАЗНОЕ В КОНТЕКСТЕ<br />
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ИСКУССТВА<br />
Все виды искусства обладают равной возможностью впасть в безобразное. Каждый<br />
из них способен воспроизводить безобразное до степени невыносимого. Так рождается<br />
качественное многообразие этой универсальной возможности в соответствии с особенностью<br />
каждого вида искусства. Содержание, пространство охвата и модальность каждого<br />
из них отличаются в зависимости от собственной особенности. Виды искусства могут<br />
быть поняты как пути эстетического освобождения духа, которое достигает свою полноту<br />
только в поэзии. Прослеживание многообразия субстанции, через которое реализуется<br />
прекрасное, обнаруживает особенные ступени этого освобождения. В субстанции,<br />
в пространстве, то есть, в пластических видах искусства, дух еще овнешнен по отношению<br />
к самому себе. Посредством звука, времени, чувства — то есть, через музыку, дух интериоризуется.<br />
Посредством слова, сознания и идеи в искусстве поэзии, дух достигает полноту<br />
своих внутренних определений и полноту идеальности формы. В этой постепенной<br />
эволюции, вместе с акцентуированием степени свободы, с растущей дематериализацией<br />
и уменьшением влияния внешнего выражения увеличиваются и шансы безобразного.<br />
Конечно же, в архитектурном отношении можно строить очень плохо, как это видно<br />
не только по бесчисленным зданиям, предназначенным ограниченным потребностям,<br />
но и по многим общественным зданиям, которые должны представлять собой архитектурные<br />
произведения. Но в этой сфере строительства появление ошибок усложнено.<br />
Когда Гёте утверждал, что нельзя строить неправильно, поскольку через величину и длительность<br />
этих ошибок оскорбляется эстетическое чувство, он намекал на то, что архитектурные<br />
произведения слишком важны, чтобы к их созиданию относиться легкомысленно.<br />
Благодаря особенности материала, использованию больших масс, строительство<br />
предполагает постоянное обдумывание. По меньшей мере, оно должно внушать уверенность<br />
и хотя бы в определенной мере соответствовать своей цели. Принимая во внимание<br />
эти два условия утилитарного, всегда достигается определенная мера благозвучия архитектурного<br />
произведения. Некоторые здания тем прекрасней, чем яснее представляют<br />
взору спокойную мощность своих пропорций, и чем прозрачнее их структура символически<br />
указывает на цель, которой оно служит. Некоторые дома, особенно первой половины<br />
ХVIII века, выглядят так, как будто сначала строились стены, потом по необходимости<br />
крыша и только потом были обработаны изнутри, без какого-либо порядка и симметрии,<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
60<br />
окна большого или меньшего необходимого размера. Большое здание выдает всегда определенную<br />
задумчивость и определенный, выраженный смешением разных стилей разных<br />
эпох беспорядок произведет не столько уродливое, сколько фантастическое впечатление.<br />
Скульптура также ограничивает безобразное из-за стоимости и сложности приобретения<br />
материалов. Само собой разумеется, что, как это демонстрируют наиболее<br />
кричащие примеры, могут быть высечены или отлиты даже самые жалкие статуи, но дорогостоящий<br />
материал и трудоемкость будут постоянно тормозить легкомысленность<br />
скульптора. Не так просто приобрести блок каррского мрамора для статуи. Мрамор<br />
с трудом подчиняется бесконечным ударам молотка и только в результате очень сложной,<br />
нередко длящейся целые годы процедуры, бронза отливается в формы, а потом месяцами<br />
шлифуется. Поэтому ни в каком ином виде искусства традиция не является столь<br />
устойчивой как в скульптуре. Новое пробивается реже, поскольку неудача ставит<br />
под удар слишком многое. В своей пластической реальности плохо отлитая или высеченная<br />
форма намного отвратительнее случая, если она была бы нарисована или написана.<br />
К этому также следует добавить, что, несмотря на благородство, к которому стремится<br />
его форма, никакой другой вид искусства не обладает такой ограниченной склонностью<br />
к выражению негативного под видом болезни, боли и злобы.<br />
Напротив, из всех пластических искусств живопись чаще всего подвергается ускользанию<br />
в безобразное, поскольку она должна симулировать индивидуальную жизнь в видимости<br />
перспективы. В том, что касается формы, расположения и драпировки статуи,<br />
скульптура допускает большие или меньшие погрешности, оставаясь при этом достойной<br />
внимания. Но, благодаря дешевизне материала и отсутствия сложности в своем осуществлении,<br />
живопись больше склонна к подделкам. Палитра ее возможностей несравненно<br />
больше, чем в скульптуре: пейзаж, животное, человек — ничего из того, что может созерцаться,<br />
не исключается из сферы ее интересов. В то же время, живопись обусловлена многим:<br />
контуры форм, красочность, перспектива, а их не только нельзя упускать из виду,<br />
но и все они должны предстать в целостности. Поэтому так легко просачивается неточность<br />
рисунка, неистинность красок, ложность перспективы. Как легко можно ошибиться<br />
в очертаниях! Как быстро можно исчерпать хроматичную тональность! Как легко можно<br />
забыть о тени или пятне света! Вне всякого сомнения, именно поэтому существует<br />
больше плохих картин, чем неудачных скульптур, за исключением индийских или египетских<br />
скульптур, уродство которых обусловлено религиозными принципами.<br />
Вместе с музыкой растет легкость созидания произведений и, в то же время, вместе<br />
с присущей этому виду искусства внутренней субъективностью, возрастают возможности<br />
безобразного. Хотя в своей абстрактной форме и в ритме это искусство опирается<br />
на математике, мелодии, то есть на том, что заставляет его быть истинным, духовным выражением<br />
идеи, оно подвластна самому большому произволу, — следовательно, вывод<br />
о том, что становится прекрасным, и что не становится таковым, нередко сложно сформулировать.<br />
Благодаря воздушной, летучей, таинственной и символической природе токарл<br />
розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО [введение]<br />
61
на, а также благодаря неуверенности критики, безобразное распространено здесь еще<br />
больше, чем в живописи.<br />
И, наконец, в самом свободном виде искусства — в поэзии возможность безобразного<br />
достигает своего апогея вместе со свободой духа и так легко пишущимся и произносящимся<br />
как средство выражения словами. Из всех видов искусства поэзии сложнее всего<br />
действительно соответствовать идее, так как она менее всего способна на воспроизведение<br />
эмпирической реальности, которую она, извлекая из глубины духа, должна идеально<br />
трансформировать. Но однажды созданная, существующая как литература и техника,<br />
поэзия становится предметом излишеств как ни один другой вид искусства. Потому что,<br />
согласно известному замечанию одного великого поэта, в таком случае язык уже сам<br />
по себе рифмоплетствует и думает за нас. Как в форме, так и в содержании эпической, лирической<br />
поэзии, в драматургии и дидактической литературе, порождаются искусственные<br />
модификации того же материала, структура которого изменяется лишь в видимости.<br />
В таком случае, для того чтобы можно было идентифицировать безобразное, возникает<br />
необходимость формирования вкуса посредством более глубокого, обогащенного<br />
всесторонним опытом познания. К этому следует добавить и интерес, который, как демонстрирует<br />
наша эпоха, может придавать поэзии определенная тенденция, когда не эстетическая<br />
ценность, а революционный или консервативный, националистический или<br />
набожный пафос решает судьбу стихотворения. В поэзии легче и незаметнее всего можно<br />
грешить, и в ней, несомненно, продуцируется самое большее количество уродства.<br />
НАСЛАЖДЕНИЕ БЕЗОБРАЗНЫМ<br />
ние животных, гладиаторские игры, карикатуры, расслабляющие мелодии, колоссальные<br />
оркестрации, литература и поэзия с преобладанием цвета крови (de boue et de sang [грязи<br />
и крови], как говорил Мериме).<br />
КЛАССИФИКАЦИЯ<br />
Исчерпав эти предварительные замечания, попытаемся вывести классификацию понятия<br />
безобразного, что в общих чертах было обозначено выше как место, которое занимает<br />
безобразное в метафизике прекрасного. Говорилось уже, что оно представляет собой<br />
отрицательное опосредование понятия прекрасного в-себе и комического. Эта точка зрения<br />
отличается от той, которая считает безобразное не характерным моментом прекрасного,<br />
а трактует его исключительно в качестве подчиненно обусловленного — иногда<br />
возвышенным под видом устрашающего и ужасающего, иногда в виде комического<br />
как странность и малоразвитость комического.<br />
В современных исследованиях комическое часто рассматривается как противоположность<br />
возвышенного и предпринимаются попытки навязать познанию абсолютной красоты<br />
единство возвышенного и комического. Но комическое противостоит не только<br />
возвышенному, но и прекрасному как таковому. Или, точнее говоря, не противостоит,<br />
а является оживлением, прояснением (Aufheiterung) безобразного в прекрасном. Безобразное<br />
противится прекрасному, противопоставляет себя ему, опровергая его, в то время<br />
как комическое может быть прекрасным, но не в значении обычной, положительной красивости,<br />
а в смысле эстетической гармонии, возвращения противоречия в единство. В комическом<br />
безобразное присутствует в качестве отрицательного прекрасного, будучи,<br />
в свою очередь, отрицаемым комическим, без противоречия, которое отрицается видимостью,<br />
так как оно само является видимостью, комическое не может быть познанным. Уже<br />
Аристотель, а после него Чичеро выявили это соотношение. Даже понятие возвышенного<br />
не может быть отделено от понятия прекрасного, а должно рассматриваться как его специфическая<br />
форма. Поскольку безобразное не является чем-то абсолютным, а, напротив,<br />
лишь чем-то относительным, для его определения необходимо вернуться к самой идее<br />
прекрасного, которою он обусловлен.<br />
Как следует предполагать, прекрасное вообще является чувственной представленностью<br />
гармонической тотальности материальной и духовной свободы.<br />
Как известно, первым предварительным условием прекрасного является необходимость<br />
предела — оно должно сформироваться в себе как целостность и уточнить свои<br />
различия как органически присущие целостности. В определенной степени это понятие<br />
абстрактной детерминации формы выражает логику прекрасного, поскольку еще полностью<br />
абстрагируются от содержания, обладая тою же формой необходимости для любого<br />
типа красоты, безразлично к материалу, в котором она реализуется, и безразлично<br />
к способу духовного осуществления.<br />
Утверждение, что безобразное способно доставлять наслаждение, кажется таким же<br />
абсурдным, как и то, что можно наслаждаться злом или болезнью. И все же подобное наслаждение<br />
возможно как в нормальном, так и в патологическом смысле.<br />
В нормальном смысле, когда в контексте целостности произведения искусства безобразное<br />
оправдано в качестве условной необходимости, будучи аннулированным противодействием<br />
прекрасного. В этом случае нам доставляет удовольствие не безобразное как<br />
таковое, а прекрасное, которое преодолевает представленную в произведении собственную<br />
несостоявшесть. Об этом уже говорилось выше.<br />
Наслаждение безобразным в патологическом смысле имеет место, когда, лишенная<br />
способности понимания истинной красоты, та или иная эпоха материально и физически<br />
деградирует, и, проще говоря, пытается брать от искусства лишь пикантность игривого<br />
порока. Такая эпоха отдает предпочтение смешанным ощущениям, пребывающим в противоречии<br />
с содержанием. Для возбуждения притупленных нервов такая эпоха стремится<br />
к гипертрофированной чувственности, к изощренному и отвратительному. Здесь беспокойство<br />
и неустойчивость душ стремится к безобразному, потому что оно становится<br />
для них идеалом их отрицательного состояния. Таким эпохам свойственны подразнивамария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
62<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО [введение]<br />
63
Таким образом, отрицание целостности единства формы представлено отсутствием<br />
формы. Простое отсутствие какой-либо формы не является красивым, но оно и не безобразно.<br />
Нельзя назвать безобразным пространство в его беспредельной протяженности,<br />
как и темноту ночи, в которой формы неразличимы; а также неразрывное и равномерное<br />
звучание грома. Отсутствие формы уродливо только тогда, когда некоторое содержание<br />
должно бы обладать, но еще не обладает ею, или же тогда, когда форма уже существует,<br />
но она еще не структурирована так, чтобы совпадать с сущностью содержания в той степени,<br />
в какой смыслом выражения «отсутствие формы» мы очерчиваем также неточность<br />
границ. Отсутствие формы может быть и необходимой формой некоторого содержания,<br />
как, например, то, которое свойственно бесконечности пространства, ибо факт обладания<br />
формой, а потому — границей, противоречит понятию абсолютного пространства,<br />
что означает, что оно может обладать формой только через отсутствие формы. Если же<br />
некоторое содержание должно обладать формой, а последняя отсутствует, то мы соотносим<br />
содержание к этой предполагаемой им самим самому себе форме и воспринимаем<br />
отсутствие формы как безобразное. С метафизической точки зрения правомерно утверждение,<br />
что некоторое содержание не может существовать, не будучи оформленным.<br />
Условно же, подобно тому, как мы говорим об отсутствии содержания, можно говорить<br />
и об отсутствии формы. Представим себе, к примеру, набрасывающего пейзаж художника,<br />
который, подгоняемый временем, торопливо набрасывает контуры. С целью большего<br />
запоминания, подчеркивания, усиления изначальной хроматики, к нечетким контурам<br />
он добавляет лишь некоторые «цветовые пятна». В этом случае пейзаж получит нечеткую<br />
форму. Вместо реального богатства красок в этой картине можно будет отличать только<br />
цветные пятна, которые воспроизведутся будущим воспоминанием, а этот хроматический<br />
конгломерат будет еще лишен формы и поэтому безобразным. Впрочем, можно представить<br />
себе картину законченной, но неточной и неудачной. Тогда исполнение, то есть<br />
состоявшаяся форма стала бы реальностью и все же не соответствовала бы необходимой<br />
вданном случае форме. На ее место утверждается другая форма, в большей или меньшей<br />
степени чуждая сути образа реального предмета, то есть форма, не соответствующая<br />
содержанию. В таком случае возникает положительное противоречие между содержания<br />
и формы, а это отсутствие формы снова-таки будет безобразным.<br />
Следовательно, прекрасное требует единства формы и содержания в определенных<br />
соотношениях, которые являются абстрактными пропорциями. Но по сути своей,<br />
прекрасному с необходимостью присуща и чувственная сторона, так как она входит<br />
в природу именно как форма. Чтобы быть прекрасным, содержание духа также требует<br />
опосредования чувственным проявлением. С этой точки зрения природа содержит в себе<br />
истину конкретного и индивидуализированного, в которой должно быть положено прекрасное.<br />
В своей конкретности это детерминируется и идеалом, но такая детерминированность<br />
как-то связана с природой, так как идея может превратиться и реализоваться<br />
как воспринимающийся чувственный предмет исключительно через природу. Вне приромария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
64<br />
ды не существует ни одной прекрасной формы и искусство нуждается в изучении природы<br />
для постижения ее формы. Искусство должно уделить внимание природе и именно<br />
воспроизводить ее с последовательной достоверностью, потому что в этом отношении<br />
зависит от нее. Этот утверждение также истинно, как и то, что искусство не должно<br />
имитировать природу в том смысле, в каком под «имитацией» понимается простая копия<br />
эмпирических случайных предметов, даже если эта копия точна. Подобно тому, как формализм<br />
абстрактных пропорций еще недостаточен для созидания красоты, так же недостаточен<br />
для этого и абстрактный реализм. Копия реального явления не является еще<br />
искусством, так как искусство должно начинаться с идеи, а природа, будучи подчиненной<br />
случайному и произвольному, часто не способна реализовать собственный смысл. Задуманная<br />
природой, но часто недоступная из-за условий ее существования в пространстве<br />
и времени реализация прекрасного, идеальность природной формы остается долгом<br />
искусства. Но для того, чтобы идеальная истина природных форм стала возможной,<br />
должна быть скрупулезно изучена эмпирическая природа, как поступают глубокие представители<br />
искусства и опровергают только заблуждающиеся идеалисты. Истинность<br />
природных форм переходит в истинность прекрасного.<br />
Истина здесь заключается в том, что в изображении необходимой природной формы<br />
мы не имеем права на ошибки. Прекрасное не может обойти эту истинность. Таким образом,<br />
если некоторая форма нарушает эту закономерность природы, из этого насилия<br />
с неизбежностью рождается безобразное. Сама природа становится безобразной, когда,<br />
вследствие определенной ошибки, отдаляется от собственного закона. Тем более это<br />
относится к искусству, так как ему, в отличие от природы, непростительна неспособность<br />
игнорировать существующие связи, которыми были породившие монстров, гидроцефалов,<br />
альбиносов и т. п. Если, к примеру, представим себе, что скульптор пожелает изобразить<br />
слониху с сосущим детенышем, своеобразного аналога «Тёлки» Мирона, тогда<br />
в упорядочении этой группы должны будут применяться абстрактные пропорции, а момент<br />
природной точности заключался бы в том, чтобы слоненок относительно слонихи<br />
был бы изображен в реальном отношении. У нее вымя расположено между передними<br />
ногами, а слоненок сосет не хоботом, которым слоны всасывают воду, а при помощи губ<br />
нижней челюсти. Если эта необходимость будет упущена из виду, в таком случае возникнет<br />
неточность и через нее безобразное, ибо все пропорции тела слона эволюционировали<br />
в зависимости от этой особенности кормления. Разумеется, так называемое внешнее<br />
приукрашивание природы, которое оспаривает ее идеальную истинность, попадает под<br />
значение понятия неточности.<br />
Но верно и то, что преднамеренное отклонение искусства от форм естественного происхождения<br />
во имя достижения эстетического эффекта или в случае фантастических выдумок<br />
не должны считаться неточностями. Независимая от точности область представлена<br />
мерой условности, утверждающая себя в качестве исторического выражения самоопределения<br />
духа. Такая форма изначально будет более или менее связанной с природкарл<br />
розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО [введение]<br />
65
ной пропорцией, или, в крайнем случае, с реальной необходимостью. Но по истечении<br />
времени она может сильнее отдалиться от природы, поскольку в своем стремлении более<br />
выразительно конкретизировать собственную свободу, часто насилует природу. Через<br />
дикие мутации и изменения тела, продетыми через уши, нос и губы, татуировку и т. п. костями<br />
и кольцами, дикарь демонстрирует свое желание отделиться от природы. Он показывает,<br />
что, в отличие от животного, не удовлетворяется природной данностью. Как человек<br />
он хочет противопоставить ей собственную свободу. С течением времени народы<br />
приобретают собственный образ жизни и четко очерченные нравы. В соответствие со своим<br />
местным и национальным характером, они утверждают собственные формы одежды,<br />
жилья, орудий производства. Следовательно, если искусство задастся целью раскрыть ту<br />
или иную историческую тему, тогда его точность будет заключаться в необходимом изображении<br />
темы, согласно ее положительной, исторически обусловленной форме. Здесь<br />
речь идет не о том, чтобы следовать скрупулезной тщательности, а о том, чтобы соблюдать<br />
то, благодаря чему, подчеркивая свои особенности, некоторая форма стала эстетическим<br />
объектом. Сильно изогнутая и растянутая нижняя губа ботокуда 1 , разбухшие<br />
животы и лилипутские ноги китайских женщин, мужское телосложение и низкая талия<br />
женщин из штирийских Альп 2 и т. п., несомненно, уродливы. С эстетической точки зрения<br />
отклонение от таких черт было бы предпочтительней. Но если идет речь об изображении<br />
женщины именно в соответствии с каноном китайской красоты, то иного пути как реализовать<br />
эту цель именно в аспекте китайского идеала красоты не существует и в таком<br />
случае изображение большого живота и лилипутских ног будет неизбежным. Искусство<br />
может смягчить эти формы, но игнорировать их не имеет права. Черты такого рода являются<br />
индивидуальными характеристиками определенного исторического субъекта. Первобытный<br />
период искусства мало озабочен этими историческими характеристиками<br />
и удерживает в первую очередь общечеловеческое, но достигшее уровень рефлексии<br />
искусство не может абстрагироваться от обязательности соблюдения исторической достоверности.<br />
Как известно, французский театр времен Людовиков ХIV и XV представлял<br />
со сцены героев и героинь греческой и романской трагедии в париках, кринолинах и с саблей.<br />
В таком облике актеры приближались к зрителям в той степени, в какой последние<br />
легче должны были понять разворачивающееся в таких костюмах действие. Но постепенно<br />
такая вольность начала беспокоить. Стало желательным восстановление в свои права<br />
прошлого и чужих нравов. Одно из изданий Большого театра периода царствования Людовика<br />
XVI содержало особенно назидательные гравюры, поставив перед собой задачу<br />
исторически достоверно изобразить кельтские, греческие, иудаистские, персидские<br />
и средневековые обычаи ношения одежды и включить их в театральную практику.<br />
1 Ботокуды — индейское племя, жившее в прошлом в Восточной Бразилии (современный штат Эспириту-<br />
Санту). В результате европейской колонизации почти все Ботокуды были истреблены или вымерли.<br />
2 Штирия (Steiermark) — федеральное альпийское государство.<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
66<br />
Таким образом, отсутствие формы являет собой первую, а неточность (отсутствие достоверности)<br />
вторую существенную модальность проявления безобразного. Но мы<br />
не сказали еще о той модальности, которая действительно содержит в себе источник обеих<br />
— это внутренняя деформация, которая прорывается также во внешнюю дисгармонию<br />
и чудовищность, так как в самой себе она темна и беспорядочна. Свобода представляет<br />
собой истинное содержание прекрасного и именно свобода в самом общем ее смысле,<br />
в котором следует понимать не только моральную, волевую сторону, а также спонтанность<br />
интеллекта и свободу движения природы, целостность и индивидуальность формы,<br />
которые становятся совершенно прекрасными исключительно благодаря самообусловленности.<br />
Тут следует придерживаться всеобщего понимания свободы, иначе эта эстетическая<br />
область с неизбежностью будет заужена. Метафизика прекрасного истинна<br />
не только для искусства, но и для природы и жизни. В последнее время принято, чтобы<br />
в связи с прекрасным понималось духовное содержание формы. Это должно означать,<br />
что природа в-себе и для-себя порождена духом и как произведение духа рефлексирует<br />
и излучает его из себя настолько, что в проявлениях природы дух может созерцать собственную<br />
свободу. Как уже говорилось, вышеизложенное утверждение можно трактовать<br />
и в этом смысле. Но если, как это часто бывает, метафизика прекрасного ограничивается<br />
лишь искусством, тогда на этой основе возникает необоснованное и неверное ограничение<br />
понятия прекрасного и, через это, понятия безобразного.<br />
Сущность свободы не может быть понята вне сущности необходимости, поскольку, хотя<br />
является ее формой, содержание ее самообусловленности пребывает в поведении обусловленной<br />
индивидуальной субъективности. Мы хотим обойти здесь сложные и нередко<br />
спорные исследования о происхождении и цели свободы. Оставим их на попечении других<br />
исследований. Если же ограничиваться эстетическим аспектом, то из него будет следовать,<br />
что свобода как самообусловленная необходимость выражает свое идеальное содержание.<br />
В соответствии со своей сущностью, свобода обладает возможностью двойного движения:<br />
преодолевая среднюю меру феномена, она может перейти в бесконечность, в то время как,<br />
подчиняясь ей, она располагается в конечном. В-себе и для-себя свобода представляет целостность<br />
неограниченного характера собственного содержания, будучи на основе такой<br />
же целостности прекрасной. Если же она аннулирует конечность собственного самоограничения,<br />
тогда, посредством такого акта, она трансформируется в возвышенное. Если же,<br />
напротив, она преодолеет свои границы, вбирая в себя это преодоление, то становится<br />
приятной. Не стремясь к распространению в бесконечности или же к самоутрате в малом,<br />
абсолютная красота засыпает в своей собственной бесконечности.<br />
Противоположностью возвышенной истине является не безобразное, как полагают<br />
А. Руге и К. Фишер, и не комическое, как утверждает Ф. Т. Фишер, а приятное. В идее прекрасного<br />
следует отличать противостояние между прекрасным как таковым, следовательно,<br />
между возвышенным и безобразным в качестве отрицательного прекрасного,<br />
и между положительной оппозицией, которая располагается между возвышенным и легкарл<br />
розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО [введение]<br />
67
кими формами приятного. Через опосредование, которое безобразное предоставляет комическому,<br />
эта оппозиция может относительно противопоставляться и возвышенному.<br />
Но следует помнить, что, будучи способным на высокомерие, комическое снова переходит<br />
в возвышенное. То, что говорилось относительно падения Наполеона I: «от великого<br />
до смешного один шаг», и то, что было сказано по случаю коронации Наполеона III:<br />
«от смешного до великого один шаг», может быть принято в качестве всеобщего закона<br />
эстетики. Аристофан часто настолько велик в своих комедиях, что в этом ему мог бы позавидовать<br />
любой трагик.<br />
В аспекте же безобразного отсутствие свободы составит принцип, с которого начинается<br />
эстетическая, и особенно неэстетическая индивидуальная характеристика. Отсутствие<br />
свободы следует рассматривать в общем, как включающее в себя не только искусство,<br />
но природу и жизнь в целом. Вытекающее из сущности чего-то, отсутствие свободы как<br />
отсутствие самоопределения или как противоречие между самообусловленностью и необходимостью,<br />
провоцирует собой уродство, которое в дальнейшем проявляет себя недостоверностью<br />
и отсутствием формы. Если, к примеру, рассматривать жизнь в форме болезни,<br />
тогда возможность ее превращения в болезнь необходима, но отсюда не вытекает обязательность<br />
того, чтобы она действительно заболела. Через болезнь жизнь пертурбирует<br />
в своей свободе движения и эволюции — она, таким образом, ограничивается болезнью,<br />
последствия которой должно выразить себя и во внешней десфигурации и обезображивании.<br />
Или же, к примеру, если ограничиваться свободой, то, через произвольное отрицание<br />
своей необходимости, она становится несвободной в положительном смысле — то есть,<br />
становится злом. Зло — это этическое уродство, и это уродство будет иметь своим следствием<br />
и эстетическое безобразное. Так теоретическая несвобода, глупость с необходимостью<br />
отразятся на безжизненном и лишенном смысла облике. Истинная свобода всегда является<br />
источником красоты а несвобода — источником безобразного. Но точно также, как<br />
и в прекрасном, безобразное как двойное отрицание сможет выделить свою несвободу<br />
двумя способами: в первый раз посредством того, что несвобода устанавливает границы<br />
там, где, согласно идее свободы, не должно существовать никаких границ; и во второй раз<br />
посредством того, что несвобода разрушает границу там, где согласно той же идее свободы,<br />
эта граница должна бы быть. В первом случае возникает вульгарное, во втором —<br />
отвратительное. В конце концов, несвобода превращается в деформацию свободы и прекрасного<br />
в карикатуру, из-за того, что под формой аподиктического суждения, несвобода<br />
уравнивается со смыслом свободы, с необходимостью свободы. Отсутствие свободы изначально<br />
безобразно, поскольку как в содержании, так и в форме выражает особенное противоречие<br />
свободы и прекрасного с самим собой. Но в карикатуре, через ее постоянную рефлексию<br />
в собственную модель, сила безобразного снова побеждена; она может снова<br />
условно достичь свободы и красоты, так как напоминает нам не только об идеале, которого<br />
она оспаривает, а может делать это еще с некоторым самовосхвалением, которое, за видимостью<br />
положительного удовлетворения абсолютного ничто, становится комической в себе.<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
68<br />
Таким образом, противоположностью возвышенного является ординарное, противоположностью<br />
приятного — неприятное, противоположностью высокого — карикатура.<br />
Карикатура предстает распространенным понятием, поскольку, концентрируя в себя все<br />
метаморфозы безобразного, она употребляется практически в смысле безобразного как<br />
обобщающего понятия и противопоставляется идеалу, которого она инверсирует. Из-за<br />
обусловленности прекрасным, карикатура способна осуществить переход к нему и пройти<br />
через все тональности данного феномена, ибо существуют карикатуры искусственные<br />
и глубокие, ясные и мрачные, вульгарные и великие, одиозные и очаровательные, веселые<br />
и устрашающие. Но, независимо от способа их самодетерминации, они ориентируют<br />
к своему положительному значению, приводя к непосредственному, одновременному<br />
с ними самими проявлению их противоположности. В любом случае следует сказать, что<br />
уродство содержит в себе прекрасное, которое им отрицается. Неоформленное в себе<br />
предпочитает форму, некорректное сразу же напоминает о своей нормальной мере; ординарное<br />
является ординарным, поскольку противоречит великому, а неприятное является<br />
таковым, поскольку аннулирует приятное. Но карикатура предстает не только отрицанием<br />
общих эстетических детерминаций, но и деформированностью образа некоторой великой,<br />
очаровательной и прекрасной модели, особенным образом рефлексируя ее в качестве<br />
формы, так что оказывается способной даже предстать красивой, когда, через свое отсутствие,<br />
эти качества приводят к более сильному эффекту. Остановимся, к примеру,<br />
на «Дон Кихоте» Сервантеса. Ламанчский аристократ является мечтателем, который<br />
с болезненной страстностью видит себя рыцарем, в связи с чем общество отдаляется<br />
от него и находится в противоречии с его приключенческим способом поведения. Уже<br />
не существуют великаны, дворцы, колдуны, уже полиция взяла на себя часть рыцарских<br />
обязанностей, уже государство превратилось в реального защитника вдов, ученых и безвинных;<br />
уже сила и индивидуальное мужество утратили свой блеск на фоне огнестрельного<br />
оружия. Но, несмотря на это, Дон Кихот поступает так, как будто все эти мутации<br />
не имели места, и с неизбежностью попадает в тысячу недоразумений и конфликтов, превращающие<br />
его в карикатуру, ибо, чем чаще он, для обоснования своих действий, порождает<br />
удивительные чудачества, тем сильнее подчеркивается неизбежная бессмысленность<br />
его поведения. Реальные предпосылки, в которых действовали эти первые звезды рыцарства,<br />
уже не существуют и фиктивность их существования фальсифицирует понимание<br />
мира нашим идальго до сумасшествия. Но в своих галлюцинациях этот сумасшедший обладает<br />
всеми качествами настоящего рыцаря. Он храбр, скромен, милосерден, предупредителен,<br />
предстает другом угнетенных, влюблен, верен, жаждет приключений и верит<br />
в чудеса. Нельзя не восхищаться его субъективными достоинствами и нельзя без удовольствия<br />
слушать поэзию его монологов, когда он блещет филантропическим величием.<br />
В Средние века он был бы достойным товарищем рыцарям Круглого Стола и короля Артура,<br />
страшным противником всех «заблудших душ». Именно благодаря положительным<br />
чертам он становится карикатурой, тем более очевидной, чем больше эти прекрасные сакарл<br />
розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО [введение]<br />
69
ми по себе качества превращаются в аннулирующую их абсурдность, когда в затуманенном<br />
воодушевлении он растрачивает свою смелость в борьбе с кажущейся ему величественным<br />
великаном ветряной мельницей, когда освобождает озлобленных заключенных<br />
как невинно пострадавших, когда освобождает из клетки льва, потому что тот является<br />
царем зверей, когда использует тазик для бритья в качестве шлема бессмертного Мамбрино<br />
и т. п. Когда мы достигаем эту точку самоаннигиляции величия его пафоса, когда<br />
смеемся над ним, комическое пробивается из карикатуры, которая вызывает уже меланхолическую<br />
грусть. Бедный, слабый, бредящий Дон Кихот не вульгарен и не противен,<br />
но он лишен формы; его Россинанта самая неподходящая для боя лошадь; его идеал —<br />
идеальный рыцарь превращается в собственную карикатуру именно через практическую<br />
никчемность его методов. И все же Сервантес владел великим талантом выразить в фантастическом<br />
рыцаре и его мудром друге черты человеческой природы вообще. Он владел<br />
искусством превращать пережитую самыми чистыми чувствами и самыми светлыми убеждениями<br />
деформацию в критику недостатков буржуазного общества — и не только<br />
испанского, в котором живет аристократ Дон. Нужно согласиться с писателями, что,<br />
вопреки государству, полиции, воспитанию, свободное появления сильной личности,<br />
особенно великодушной, часто представляло собой благо для развращенного и коррумпированного<br />
состояния общества. Такой великой, всесторонней и значительной может<br />
стать благодаря гению карикатура.<br />
Часть первая<br />
ОТСУТСТВИЕ ФОРМЫ<br />
Как было показано выше, абстрактной, фундаментальной особенностью прекрасного<br />
является тождество. В качестве чувственного явления идеи, тождество нуждается в ограничении,<br />
ибо только через ограничение возможна определенность, но определенность<br />
невозможна и вне разворачивания единства. Прекрасное всегда должно предстать тождеством,<br />
но не только закрывающимся перед внешним, а самоопределяющимся как<br />
единство в-себе, самого себя и самим с собой. Раздвоение единого может привести к разорванности<br />
противоположностей, но поскольку противоположности являются противостоянием<br />
тождества самому себе, в процессе такой противоречивости оно должно<br />
реинтегрироваться, даже если в эмпирическом бытии это нереально. Порождая собственное<br />
саморазличие и преодолевая его, единство выражает себя как гармония.<br />
Это аксиомы метафизики прекрасного. Напоминание о них необходимо, так как из них<br />
следует, что в качестве отрицательного прекрасного, безобразное 1) представляет собой<br />
отсутствие единства, незавершенность и неточность формы; 2) что тогда, когда оно<br />
порождает различие, продуцирует его или в качестве нарушения порядка, или в качестве<br />
ложного равенства в неравенстве; 3) что, напротив, вместо утверждения единства формы<br />
с собой, обусловливает превращение раздвоения единого в расплывчатость ложных противоположностей.<br />
Это различные образы отсутствия формы можем обозначить таким<br />
немецким понятием как «Gestaltlosigkeit». «Ungestalt» «Misseiheit» 1 . Но в методологическом<br />
аспекте было удобнее воспользоваться греческими понятиями, которые у нас, немцев,<br />
являются общими с романскими народами и которые, благодаря их широкому применению,<br />
обладают и большей точностью. Можно, к примеру, обозначить противоположное форме<br />
определенности/очертания «Gestalt» понятием аморфное, постижения взаимоотношений<br />
различий понятием ассиметричного, а живого единства — понятием дисгармонии.<br />
А. АМОРФНОЕ<br />
Единство прекрасно вообще, так как представляет собой относящееся к самому себе<br />
целое. Поэтому единство является первым условием любой определенности.<br />
Противоположность единства как его абстрактное отсутствие станет в первую очередь<br />
отсутствием самоограничения (положенности границ. — М. Ш.) во внешнем и саморазличения<br />
во внутреннем (внешних разграничений внутренних саморазличий. — М. Ш.).<br />
Отсутствие внешнего ограничения представляет собой отсутствие эстетической формы<br />
некоторого единства. Отсутствие такого ограничения может иметь свою причину в необходимости<br />
и сущности данной меры, так как пространство, время, мышление, свобода<br />
должны быть поняты в-себе как безграничные. Но отсутствие внешнего чувственного<br />
разграничения обнаруживается лишь там, где должно было бы существовать саморазличение<br />
и саморазграничение по отношению к внешнему, но они отсутствуют. Неразграничение<br />
как таковое не может считаться ни прекрасным, ни безобразным. Но то, что ограничено<br />
(определено, оформлено) в сравнении с неоформленным красивее, поскольку<br />
представляет собой относящееся к самому себе единство. В этом смысле Платон, как<br />
известно, предпочел границу апейрону [17].<br />
По этой причине самоопределенность во внешнем не просто некрасива, ибо в своей ничтойности<br />
она не содержит свою возможность. Поскольку же такое самоопределение<br />
не становится реальным, оно не является и красивым. В этом случае мы должна отличить<br />
от абсолютного отсутствия формы такое ее отсутствие, которое можно считать относительным<br />
в той мере, в какой некоторая форма уже обладает бытием как единство и определенность,<br />
но еще лишена в-себе саморазличия. Из-за отсутствия саморазличия такая<br />
определенность является аморфной. Отсутствие саморазличия наводит скуку, чем вынуждает<br />
все виды искусства остерегаться ее. Для того, чтобы при помощи зигзагообразных<br />
линий, меандров, розеток, кругов, зубцов и т. п., выразить различия даже там, где могла бы<br />
существовать только монотонность простой протяженности, архитектура, к примеру,<br />
1 Gestaltlosigkeit — аморфизм; Ungestalt — деформированность; Misseiheit — искаженное единство.<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
70<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть первая<br />
71
го отрицания, форма предстает нарушенной, изуродованной и неопределенной. Тогда<br />
возникает отсутствие точности и определенности там, где они должны бы быть — то, что<br />
в искусстве называем неясным и неустойчивым. В эпической и драматической литературе<br />
этот феномен выражается как отсутствие перспективы. В музыке его называют<br />
эвфемизмом шумливости — галдежом. Эти формы могут стать и прекрасными, как в случае<br />
музыки, выражающей битву, но все же они выражают отсутствие формы. Неустойчивость<br />
и неуверенность очертаний противоречит идее формы, а такое противоречие безобразно.<br />
Непонятность и анемичность часто прячутся за такими слабыми формами и размытыми<br />
контурами. Нельзя уравнивать эти аморфные формы эскизным наброском.<br />
Настоящий набросок является первичным проектом будущего осуществления. Он именно<br />
потому еще не удовлетворителен, что отсутствует осуществление, но, подобно наброскам<br />
великих художников и скульпторов, в нем уже просвечивает возможность прекрасного.<br />
В диалоге «Коллекционер и его близкие» Гёте с особенной тонкостью проанализировал<br />
все возможные оттенки и различия этого случая [18].<br />
Таким образом, неясное не является прекрасной туманностью, в которой может облекаться<br />
некоторая форма; неустойчивое не является сладким изгибом, в котором может<br />
потеряться некоторая форма, и не является гармонией, в которой может угасать некоторая<br />
тональность. Напротив, они представляют исчезновение самоопределения именно<br />
там, где оно было решительно необходимым; неясность саморазличения, где оно должно<br />
было являться; неясность выражения там, где оно должно бы быть более четким.<br />
В скульптуре, и особенно живописи, символические и аллегорические формы соблазняют<br />
такой трактовкой. И часто даже при самом большом желании выразить такие абстракции<br />
как родина, Франция и le holera morbus 1 , Париж и другие наподобие этих, можем считать<br />
себя удовлетворенными, если они представлены прекрасной женской фигурой. Старая<br />
дюссельдорфская школа живописи длительное время страдала от отсутствия формы, поскольку<br />
преобладание сентиментально-альбомной манеры породило заблуждение относительно<br />
различий между живописным и поэтическим, и, присоединившись к поэтам,<br />
слишком надеялась на то, что их двусмысленные, <strong>проблем</strong>ные формы могли бы усилить<br />
поэтическое объясняющее слово. После появления великих гениев в поэзии часто наступают<br />
периоды эпигонства, в которых господствует аморфность. В эпосе поэзия стремится<br />
к теории Шлегеля, согласно которой лишенное внутренней целостности действие как<br />
простой фрагмент более содержательного контекста могло бы длиться до бесконечности.<br />
В лирике аморфность обычно характеризуется излишеством предикатов, украшающих<br />
субъект. Поскольку один предикат постоянно душит другого, в результате такого перенасыщения<br />
вместо желаемого обогащенного воображения рождается ничего не говорящая,<br />
смешивающая существенное с несущественным перенасыщенность. Отсутствие формы<br />
в драматургии порождает так называемую драматическую поэзию, которая априорно<br />
1 Смерть холеры (франц.).<br />
прибегает к орнаменталистике. Неразличенное тождество в-себе еще не является положительно<br />
безобразным, но станет таковым. Чистота некоторого чувства, некоторой формы,<br />
цвета или тона даже способна быть непосредственно прекрасной. Но если они повторяются<br />
снова и снова, без прерывности, без изменений и контраста, тогда возникает печальная<br />
обедненность, однообразие, одноцветность и монотонность. Пустая необусловленность,<br />
это ничто всех образований, здесь уже самоаннигилируется — из неразличенной бездны<br />
возможностей самоопределения она получила бытие и обусловленность формы, цвета,<br />
оттенка, изображения. Но поскольку она удовлетворяется этой единственной самоопределенностью<br />
через фиксацию простого тождества с собой, возникает новая форма безобразного.<br />
Вначале мы наслаждаемся детерминированным в самом себе впечатлением, ибо<br />
тождество и чистота, особенно когда они обогащены энергией, содержат в себе нечто<br />
радостное. Но если определенность ограничивается этим абстрактным единством, она становится<br />
безобразной из-за своей неразличенности. То, что Гёте говорил о жизни в целом,<br />
а именно, что ничего не переносится так тяжело, как ряд хороших дней, относится и к эстетике.<br />
Повторяемая чистота неразличенных в-себе формы или цвета, оттенка или изображения,<br />
которые отличаются от ничто только отсутствием формы, становится безобразной<br />
и даже невыносимой. Зеленый цвет красив, но только зеленое, без голубого неба над ним,<br />
без отражающейся сквозь листья воды, без белого овечьего стада на поляне, без проглядывающих<br />
через листву ветвей красночерепичных крыш становится монотонным. Члены<br />
парижского клуба скучающих были очарованы в 1830 году тем, что выстрелы и гром канонады<br />
разорвал однообразный скрип повозок на бульваре. Но когда на второй день бой<br />
продолжался, и когда на третий день казалось, что стрельба не прекратится, только что<br />
вырванные из состояния скуки они воскликнули: «О, как все это скучно!»<br />
Тождество как чистое тождество становится безобразным, так как понимание подлинного<br />
тождества предполагает, что оно должно саморазличаться в себе. А самоопределенность<br />
может противопоставить тождеству отличие собственного исчезновения. Как<br />
форма тождество может раствориться и исчезнуть. Такое исчезновение может быть прекрасным,<br />
поскольку с ним связано становление как исчезновение, а значит, саморазличение,<br />
даже если оно направлено в ничто. Притягательность такого феномена заключается<br />
как раз в том, что одновременно с формой нам дано становление формы как превращение<br />
в другое. Представим себе ряд гор, чьи покрытые лесом хребты расплываются в туманные<br />
дали. Если вообразим себе рассыпающуюся пену волны, которую циклон с яростным<br />
воем поднимает в воздух, то падение высокой водяной колонны будет красивым. Или же,<br />
если представим себе звук, распространяющийся ровно и беспрерывно, тогда его прекращение<br />
будет красивым.<br />
В отличие от не знающей различений тождества скуки, любое движение — даже исчезновение<br />
и прекращение — красиво. Но прекрасное становится безобразным когда отрицание<br />
возникает там, где оно не должно быть, где, напротив, должна присутствовать<br />
завершенность и совершенство оформленности, где, вместо того, чтобы выиграть от такомария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
72<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть первая<br />
73
абстрагируется от условий сценического представления, в принципе отказываясь от действия<br />
как такового, от создания характеров, от правдоподобности, включающая в себя<br />
иногда только серию сомнительных лирических монологов. Чувствуя себя нацией, мы,<br />
немцы, не имеем при этом национального театра — к сожалению, две трети нашей продукции<br />
состоят из чистых драм, невозможные с театральной точки зрения и поэтому<br />
здесь нет смысла приводить конкретные примеры. Было бы заблуждением возлагать<br />
ответственность на Гёте за такое положение дел, поскольку Фауст прошел пробу театрализацией<br />
своей первой части блестяще, а вторая часть, если для нее напишется подходящая<br />
музыка, также выдержит эту проверку, так как она не менее театрально задумана<br />
и не менее подходит для оперной сцены.<br />
Проанализировав способ, каким конституируется безобразный аморфизм, необходимо<br />
проследить и его превращения в комическое. Здесь комический эффект достигается<br />
в частности тем, что на место определенного различия, которого мы ожидаем, повторяется<br />
то же самое и в частности посредством того, что в самом начале собственного движения<br />
некоторая форма выброшена в конец, совершенно неожиданный для начальной<br />
перспективы. Недетерминированность формы, заключающаяся в том, что в пустой бесконечности<br />
нет никакой формы, не может считаться ни положительно прекрасной, ни положительно<br />
безобразной, потому что non entis nulla sunt predicata 1 . В качестве нейтрального<br />
основания она еще не может считаться и комической.<br />
Напротив, детерминированная недифференцированность формы, заключающаяся<br />
в непрерывном повторении одного и того же изменения, может привести к комическому<br />
эффекту. Вместо того, чтобы эволюционировать к другому предикату, она снова и снова<br />
возвращается в к одному и тому же. Непрерывно длящееся простое тождество надоедает.<br />
Даже если оно заставит смеяться над собой, как это бывает во многих произведениях,<br />
когда бесталанный автор «вложил» в уста отдельного персонажа абсурдное выражение,<br />
которое, поскольку является a torl et a travers 2 , используется повсюду, несколько раз<br />
вызывает скупой смех, но, порождая жалкую ситуацию, когда глупость любой ценой<br />
пытается выдать себя за ум, быстро исчерпывает себя и станет отталкивающим и безобразным.<br />
Настоящий художник умеет разумно применять эффект комического (который<br />
понимается необусловленным другими лейтмотивами) как, например, Аристофан в «Лягушках»,<br />
где, с целью показать жалкий характер вступления Еврипида, представляет нам<br />
Эсхила, позволившего убедить себя добавить в начале каждой строфы одно слово, как<br />
«мех», «кувшинчик» или «мешок», с целью сделать ее смешной. После каждого такого<br />
начала можно ожидать иное предложение, но каждому из них неудовлетворенный Эсхил<br />
добавляет уничтожающее:«кувшинчик». <br />
Непрерывное стремление к изменению образа и постоянное возвращение в прошлую<br />
1 Не существует предикатов небытия (лат.).<br />
форму исполняет здесь роль vis comica 1 , которая, как можно заметить у каждого акробатического<br />
клоуна или циркового наездника, успешно применяется в фарсе. Отсутствие<br />
формы может заключаться и в превращении рождающегося образа в положительную<br />
противоположность. Некоторая форма заявляет о себе, но вместо ожидаемого возникает<br />
противоположное как растворение рождающейся формы в некоторую конечность,<br />
противоречащей нашим ожиданиям. К примеру, клоун набирает большой разбег для того,<br />
чтобы перепрыгнуть через что-то. Он разбегается и мы уже воображаем себе храбрый<br />
прыжок, но вот, совсем недалеко от цели, он резко останавливается и, прогнувшись, проходит<br />
под нее или обходит ее прогуливающимся шагом. Мы смеемся, потому что он перехитрил<br />
нас. Мы смеемся, потому что всеобщая противоположность самой великой безудержности<br />
движения заключается в том, чтобы быть особенно приятной с эстетической<br />
точки зрения. Или, вспомним, к примеру, номер с клоуном, пытающийся оседлать коня.<br />
Он прикидывается дурачком. С большим трудом он понимает, что следует сделать и дает<br />
убедить себя оседлать коня. В конце концов, он решается на это, но… оказывается лицом<br />
к крупу и т. д. Искусство жонглирования развлекает тем, что умеет извлекать что-то<br />
из ничего. Разум нам говорит, что из ничего не может появиться что-то и все же, несмотря<br />
на это, мы видим как одним а другим иллюзионист вытаскивает из пустой шляпы<br />
букеты цветов. Мы удивлены, но смеемся, потому что, в то время, как наше сознание<br />
настолько достоверно опровергается, оно все же знает, что это иллюзия. Именно это противоречие<br />
— сознательно поддаваться обману и очаровывает. Переход пьяного человека<br />
из состояния нормальной речи до бормотания, не артикулированным звукам, представляющий<br />
собой конфузный рефлекс, в который впал интеллект, до определенного момента<br />
может восприниматься смешным.<br />
Б. АСИММЕТРИЯ<br />
2 Бестолковым (франц.). 1 Комическая сила (лат.).<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
74<br />
Аморфность представляет собой непосредственную и тотальную необусловленность<br />
формы. Она отрицает себя переходом в единство некоторой формы, которая еще лишена<br />
внутренней саморазличеннности самое себя, так что из-за такой неразличенности она<br />
еще лишена в-себе формы. Или же различение конституируется за пределами формы,<br />
но таким образом, что представляет собой ее отрицание.<br />
Единство некоторой формы может повторяться с несущественными различиями, пребывая<br />
в движении в соответствии с определенными правилами. Это и есть правильность.<br />
Но между правильностью и единством присутствует и непосредственный другой способ<br />
быть — многообразие (die Verschiedenheit), полихромическое разнообразие которого<br />
может быть особенно приятным эстетически. Поэтому, для того, с целью преодоления<br />
монотонности формальной целостности, искусство инстинктивно стремится к многообкарл<br />
розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть первая<br />
75
аций и взаимоотношений. Британские островитяне, Лондон, елизаветинская эпоха,<br />
изображение мира Шекспиром особенно возбуждали эту игру фантазии. То же самое<br />
в живописи ввел Уильям Хогарт, но каким бы современным не было бы его схватывание<br />
характерных, особенно физиономических черт, оно не лишено определенного предварительного<br />
обдумывания, которое обнаруживает чрезмерную озабоченность и настойчивость<br />
в том, чтобы не упустить из поля зрения ни один из аспектов своих расчетов.<br />
В поэтической литературе такая манера предыдущей эпохи была применена преимущественно<br />
авторами юмористических рассказов, для которых она была не только удобным<br />
вариантом, но и применялась с абсурдной спесью. Простая путаница, размытость изображения<br />
уродлива. В этом смысле некоторые из наших горе-юмористов, часто хуже страдающие<br />
от галлюцинаций госпитализированных больных.<br />
Свободное многообразие прекрасно до тех пор, пока оно порождает неповторимость<br />
сочетаний. Если представить себе устремленность многообразия к порядку как повторяемости<br />
абстрактного единства, то в этом случае возникает понимание упорядоченности,<br />
то есть возобновления согласно определенному четкому правилу, которое связывает между<br />
собой свои слабые отличия. Это равномерные во времени периоды такта, равные величины<br />
симметрических частей некоторого здания, повторяемость припева в песне и т. п.<br />
Такая упорядоченность прекрасна в-себе, но она удовлетворяет, прежде всего, потребности<br />
абстрактного мышления и поэтому до тех пор, пока художественная форма ограничивается<br />
собой и кроме выражения определенной идеи ничего больше собой не представляет,<br />
она (такая упорядоченность) находится на пути к тому, чтобы стать уродливой. Она<br />
утомительна из-за стереотипного, выражающего различие одним и тем же образом равенства<br />
с собой, и мы начинаем искать за пределами ее «униформности» свободу даже в хаотической<br />
форме. В предисловии к «Фантазусу» Людвиг Тик защищал голландскую манеру<br />
организации парков, опирающаяся на идею, что через живые изгороди, стриженные кустарники<br />
и турецкие яблони они составляют пейзаж предельно адекватный их соотношений<br />
в свободном пространстве. В блистательном дворце, где совместность такого рода<br />
является самоцелью, максимально подходящие широкие аллеи, усыпанные мелким камнем<br />
заборы, выстроенные в парадном марше деревья, беседки в форме пещер. При Людовике<br />
Великом эту манеру довел до полного совершенства Анри Ленотр. Его впоследствии имитировали<br />
эпигоны из Шёнбрунна, Гасселя, Швецингена и др. Природа в ее естественной<br />
неудержимости не должна была проникнуть сюда, а, напротив, согласно своему величию,<br />
должна была сомкнуться и с должной услужливостью овеществить только салон в свободном<br />
воздушном пространстве, в котором бы шуршали шелковые туалеты и позолоченные<br />
мундиры. Но в преддверии этих замкнутых пространств, которые перестали быть ареной<br />
дворцовых праздников, между живыми заборами кубической или пирамидной формы, нас<br />
вскоре охватывает чувство замкнутости, и мы начинаем тосковать по неупорядоченности<br />
парка английского типа или, более того, дикого леса.<br />
В данном случае мы оказываемся посреди множества диалектических детерминаций.<br />
разию. Это приятное многообразие в-себе через противоположность абстрактному единству<br />
превращается в уродливое, когда становится смешной мешаниной самых разных мер.<br />
Если же такая мешанина не порождает некоторую структуризацию, она начинает раздражать.<br />
Поэтому искусство с самого начала прилагает усилия к тому, чтобы в абстракциях<br />
некоторых сходных пропорций преобладало хаотическое, в которое так легко впадает<br />
многообразие. Выше упоминалось о способе, при помощи которого вкусы отдельных народов<br />
пытались оживить пустоту огромного пространства в пластических искусствах.<br />
В начале этот способ применяет формы, едва ли представляющие собой нечто большее,<br />
чем простые линии и пятна; вскоре же они упорядочиваются. Прямоугольники, зигзаги,<br />
листовидный стебель, зубчатость, переплетенная лента, розетка становятся фундаментальными<br />
формами любой орнаменталистики и их можно найти на обоях и коврах.<br />
Таким образом, безобразное в многообразии сводится к отсутствию постигаемой<br />
связи, способной заново собрать в относительной форме множество своих деталей, приводившие<br />
раннее в замешательство. Беспорядочная путаница и суматоха становятся<br />
приемлемыми только в срезе комического. Обыденная реальность полна путаницы, которая<br />
должна бы оскорбить эстетический вкус, если бы, к счастью, не вызывала смех.<br />
Мы смотрим на них глазами Жана Поля или Диккенса, и они сразу же приобретают комическую<br />
притягательность. Нельзя перейти улицу, чтобы не найти материала для комических<br />
суждений — транспортный грузовик, в котором кресла, кушетки, столы, кухонная<br />
посуда, диваны, картины пребывают в самом невообразимом соседстве. Или дом, в котором<br />
на первом этаже сапожная мастерская соседствует с табачным киоском, а наверху —<br />
обязательный трактир и ателье портного французских мод, а еще выше, на мансарде —<br />
ателье восточного флориста. Каким выразительным и изощренным предстает этот тарарам<br />
случайностей! Или же, войдя в книжный магазин, можно увидеть на одном и том же<br />
прилавке классические произведения, поваренные книги, сказки, оспаривающие друг<br />
друга политические брошюры, соседствующие в таких смешных сочетаниях, о которых<br />
Вашингтон Ирвинг и Карл Гуцков могли бы мечтать для своей сатирической фантазии.<br />
А кучи старья! Каким мастером юмора представляются они в стихийности, с которой смешиваются<br />
пожелтевшие от времени семейные фотографии и изъеденные молью меха, старые<br />
книги и унитазы, сабли и кухонные веники, портфели и охотничьи рожки. Базары,<br />
постоялые дворы, скотобойни, почтовые кареты переполнены такими смешными импровизациями<br />
смешанной всякой всячины. Гетерогенность многообразного бытия смешивает<br />
обычную значимость вещей и отношений. Во всяком случае, случайность может быть<br />
прозаической, невыразительной и неостроумной, но она может быть и особенно поэтической<br />
или комической. Вещи, которые очень далеки друг от друга и которые через такие<br />
ассоциации могли бы считаться профанированными, попадают случайно в неожиданное<br />
соседство. Модернисты широко и часто довольно удачно развили этот веселый кавардак<br />
— страшное эмпирическое заблуждение современного сознания сделало возможной реализацию<br />
бесконечных отношений, которые очаровывают случайным характером ассоцимария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
76<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть первая<br />
77
Но простого определения и уточнения детерминаций здесь недостаточно — они перемешиваются<br />
и отождествляются. В качестве момента неупорядоченность может считаться<br />
и прекрасной, но как исчерпывающее эстетический объект абсолютное правило она может<br />
стать безобразной. Из этого же нельзя делать вывод, что нерегулярность как противоположное<br />
регулярности должна обязательно быть прекрасной. Таковой она может<br />
быть в зависимости от обстоятельств. В неподходящем месте, или деградируя в размытость<br />
или путаницу, нерегулярность станет уродливой. Исключительный пример восхитительной<br />
нерегулярности в области архитектуры представляет собой дворец Мейлхарт,<br />
построенный асимметрично в некотором возрожденческом стиле [19]. Художественные<br />
и поэтические достижения в представленности такой неправильности, которую мы<br />
привыкли называть negligee par exсellence 1 , в которой субретки часто предстают симпатичнее<br />
их хозяек, так многочисленны, что нет необходимости прибегать к примерам.<br />
В прошлом веке под видом имитаций еврейской поэзии, античных хор, в Германии были<br />
распространены песни с большой ритмической свободой. Многие из них, наподобие поэм<br />
Клопштока или гётевских композиций, были великолепными. Но какою же жалкою<br />
выглядит эта неправильность у других, потерявшихся не только в пустом потоке слов, но<br />
и в тональной, немузыкальной и бессвязной аритмической массе.<br />
Именно поэтому при своем противопоставлении, правильное и неправильное могут<br />
стать комическими. Первое, к примеру, станет комическим через педантизм, а последнее<br />
через его игнорирование. Педантизм замкнул бы мир в своих правилах, попытавшись<br />
даже запретить грозе появиться не в предназначенное время. Поскольку же запреты<br />
некоторого феномена посредственны и бессмысленны, педантизм становится смешным,<br />
а неправильное, которое, подобно балующемуся чертенку, разрушает старательно выведенные<br />
круги, делается комическим, поскольку играет роль высмеивания уподобляющейся<br />
машине глупости такого рода.<br />
Если тождество и различие сольются, то это может случиться прежде всего потому,<br />
что некоторая форма повторяется, но так, что в этом повторении она возвращается как<br />
инверсия. Повторение формы является равенством правильного, возвращение порядка<br />
является неравенством неправильного. Эта форма равенства, все же идентичная себе<br />
в неравенстве, является собственной симметрией. В прекрасной симметрии были сотворены<br />
в античности известные два диоскура 2 , каждый из которых удерживает вздыбленного<br />
коня — один левой, другой — правой рукой; один с выступающей вперед правой<br />
ногой, второй — левой. По обеим сторонам представлено одно и то же, и все же нечто<br />
другое, и это не простое другое, а каждая сторона является инверсией иной и поэтому<br />
относится к тому же. Таким образом, симметрия изображает не простое тождество или<br />
простое отличие, и не простую правильность или неправильность, а единство, которое<br />
1 Игнорированная в качестве исключения (франц.).<br />
2 В греческой мифологии — два брата, Кастор и Поллукс, сыновья Зевса, рожденные от его связи с Ледой.<br />
содержит в себе равенство и неравенство. Вместе с тем, симметрия также не представляет<br />
пока что совершенство формы — высшее воплощение красоты подчиняет себе симметрию<br />
лишь как момент, которого оно при определенных условиях преодолевает. Если она<br />
отсутствует там, где следовало ее ожидать, тогда такое отсутствие беспокоит, особенно<br />
когда симметрия уже была и только нарушается, или же, когда предполагалась, но не была<br />
осуществлена. С абстрактной точки зрения симметрия является правильностью<br />
(Gleichmass) вообще, но при более близком рассмотрении она является правильностью,<br />
содержащей оппозицию верха и низа, правого и левого, большого и маленького, высокого<br />
и глубокого, светлого и темного, или, точнее говоря, которое в повторении подобного<br />
заключает в себе инверсацию положения — то, что мы называем инверсацией, то есть,<br />
способ, в котором глаза, уши, руки и ноги человеческого тела соотносятся симметрично.<br />
Дедубляция равного может быть общей для обеих частей, наподобие положения фасадных<br />
окон по отношению к двери, полукругов относительно двух разделяющих их колон<br />
и т. д. Все они являются симметричными порядками, которые, в зависимости от содержания<br />
видов искусства, приобретают конкретное выражение в архитектуре, скульптуре,<br />
живописи, музыке и оркестровке. Если же в подобном случае симметрия отрицается, тогда<br />
возникает диспропорция, которая безобразна.<br />
В случае, когда симметрия отсутствует полностью, такое отсутствие более приемлемо,<br />
чем положительное пренебрежение ею. Если в определенном отношении, которое в соответствии<br />
со своей сущностью должно быть симметричным, отсутствует одна часть, тогда<br />
существование симметрии неполно. Но в этом случае наша фантазия выполнит дополнительное<br />
и компенсаторное действие, восполняя в воображении отсутствующую часть<br />
таким образом, что присутствующая в идеальной модели, но не превращенная в реальность<br />
полусимметрия будет терпимой. Это чувство мы испытываем перед многими готическими<br />
соборами, которым пристроили только одну башню, а вторая отсутствует или<br />
построена этажом ниже. При созерцании фасада отсутствующая башня воспринимается<br />
как эстетический дефект, ибо, в соответствии с общим проектом, она должна была<br />
присутствовать, ведь в самой идее башни как стремящейся к возвышенности конструкции<br />
включена возможность существования в определенной изоляции и мы не только относительно<br />
легко переносим отсутствие ее пары, но и воспроизводим последнюю в воображении.<br />
Если симметрия выдержана, но содержит в себе противоречие, тогда пространство<br />
возможности нашей фантазии аннулировано, поскольку нас останавливает нечто существующее<br />
положительным образом. В таком случае мы не можем заменить данное и не можем<br />
также его восполнить идеально — напротив, мы подчиняемся тому, что эмпирически<br />
существует, и принимаем его как таковое. Равенство может существовать и в опрокинутой,<br />
но не инверсированной в-себе модальности. То, что перед нами предстает в таком<br />
случае, не является симметричным и симфоническим согласованием, а равенством, которое<br />
проявляется в форме качественного отличия. Представим себе, к примеру, что, в соответствии<br />
с первоначальным проектом, готический собор должен был бы обладать двумя<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
78<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть первая<br />
79
башнями, и что вначале была построена только одна из них, а другая — позже, но в другом<br />
стиле. В этом случае симметрия присутствовала бы, так как должно было существовать<br />
две башни, но одновременно она существует в модальности, которая соответствует<br />
целостности и, кроме того, в этом качественном аспекте противоречит собственному единству.<br />
Благодаря недостаточно вместительному гардеробу, которым располагает труппа,<br />
в театрах часто встречаются смешные случаи таких асимметрий. Симметрия может качественно<br />
соответствовать единству формы, но в то же время уменьшить ее качество количественно,<br />
порождая безобразную деформацию. В пластических видах искусства продуцируются<br />
много ошибок такого рода. В идеальном аспекте две параллельные башни не должны<br />
быть выше друг друга, как и два крыла одного здания не могут быть неравными по длине,<br />
или подобно случая статуи, у которой одна рука больше другой и т. п. Особенную деградацию<br />
представляет отсутствие симметрии из-за атрофированности руки или ноги.<br />
Асимметрия не является простым отсутствием формы — она является манифестацией<br />
деформации. В фантастической драме «Искаженно преобразованный» («Оправданный<br />
горбун») Байрон описал муки сумасшедшего горбуна. Отринутый собственной<br />
матерью, он предпринимает попытку самоубийства, но в последнее мгновение остановлен<br />
таинственным незнакомцем, который дарит ему возможность принять любую другую<br />
форму, говоря ему:<br />
Если я захочу поиздеваться над быком,<br />
привив ему твою кривую ногу,<br />
или над быстрым дромадером,<br />
подарив ему твой высокий горб,<br />
животные восприняли бы это как комплимент.<br />
И все же<br />
эти животные более быстрые и более терпимые,<br />
чем ты и чем остальные гордые и красивые представители твоего вида.<br />
Твоя форма соответствует твоей природе.<br />
Была лишь добровольной ошибкой природы<br />
подарить предназначенное другим человеку.<br />
Но Арнольд, как звали несчастного, чувствует важное значение красоты. Он противоречит<br />
таким образом:<br />
Я не ценю так сильно силу,<br />
потому что уродство храбро.<br />
Оно предназначено для того, чтобы стать лучше других,<br />
Будучи равным, и даже выше их.<br />
Поскольку же в своей негативности уродство является чем-то положительным, оно<br />
чувствует себя одиноким, и это чувство выражает самое высокое страдание. Арнольд<br />
продолжает:<br />
Если никто бы не предоставил мне возможность измениться,<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
80<br />
я бы совершил все, на что способна мысль,<br />
чтобы, вопреки уродливости<br />
отвратительной, невыносимой ноши, которая,<br />
давит на мою душу, сердце и плечи подобно горе.<br />
Противный, уродливый горб<br />
для пары более счастливых глаз.<br />
Тогда я увижу красоту человеческого рода,<br />
который больше всего на свете<br />
является прототипом всего,<br />
что мы знаем о красоте в мечтах о ней.<br />
Так мрачно проявляется вовне мука деформации. И все же она может стать важным<br />
средством комического. В отсутствии симметрии еще нет ничего комического, но в путанице<br />
и слиянии оно становится ощутимым, поскольку здесь одна форма мешает и приглушает<br />
другую. Стремление к реализации, которое не достигает себя в полусимметрии,<br />
обладает комическим нюансом независимо от особенностей содержания. Но положительная<br />
асимметрия, которая в своем совпадении все же не совпадает и в своем равенстве<br />
все же неравна, эта асимметрическая симметрия уже сама по себе комична в той мере,<br />
в какой смешное является противоречием невозможности эмпирической реальности,<br />
и реальности, которая, в соответствии со своей сущностью, должна была бы существовать.<br />
В принципе, недопустимо, чтобы одна рука была длиннее другой, ибо реальность,<br />
которая не должна существовать и которая противоречит принципу, становится реальной<br />
и такое противоречие комично. Комичное включает в себя и специальности, которые, изза<br />
своих односторонних движений могут спровоцировать деформацию или укорачивание<br />
руки как в случае писаря, портного, сапожника, плотника и др.<br />
Особенно любимый комический тип рождается в драме, поскольку трагическое разворачивание<br />
главного действия симметрично противопоставляется комическому разворачиванию<br />
действию второстепенному. Все положительные события серьезной области<br />
сюжета воспроизводятся заново в ничтойности комического и через этот параллелизм<br />
усиливают их пафосный эффект. Эта манера преобладает в английском, и особенно в испанском<br />
театре. Шекспир исключил ее из области великой трагедии. А Кальдерон, ставивший<br />
перед собой задачу решить условные моральные <strong>проблем</strong>ы, использует ее почти<br />
повсюду. Даже в религиозных драмах, как, например, в «Волшебном маге», он подчиняет<br />
эволюцию трагического отражению в зеркале комического.<br />
Эти же безобразные детерминанты асимметрии становятся комическими, когда они<br />
будто снова приобретают положительный характер, но эта претензия иллюзорна. Исследуя<br />
безобразное и только намекая на его прогрессию в смешное, мы не будем углубляться<br />
в природу комического как такового. Но необходимо представить способ, в котором,<br />
посредством ложного, антагонистического контраста логики симметрии, асимметрия<br />
превращается в дисгармонию. Как и в асимметрии, соотношение противоположных часкарл<br />
розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть первая<br />
81
тей в симметрии еще спокойно. Но если эта оппозиция напрягается, она становится контрастом.<br />
Как известно, контраст относится к одному из главных эстетических приемов.<br />
С количественной точки зрения он может состоять из противоречивых в самих себе детерминаций,<br />
но, будучи слабым и сильным, бледным и сверкающим, качественно контраст<br />
может обладать большим количеством степеней. Принятие решения относительно того,<br />
какой именно контраст больше подходит для определенного случая, зависит от конкретной<br />
ситуации. В различных перспективах для одной и той же сущности возможны различные<br />
противоречия, но во имя истинности особенностей каждой из них является имманентным<br />
некоторое абсолютное противоречие, содержащее собственное тотальное<br />
отрицание: жизни противостоит смерть, истине — ложь, красоте — безобразное и т. д.<br />
А в качестве относительного противоречия жизни противостоит болезнь, истине — заблуждение,<br />
красоте — комическое и поэтому все эти детерминации обладают и другими противоречиями,<br />
которые противостоят им абсолютно. Болезнь является также сокращением жизни<br />
— она противостоит жизни в той степени, в которой жизнь в принципе должна быть здоровой.<br />
Поэтому в аспекте жизни абсолютным противоречием болезни является здоровье. Точно<br />
также заблуждению абсолютно противостоит объективная истина, а комическому — трагическое.<br />
В срезе таких дифференциаций становится возможным противопоставление<br />
и других детерминаций, которые с самими собой не соотносятся ни в абсолютных, ни в относительных<br />
взаимных противоречиях, но между которыми может возникнуть искусственное<br />
противоречие — иногда под абсолютной, иногда под относительной формой.<br />
С формальной точки зрения, абсолютное может вступить в противоречие с абсолютным,<br />
абсолютное с относительным, а относительное с относительным. В реальности такие<br />
отношения могут приобретать многообразные проявления.<br />
Здесь не место настаивать на эти общие определения, которые относятся, в частности,<br />
к метафизике, общей логике и, в особенности, к эстетической спекуляции. Я упомянул их<br />
постольку, поскольку необходимо отличить ложный, считающийся безобразным контраст<br />
от контраста действительного, относящегося к прекрасному. Ложный контраст<br />
возникает, прежде всего, из-за того, что на место требующей осуществления оппозиции<br />
возникает лишь различие, ибо это является неточной, неспособной породить силу различенностью.<br />
Полихроническое различие многообразия вполне может быть эстетически<br />
оправдано, но если оно предлагается там, где должно было предстать как контраст, его<br />
будет недостаточно. В каком бы количестве не будет представлено, различие не в силах<br />
удовлетворить вызванный контрастом интерес. Если в романе представлено множество<br />
персонажей, развивается много событий, но это многообразие ситуаций не сопряжено<br />
с контрастом действий и судеб, то вскоре оно наскучит до отвращения. Или же если некоторая<br />
картина сверкает многообразием красок, но в ней отсутствует энергия цветового<br />
контраста, то вскоре наш взгляд устанет от этого простого беспорядка. Не испытывая<br />
сожаления по поводу произведенной этим многообразием притягательности, контраст<br />
может родиться даже на том же основании.<br />
Контраст порождает только противопоставление положительного и отрицательного,<br />
то есть равенство, которое, для того, чтобы развиваться, должно стать неравенством с самим<br />
собой вплоть до конфликта с собой и распада. Таким образом, различенное должно<br />
в то же время быть тождественным — посредством единства оно должно предстать в оппозицию<br />
и к самому себе. Чем больше развивается во взаимодействии, тем красивее оно<br />
становится. Если возникает определенная оппозиция и если на одном полюсе вместо<br />
тождественного отрицательного располагается нечто отличное, тогда мы имеем дело<br />
с простым саморазличением. К примеру, в произведении «Роберт дьявол» черт только<br />
отличается от своего сына, поскольку, как дьявол, он должен был бы его ненавидеть,<br />
но этот «чужой», в противоречии со своей дьявольской природой и во имя своей отцовской<br />
сущности, любит своего сына, что означает, что через любовь к сыну, дьявольское<br />
аннулируется. Оно не может контрастировать с добром, хотя должно осуществлять это<br />
постоянно, а сентиментальный черт смешон. В этом случае имеем дело с искаженным контрастом.<br />
На месте необходимого контраста возникло простое отличие. Этот контраст<br />
не только размыт, но и ложен.<br />
Впоследствии же контраст становится безобразным из-за того, что противопоставление<br />
переступает за пределы определенной границы напряженности. Только эта форма<br />
контрастных сторон становится гонкой за эффектом. Искусство не доверяет простой<br />
правде, а интенсифицирует крайности с целью задевания наших чувств и переживаний.<br />
Оно преследует цель достижения эффекта любой ценой, и поэтому не может оставлять<br />
за созерцающим никакой свободы. Зритель должен быть покорен, а контраст представляет<br />
важное средство для достижения этой цели. Забота же о том, чтобы он не оказался незамеченным<br />
со стороны пресыщенного и бесчувственного восприятия, требует, чтобы<br />
контраст покорял. Поэтому контраст должен быть пронизывающим, кричащим. Естественный<br />
предел здесь нарушается посредством обмана с целью крайнего возбуждения нервов.<br />
Такое структурирование искусства, подобно тому, которое предлагает наша современная<br />
музыка, уродливо. Вольтер продемонстрировал подобное отсутствие вкуса, когда<br />
переработал драму «Юлий Цезарь» Шекспира для французской сцены. Он не ограничился<br />
тем, что, как республиканец, Брут пребывает в противоречии с претендующим на единую<br />
власть консула и диктатора Цезарю — Вольтер превратил Брута в родного сына<br />
Цезаря при обстоятельствах, когда оба знали об этом. Таким образом, он усугубил политическое<br />
убийство, доводя его до отцеубийства и, чтобы завершить свое произведение,<br />
вымарал битву при Филиппах, в которой, в противовес Бруту, тень Цезаря демонстрирует<br />
историческую правду.<br />
Как уже говорилось, истинный контраст содержит в себе оппозицию как форму неравенства<br />
тождества. Так красный цвет равен зеленому относительно цвета как такового,<br />
белое и черное равны в отсутствие цвета, добро и зло равны в контексте свободы, твердое<br />
и жидкое — в контексте материи и т. д. Напротив, ложный контраст происходит из тотальности<br />
качественных различий и представляет оппозицию такого рода, когда чему-то<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
82<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть первая<br />
83
1 Раздавленный собственной тяжестью (лат.).<br />
фантильностью отсутствия опыта, который еще играется с границами и ограничениями<br />
бытия, а рафинированностью пресыщенного безумия. С целью показа каким образом<br />
черт воплощает реальный контраст со своим сыном раньше говорилось о персонаже Бертраме<br />
из произведения Скриба и Ж. Ф. Делавиня «Роберт бес», но он не контрастирует<br />
с Алисой, так как она является «нормандской юной девушкой», а не демоном, как он сам.<br />
Но пикантный аспект должен заключаться как раз в том, что черт имеет сына, которого<br />
нежно любит и именно поэтому хочет извратить, чтобы во имя этой фатальной любви сделать<br />
товарищем по аду. К примеру, в третьем акте, сцене девятой, эта любовь приводит<br />
к тому, что он поет:<br />
О, мой сын, о, Роберт! Для тебя —<br />
Самого ценного, что у меня есть —<br />
Я борюсь с самим небом<br />
И презираю ад.<br />
Во имя славы, которая ушла,<br />
Во имя блеска, который угасает<br />
Ты был моей единственной отрадой,<br />
В тебе я находил свое утешение!<br />
Этот совершенно не черт становится интересным именно из-за родительского чувства.<br />
Конечно же, любящий, находящий себе отдохновение и утешение в сыне черт не существовал<br />
[20].<br />
Разумеется, критика часто оказывалась в тупике относительно сложностей произведений<br />
такого рода, когда ложное противоречие пытается маскироваться. Через дискуссию<br />
вокруг «Марии Магдалины» К. Ф. Хёббеля мы имеем в Германии очень подходящий<br />
пример способа, из-за которого ложные контрасты считались высшей формой красоты.<br />
Конечно же, эта драматическая повесть довольна печальна. К сожалению, такие повести<br />
встречаются ежедневно и наши газеты перенасыщены подобными материалами. Но данная<br />
повесть не трагична, как утверждает Хёббель в предисловии, и как ее считают экзальтированные<br />
и восторженные почитатели. То, что в этом случае только грустно, было<br />
представлено трагическим и ложным контрастом, с претензией придать ему такое значение.<br />
Суровый старый плотник Антон отказывается пить со служителем трибунала, грубит<br />
ему и тот, чтобы отомстить за себя, пишет на его сына донос, в котором объявляет его вором.<br />
Последнего заключают в тюрьму, и отец верит в его виновность. Узнав об этом, его<br />
мать умирает от печали. Дочь плотника, Клара, любила юношу, уехавшего учиться в университете,<br />
и, кажется, забывшего о ней. Она связывается с Леонардом, человеком холодным,<br />
расчетливым, ординарным. Чтобы заставить себя остаться верной, она отдается ему<br />
и беременеет. Но видя шанс обеспечить свое благосостояние в другой женитьбе, Леонард<br />
бросает ее. В это время открывается невиновность сына, который нанимается моряком<br />
и уезжает в Америку. Первый возлюбленный Клары возвращается, его любовь осталась<br />
неизменной, и он хотел бы жениться на ней, но, увы, она ждет ребенка.<br />
«большому» мы противопоставляем не прилагательное «маленькое», а незначительное,<br />
меньшее, слабое. Ибо незначительному противостоит важное, значительное, превосходное<br />
или основательное, а слабому — мощное, сила. Поскольку эти состояния также пребывают<br />
в определенном отношении и обладают способностью стать синонимами, становится<br />
понятным, почему даже у талантливых творцов может просочиться ошибка. Наша<br />
современная лирика породила много контрастов такого рода, которые можно сразу же<br />
распознать даже в случае поэзии А. Грюна. Даже в прелестном заслуженно любимом стихотворении<br />
«Последний поэт» просочились ложные оппозиции, как, например, в следующих<br />
строчках:<br />
Сколько времени еще будет шелестеть лес,<br />
Даря прохладу усталому путнику.<br />
Усталости противопоставляется отдых, прохладе — жара. Но усталость и прохлада<br />
не согласуются между собой. Шелест листвы как обрисовка леса контрастирует с молчанием<br />
равнины, или даже с тишиной самого леса. Возможно, поэт захотел выразить много<br />
аспектов. Движением шуршащих ветвей должен был освежить уставшего от жары открытых<br />
равнин путника, но этот образ передан неточно.<br />
Напротив, пронизывающий контраст усиливает напряжение средствами, которые со<br />
всех сторон разворачивают реальную положительную оппозицию, обусловливая, таким<br />
образом, развитие некоторых новых интересов, вместо того, чтобы, в согласии со своим<br />
стремлением, подчеркивать ее. Moli mil sua 1 — можно сказать о таком эффекте. Когда,<br />
желая сохранить республику, в которой видел необходимую форму римского государства,<br />
Брут клянется убить Цезаря, в этом представлен синтез огромного политического<br />
кризиса эпохи. Брут должен пожертвовать своей любовью к Цезарю для того, чтобы остаться<br />
верным своему долгу перед родиной. Но когда Вольтер превращает Брута в сына<br />
Цезаря, он превращает его фактически в нравственного монстра. Такое искажение благочестия<br />
само по себе настолько ужасающе, что от него кровь стынет в жилах. Таким образом,<br />
нам представлены два элемента, которые привлекают внимание — римская преданность<br />
государству и благочестие. Шекспир не лишил Брута качеств, способные отягощать<br />
его решение убить Цезаря, но это не мешает ему довести до логического конца акт предательства,<br />
а ударение ставится на политическом аспекте.<br />
При определенных условиях пронизывающий контраст может стать даже красивым,<br />
но он становится уродливым, если не порождается тождеством единства с самим собой.<br />
Такая трансценденция основания может придать ему пикантности. Виртуозно используя<br />
пикантности, О. Э. Скриб и Э. Сю искажают любое истинное искусство. Большая парижская<br />
Опера одержима желанием достигать оригинальности посредством синтеза гетерогенных<br />
противопоставлений. Присутствующая здесь невозможность поражает мысль<br />
своей неистинностью и застает врасплох нашу фантазию. Но не наивностью сказки, инмария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
84<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть первая<br />
85
«Ни один мужчина не вынесет этого», — восклицает он. Тщетно умоляет Клара Леонарда<br />
жениться на ней — он презрительно ее отталкивает, обвиняя в том, что она отдалась<br />
не из страсти и что ее сердце любит другого. Бывший возлюбленный Клары, теперь уже обладатель<br />
диплома доктора, вызывает Леонарда на дуэль, и они убивают друг друга. С выраженным<br />
сарказмом и иронией старый Антон не верит в скромность своей дочери.<br />
Он грозится, что в случае, если она его опозорит, он перережет себе горло. Зная о своем<br />
отчаянном положении и из любви к отцу, Клара бросается в колодец. Но отец не перерезает<br />
себе горло, как это сделал бы какой-либо Като из буржуазной мелодрамы, и не сходит<br />
с ума от страдания — для этого он слишком рассудочен, а завершает пьесу саркастической,<br />
лишенной всякого содержания фразой: «Я уже ничего не понимаю в этом мире».<br />
Эта драма состоит из смеси фальшивых контрастов. Сын и мать, сын и отец, дочь<br />
и отец, любимый и любимая — все находятся в фальшивых отношениях. Здесь нет ни одного<br />
отношения, которое не приняло бы уродливый оборот — родительская тирания,<br />
кража, утрата невинности, отсутствие чести, неверность, дуэль, самоубийство, предпринятое<br />
с должной предусмотрительностью. Центральным пунктом должна была быть Клара.<br />
Но как можно считать ее трагическим персонажем, если она бросается в объятия<br />
такого бессердечного типа как Леонард! Если бы он был благородным человеком, тогда<br />
был бы возможным трагический контраст между ним и доктором. Но в их отношении<br />
к Кларе отсутствует цельность. Возможно, мог бы существовать контраст между Кларой<br />
и доктором, но каким образом, если в связи с Леонардом она предает свою истинную любовь<br />
и даже, в результате глупого каприза, жертвует своей девственностью? Не имеет<br />
значения, какими приемлемыми аргументами хотел бы автор облагородить эту связь —<br />
она является и остается глупой. Конечно, наша героиня достаточно несчастна. Но если<br />
на протяжении пяти актов мы постоянно слышим тихо плачущую или с пафосом жалующуюся<br />
девушку и когда она сама рассказывает, как отдалась человеку, которого в глубине<br />
души и не любила, то есть не вследствие страсти или опьянения чувств, то испытывать<br />
к ней сострадание невозможно. С большой преданностью и выразительным поэтическим<br />
языком Хёббель описал этот несчастный случай, который каждый день может повториться<br />
в непосредственной близости с нами. Но ему удалось только то, что, на фоне описанного<br />
убожества, мы захотели стремиться к высокой истине, к очищающей страсти через<br />
ужас и сострадание истинной трагедии.<br />
То, что уродство фальшивого контраста может легко перейти в комическое, можно<br />
уже было прочесть между строк во всем вышесказанном. Необходимо все же двигаться<br />
дальше посредственного, сильнее подчеркивать искомый эффект и возникнет смешное,<br />
как, например, несмотря на музыку Джакомо Мейербера, многие от души смеялись над<br />
страданиями бертрамовского черта в «Роберте-бесе».<br />
Фальшивый контраст представляет собой уже внутренний разрыв симметрии, реализуемый<br />
через противоречие переход в диссонанс.<br />
В. ДИСГАРМОНИЯ<br />
Симметрия не является последней формальной детерминацией прекрасного, потому<br />
что в равенстве повторений существует некоторый, приятный сам по себе смысл, но который<br />
является и внешним, и скучным, точно так же, как различия простой закономерности.<br />
Египетское искусство представляет собой грандиозное зрелище эстетической монотонности,<br />
которая на уровне закономерности и симметрии не возвысилось до уровня<br />
свободных форм. Из-за того, что, к примеру, фигуры иероглифов нуждаются в индексе,<br />
понимающийся при условии, если они читаются слева направо или наоборот, они должны<br />
согласовываться в одном или в другом из изменений направлений записей. Отсюда эти<br />
широкие поверхности стен, на которых все — иногда тысячи фигур — представлены<br />
в профиль и направлены в одну сторону, это особенно утомляющее изображение, с которым<br />
контрастируют только фигуры, расположенные анфас у входных ворот. Поэтому,<br />
часто при помощи некоторого насилия природа и искусство стремятся к преодолению<br />
окостенелости симметрии. Для достижения гармонии больших пропорций, мысль гения<br />
без сожаления жертвует закономерностью и симметрией подчиненных пропорций, как<br />
можно констатировать в случае больших архитектурных концепций, например, в случае<br />
прекрасного Мариенбургского замка [21], в музыке в случае с сонатами Бетховена, или в<br />
поэзии в случае с конструкциям исторических драм Шекспира. Прекрасное может развивать<br />
противоположности вплоть до конфликта противоречия в той степени, в которой<br />
предоставляет противоречию возможность отрицать себя, переходя в новое тождество,<br />
потому что именно через это угасание конфликта утверждается гармония. Конечно, простое<br />
единство прекрасно само по себе, поскольку оно удовлетворяет первое условие любой<br />
эстетической конфигурации — именно представляющей нечто целое. Но простое<br />
единство еще неполно и по этой причине способно стать безобразным, в частности, из-за<br />
отсутствия внутреннего саморазличия и неопределенности противоположностей размытого<br />
тождества. В качестве многообразия, различие может развиваться до уровня прекрасной<br />
вариативности, но из-за отсутствия некоторого порядка, простое многообразие<br />
как внешнее искусственное различие, может регрессировать в хаотическое и путанные<br />
состояния, аморфность которых подводит действие прекрасного под различенность некоторого<br />
общего правила. Таким образом рождается закономерность как равное повторение<br />
тех же различий, но именно эта закономерность может стать уродливой сразу же,<br />
как исчерпывает себя исключительная форма некоторой эстетической целостности, из-за<br />
чего прекрасное должно превратить простое различие в точную и обусловленную различенность.<br />
Позитивное и негативное конституируются через инверсацию находящихся<br />
в равенстве с самими собой моментов, как симметрия как таковая, соотношение которой<br />
в-себе самой прекрасно. Если симметрия отсутствует там, где она предполагается самим<br />
принципом формы, или если отсутствует половина формы, которая раньше была достигнута<br />
симметрией, или же если она присутствует, но в искаженном виде, нарушая через<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
86<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть первая<br />
87
внутреннее противоречие установленное равенство единства противоположностей, снова<br />
рождается безобразное. Образование противоречия не отрицает прекрасное. Подлинный<br />
контраст относительности с относительностью, относительного с абсолютным, абсолютного<br />
с абсолютным прекрасен. В любом эстетически-динамическом элементе столкновение<br />
выражает максимальную точку развития, но ложный контраст становится безобразным,<br />
поскольку противопоставляет нечто, что, через тождество собственной сущности,<br />
не предназначено противоречить себе и через-себя. Подлинное противоречие должно<br />
содержать в себе противоположность тождества с самим собой, потому что оно содержит<br />
в себе возможность собственного самоотрицания, а через свою коллизию, дисонанс<br />
позволяет увидеть тождество как самодифференцирующееся в себе самом. То, что рождающееся<br />
из единства, различения, закономерности, симметрии, контраста безобразное<br />
может прейти в комическое уже было показано.<br />
Как эстетический фактор тождество достигает полноты тем, что, пребывая вместе<br />
в свободном взаимодействии, противоположности конституируются как живые моменты<br />
целого. Не только тождество должно представлять себя как самообусловливающееся<br />
в отношении своих саморазличий, но и эти саморазличия должны обладать характером<br />
самообусловленности. Это принцип единства как гармонического единства. Гармония<br />
не является простым независимым абстрактным единством, она не является и единством,<br />
которое делится на внешние, безразличные друг другу противоположности — напротив,<br />
она представляет собой ту тотальность, которая свободно продуцирует собственные различия<br />
для того, чтобы впоследствии реинтегрировать их в себе, тотальность, которая,<br />
в соответствии с моделью природы, органична. Она в состоянии преодолеть противоречие,<br />
в которое входят ее различия. Древние греки настолько ценили гармонию, что полностью<br />
подчиняли ей индивидуальные особенности, в то время как современники стремятся<br />
подчинить гармонию индивидуальным частностям. Если, к примеру, обратимся к помпейским<br />
фрескам, заметим, что гармония красок настолько важна, что в отдельной комнате<br />
фундаментальный хроматический тон преобладает в самых мелких деталях. Во введении<br />
в античное изобразительное искусство [22] Х. Т. Хеттнер блестяще показал, что исключительно<br />
из перспективы этого высокого чувства гармонии могут быть объяснены противостоящие<br />
природной истине аномалии, которые можно найти в их настенной живописи,<br />
когда люди или животные изображены в несвойственном их природе колорите. При<br />
более внимательном изучении заметим, что такие отклонения от природы обусловлены<br />
гармонией, в которой господствующий цвет стены и центрального изображения согласован<br />
с боковыми изображениями и орнаментами. Древние греки превращали стену в живую<br />
оптическую целостность, из которой должны были выводить цветовую гамму и все<br />
отдельные составляющие пластической композиции.<br />
Как и во всех второстепенных случаях, понятие гармонии используется и для таких<br />
уровней тождества, которые являются лишь его моментами. Чистота некоторой простой<br />
детерминации, одного цвета, тона, поверхности уже считается гармониченой. Не менее<br />
гармоничной является мера удачного симметрического порядка. Но рассмотренное более<br />
строго, мы охарактеризуем как гармоническое только то единство, противоположности<br />
которого обладают генетическим характером. Не только пропорциональность его взаимоотношений,<br />
но и их характер должны быть гармоничными. Насколько многообразнее противоположности<br />
целого, насколько каждая из них самостоятельнее в-себе и насколько<br />
ближе их сотрудничество в реализации гомологического тождества — общего, настолько<br />
гармоничнее впечатление, котрое они вызывают. Гармоническое произведение повторяет<br />
сущность целого в каждом из своих различий, все же вдыхая в них собственную душу.<br />
Оно не задумваясь растворяется в многообразии противоположностей, потому что знает<br />
как воссоединить их под видом отдельных моментов целого, которые — в их индивидуальности<br />
— в одном и том же отношении нуждаются друг в друге и в целое. Следовательно,<br />
дисгармония рождается из гармонии как самоинверсация последней, потому что без<br />
возможности постулировать гармонию определенной структуры, мы не можем говорить<br />
и о ней. То, что тождественно, мертво, лишено противоречивости, безразлично идентично<br />
с собой, не может еще быть субстратом дисгармонии — дисгармония возникает только<br />
в случае взаимодействия единого и многого, содержания и формы, общего и частного.<br />
Отсутствие гармонии будет ощущаться тогда, когда, ожидая встретить живое единство,<br />
встретим единство абстрактное, но в этом случае мы имеем дело только с положительной<br />
дисгармонией. Отсутствие некоторого свободного многообразия не красиво, но оно<br />
еще не представляет ни одно из дифференциаций единства. Если единство саморазличается,<br />
а его различия не растворяются друг в друге, они остаются внешними по отношению<br />
друг к другу, и в таком случае будет чувствоваться отсутствие гармонии. Но и в этом случае<br />
еще нет позитивной дисгармонии, но мы уже в преддверии некоторой дисгармонии,<br />
поскольку различия, пребывающие в состоянии простой рядоположенности и несогласованности,<br />
заставляют единство впасть в плюральность. Сами различия единства становятся<br />
независимыми, не взаимодействующими между собой. Поэтому, вместо того, чтобы<br />
быть гармоничным, единство предстает во всей рыхлости простой совокупности. Самые<br />
неприятные эмоции вызываются этим феноменом в театральном искусстве, где распространено<br />
такое искажение формы при отсутствии общности интерпретаций. В таком случае<br />
каждый актер на сцене играет свою роль так, как будто остальные его совершенно не интересуют.<br />
Индивидуальная игра каждого актера не согласовывается с целым, действие<br />
постоянно запинается и из-за отсутствия целостности предстает скучным и холодным,<br />
а временами, когда актеры слишком зависимы от суфлера и только громче повторяют то,<br />
что зал уже услышал из хриплого шепота его замогильного голоса, впечатление почти такое<br />
же, как то, которое внушают нам больные какого-либо приюта для умалишенных,<br />
которые тоже играют роль в тотальном безразличии к остальным.<br />
Если единство противоположностей самоотрицается тем, что противоположности<br />
входят в противоречие без реинтеграции в единство, тогда возникает такое раздвоение<br />
единого, которое предпочтительнее называть дисгармонией. Противоречие такого рода<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
88<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть первая<br />
89
безобразно, поскольку оно изнутри разрушает фундаментальное условие любой эстетической<br />
структуры — единство. Правда, что дисгармония в себе безобразна, но необходимо<br />
отличать дисгармонию, которая, выражая определенную необходимость, все же<br />
красива, от случайной дисгармонии, которая безобразна. Необходимая дисгармония<br />
представляет собой конфликт, который может родиться через оправданное столкновение<br />
так называемых эзотерических, вплетенных в единство особенностей; случайная дисгармония<br />
представляет собой крайнюю эзотерическую противоположность, которая навязывается<br />
некоторому единству. Посредством мощного разрыва необходимое противоречие<br />
раскрывает глубину единства. Мощь основания становится тем более выразительной,<br />
чем больше дисгармония, над которой она торжествует. Но раздвоение не только должно<br />
сохранить общность с единством, но и должно опредметить негативное отношение<br />
единства к себе самому, потому что только при этих условиях возможно воссоздание<br />
тождества. Таким образом, раздвоение единого прекрасно не через его негативность как<br />
таковую, но через единство, которое в этом раздвоении проявляет энергию как силу внутренней,<br />
спасительной и обновляющей связи.<br />
Как справедливо утверждал Кант, прекрасно то, что необусловлено воспроизводит<br />
мир и, таким образом, безобразно то, что обусловленным образом разрушает мир. Следовательно,<br />
дисгармония может вызвать сильный интерес, не будучи прекрасной — в этом<br />
случае назовем ее интересной. То, что не скрывает в себе противоречие, нельзя считать<br />
интересным. Простое, легкое, ясное не интересны; в свою очередь, величественное, высокое,<br />
священное слишком превосходны для такой характеристики — они более чем интересны.<br />
Но сложное, противоречивое, двусмысленное, даже неестественное, необычное,<br />
преступное, даже безумие интересны. Бродящее в волшебном очаге противоречия беспокойство<br />
обладает магической притягательной силой. Существуют писатели, которые часто<br />
путают интересное и поэтическое, и которые так хорошо умеют идеализировать интересное<br />
через собственное духовное богатство, через искусство изображения, что приближают<br />
его к идеалу. Такие авторы, наподобие Вольтера и Гуцкова, лучше всего схватывают<br />
противоречие вещей. Но они менее успешно изображают генезис или раздвоения противоречия<br />
и этим объясняется, почему они обращаются больше к разуму и фантазии, чем<br />
к чувству, которое, хотя и может попасть под впечатление от водоворота дисгармонии,<br />
все же хочет быть причастным к торжествующему характеру гармонии. Подлинная дисгармония<br />
представляет собой переходный освободительный момент основания, но ложная,<br />
и поэтому безобразная дисгармония представляет собой видимость раздвоения единого,<br />
она — искусственно привнесенное противоречие. Она не будет являть возникновение<br />
некоторого подлинного бытия, а предстанет явлением небытия, которое становится,<br />
таким образом, абсурдным. Каждый раз, когда в упоминаемой «Марии Магдалине» Хёббеля<br />
Клара появляется на сцене, мы чувствуем постоянное противоречие между тем, кто<br />
она есть реально и тем, кем она хочет и даже должна быть. Как ни благородны и красивы<br />
ее слова, они не обладают глубиной, потому что постоянно заставляют думать: но ты бемария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
90<br />
ременна и сама этого хотела! Клара, эта северная немка, по сути своей не отличается<br />
от Флер де Мари из «Парижских тайн» Э. Сю. Эта рожденная принцессой насмешница,<br />
с ее свежим, звонким голосом, наивной стеснительностью, с ее любовью к природе,<br />
ангельским характером, должна была бы представлять собой идеал. Но чем больше открывается<br />
нам ее привлекательность, тем сильнее чувствуется дисгармония факта, так<br />
как впервые мы встречаем эту девочку в непристойном районе Парижа, где, несмотря<br />
на то, что является подругой бравой, чистой Ригалетт, она, при отсутствии работы и после<br />
того, как потратила деньги, предается апатичной распущенности. Она предается<br />
пьянству и проституции. Конечно, рожденная в городском борделе принцесса — феномен<br />
интересный, но мало поэтичный. Ни мы, ни она сама уже не можем постичь вину ее безнравственного<br />
поведения, а Сю проявил такт, оставив ее, незамужнюю, умереть от туберкулеза<br />
в доме своего отца, представляющего аллегорию немецкого герцога Рудольфа [23].<br />
Подлинная дисгармония становится безобразной, когда ее отрицание ложно, потому<br />
что в этом случае возникает очевидное противоречие в противоречии. Наше логическое<br />
развитие противоречия полностью обнаружило закономерность активного тождества<br />
в контексте этого противоречия и созерцание этой внутренней необходимости доставило<br />
удовлетворение, потому что мы увидели, как гармония растворяет в себе дисгармонию,<br />
вместо того, чтобы она двигалась к несоответствующему принципу от начала к концу<br />
и становилась, таким образом, безобразной. Это случилось у Р. Э. Прутца в «Кароле Бурбонском»,<br />
хотя он, как правило, владеет ясным стилем. Вместо того, чтобы остаться верным<br />
поэзии истории, чтобы дать возможность своему герою погибнуть под стенами Рима<br />
застреленного Бенвенуто Челлини во время войны против папы, он заставляет его умереть<br />
несколько лет раньше в битве при Павии от отравления ядом, который был всыпан<br />
ему из кольца будто бы возлюбленной, убежавшей из монастыря и блуждающей в окрестностях<br />
битвы. Раненый, обессиленный, обманутый в надежде поправиться при помощи<br />
прохладительного напитка, великий полководец тихо угасает, не упустив возможность<br />
произнести потухшим голосом большую речь. Какой грустный и сентиментальный контраст<br />
с первым храбрым появлением, в котором он возвращал королю право на благосостояние<br />
и славу Франции. Какая дисгармония! Какая ложная гармония в том, что жалкая<br />
отравительница, несчастное романтическое создание, отравляется сама. Быстрая пуля,<br />
попадающая в пылу битвы в мужественное сердце, как это было на самом деле — вот<br />
единственный гармонический и поэтический финал. Романтизм часто позволял себе подменять<br />
объективное разрешение конфликта, вытекающее из него самого, разрешением<br />
субъективным и надуманным, которое обманывает наши ожидания. Необходимо все же<br />
помнить, что в созерцание природной или художественной форм прекрасного мы недостаточно<br />
свободны. Чем точнее должны быть эстетические принципы, тем неукоснительнее<br />
мы должны оберегать их истинность, тем снисходительнее мы можем быть перед конкретным<br />
воплощением прекрасного, когда оно включает в себя разные и противоречивые<br />
аспекты. Выше мы провели отличия между интересным и поэтическим. И все же, во избекарл<br />
розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть первая<br />
91
ровать вместе с Джулией в Америку, он исчезает. Совсем не по-итальянски! Но он настолько<br />
недалек, что не открывает девушке эти планы на будущее, а, заболев, вынужден<br />
долгое время скрываться. Время идет. Джулия обнаруживает, что ждет ребенка, но как<br />
представительница самой высокопоставленной касты в городе, на празднике святой Розалии<br />
— королевы невинности, она должна олицетворить ее. Отчаявшаяся девушка не в<br />
состоянии выдержать это противоречие и бежит из дому, блуждая по стране в надежде<br />
умереть где-нибудь. Вместо того, чтобы утопиться, как поступила героиня «Марии Магдалины»<br />
Хёббеля Клара, вместо того, чтобы, подобно Лукреции, вонзить себе кинжал<br />
в сердце, вместо того, чтобы, подобно Виржинии, позволить отцу убить ее, вместо того,<br />
чтобы, подобно шекспировской Джульетты, принять снотворное, она окликает в лесу<br />
бандита, протягивает ему деньги и довольно странной речью дает ему понять, что тот окажет<br />
услугу, если убьет ее. Но в это мгновение рождается катастрофа. В гуще леса прячется<br />
молодой, богатый и чрезвычайно странный немецкий барон, преследуемый благородной<br />
любовью к человечеству. Его здоровье настолько разрушено, что он знает — жить осталось<br />
недолго. Но, поскольку, как подтверждает и его слуга Кристоф, он все же очень<br />
хороший человек, то желает посвятить остаток жизни полезному, по возможности наиболее<br />
благородному делу. К сожалению, его разум помутнен, но провидение заботится<br />
и о безумцах. С удивлением он созерцает сцену готовящегося убийства, вмешивается в решающий<br />
момент, обращая в бегство честного бандита Пьетро громким криком: «Парень!»<br />
От Джулии он тут же узнает о сути дела и радуется поводу совершить что-либо хорошее<br />
в своей никчемной жизни. И вот, он решается жениться на беременной Джулии, чего не<br />
смог осуществить возлюбленный Клары из «Магдалины» Хёббеля, поскольку ни один<br />
«мужчина» не может «проглотить» такое, но для рафинированного барона не имеет никакого<br />
значения. Он выше, свободнее, потому что теперь, накануне смерти, он мечтает<br />
о возвышенном поступке и желает вернуть этой девушке честь и спокойствие — а разве<br />
это не подлинный возвышенный поступок? Между тем старый отец узнает о бегстве дочери<br />
и, симулируя ее смерть, вводит город в заблуждение при помощи пустого гроба, —<br />
фарс, в котором его поддерживает семейный доктор Альберто, который, как друг семьи,<br />
вначале был тайно влюблен в маму Джулии, а потом и в саму Джулию. Но вместе с Джулией<br />
появляется барон Бертрам и старик вынужден благословить своего зятя. А красавец<br />
Антонио, из-за любви ведущий образ жизни отшельника, также возвращается и, конечно<br />
же, сначала разражается гневом, пока ему не объясняются прекрасные, но не очень чистые<br />
намерения Бертрама. В последнем акте находим всех счастливо живущих вместе в одном<br />
из тирольских дворцов барона: Джулию с Бертрамом в качестве мужа, рядом с ее<br />
любимым Антонио и платонически влюбленным Альберто. Правда, Бертрам пребывает<br />
под сильным воздействием бесконечной красоты и доброты своей молодой жены, но обещает<br />
ей вести себя разумно. Он отправляется в Альпы охотиться за черными козами.<br />
А что дальше? Не проходит и месяца, как вернувшись перед смертью к Джулии и Антонио,<br />
он просит обещать ему, что они будут счастливы вместе.<br />
жание его ложного понимания, отметим, что, непосредственное, подлинно поэтическое<br />
одновременно может быть и интересным. Существуют ужасающе крутые, но в то же время<br />
и прелестно очерченные горы, которые не могут считаться прекрасными или безобразными<br />
в значении чистого идеала и его отрицания, но которые, обладая внушающей удивительное<br />
волнение поэтичностью, считаются интересными. Встречаются также здания,<br />
в которых настолько удачно слиты стили разных эпох, что, несмотря на гетерогенность<br />
собственных компонентов, они все же обладают особенно интересной дисгармоничногармоничной<br />
целостностью. И в этом же смысле, встречаются стихи, которые не относятся<br />
ни к какому конкретному стилю, и которые с эстетической точки зрения не должны<br />
были бы воздействовать в полной мере, но которые приобретают подлинное и высокое<br />
поэтическое качество. «Паломничество Чайльд-Гарольда» Байрона не является ни эпопеей,<br />
ни мелопеей, как и дидактически-описывающем стихотворением или элегией, — это<br />
интересный синтез всех этих стилей.<br />
Поскольку дисгармония обусловлена саморазорванностью некоторого единства и поскольку<br />
в своей ложной фундаментальности и своем ложном разрешении включает все<br />
моменты формального безобразного, она становится более мощным средством комического,<br />
чем предыдущие формы перехода к безобразному. Любое простое отстранение,<br />
любое ложное отрицание, любое фантастическое завершение противоречия вместо имманентного<br />
саморазвития ее необходимости находится уже на пути к тому, чтобы стать<br />
комичным. В произведениях такого рода комическое производится не в них самих, а в<br />
другом, обманутом собственной мистификацией сознании, противоречие которого обладает<br />
слишком серьезной природой, чтобы его ложное развитие и кажимое разрешение<br />
могли вызывать веселое оживление. Поскольку комическое должно привести к растворению<br />
в весельи мрачности плохого настроения и должно быть независимым от какой-либо<br />
серьезности, произведения упомянутого выше рода будут безобразными. При помощи<br />
своей «Джулии» Хёббель, певец пессимизма и странностей, как удачно назвал его А. Хенненбергер<br />
[24], представляет способ, каким трагическое, когда оно не умеет подготовить<br />
кульминационную точку собственного противоречия, или разрешить это противоречие<br />
конкретно, превращается в комическое, но, поскольку комическое остается еще строгим<br />
и важным, оно остается и безобразным. Главарь бандитов Антонию хочет отомстить<br />
за своего отца Гримальди, осужденного за то, что также был главарем банды; Антонио<br />
хочет отомстить богачу Тобальди, считая его виноватым в том, что его отец был отправлен<br />
в ссылку. Как он начинает мстить? Принимает решение обесчестить дочь Тобальди.<br />
Начинает ухаживать за ней, при том, что она ничего не знает о его преступных действиях,<br />
и в скором времени девушка влюбляется в молодого красавца. Впоследствии, с целью<br />
лишить чести ее отца, он обесчестил ее. Чисто в итальянской манере, более чем дьявольски!<br />
Но в процессе соблазнения ненависть превращается в любовь и, как следствие, полностью<br />
меняется моральная установка молодого человека. С целью порвать с бандой<br />
и стать достойным членом буржуазного общества, а также надеясь впоследствии эмигримария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
92<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть первая<br />
93
Джулия: И что теперь?<br />
Антонио: Теперь мы должны спросить себя имеем ли мы еще право быть счастливыми?<br />
Джулия: Спросить себя, если еще можем быть счастливыми?<br />
Конец<br />
сиада из «Облаков» Аристофана, этого уважаемого, желающего изучать философию<br />
у Сократа-афинянина. И для чего? Для того, чтобы при помощи софизмов спасти себя<br />
от кредиторов. Эта предъявляемая им философии цель противоречит ее сущности. Но если<br />
все же попытаемся использовать философию с такой целью, это станет комичным.<br />
Вначале Стрепсиад чувствует себя вполне удовлетворенным, искренне веря в то, что философия<br />
спасет его от долгов, пока его сын не начал оперировать софизмами лучше и при<br />
их помощи диалектически доказал, что имеет право избивать отца.<br />
Часть вторая<br />
НЕТОЧНОЕ (НЕПРАВИЛЬНОЕ)<br />
Абстрактные детерминанты аморфности действительны для любых проявлений безобразного.<br />
Но в своей конкретности безобразное обладает как естественным, так и идеальным<br />
происхождением. Посредством природы или духа универсальность аморфности,<br />
асимметрии и дисгармонии получает индивидуальное бытие. В этой ипостаси они подчинены<br />
необходимости конкретизации общего, обусловливающего их сущность значения.<br />
Согласованность реального и его абстрактного значения, объективная полнота закона<br />
выражена в правильности. Таким образом, она заключается в обязательном выражении<br />
эстетической формы согласно ее содержанию, без какого-либо дополнения чуждого<br />
ее смыслу элемента, а также без какого-либо превращения, которое противоречило бы<br />
ее норме. Неточное рождается как отрицание этих условий.<br />
Неточность вводит нас в пространство видов искусства. Но при условии их отождествления<br />
с частными характеристиками можно потеряться в их бесконечных и лишних<br />
деталях. В таком случае мы были бы вынуждены прибавлять к любой положительной<br />
детерминанте правило о том, что любое ее нарушение является некорректным. Каким<br />
утомительным многословием было бы установление всех правил искусства и повторение,<br />
что их невыполнение в каждом его виде будет неточностью. Поэтому вполне достаточно,<br />
чтобы в контексте нашего исследования показать способ, в каком безобразное предполагает<br />
неточность и каким образом последняя может стать источником смешного.<br />
Следовательно, необходимо исследование сути неточности вообще, а после него —<br />
выявление частных модификаций, через которые проходят в стилистических модальностях<br />
идеальные, присущие разных нациям и школам формы выражения. Но для формы,<br />
которую неточность принимает в отдельных видах искусства, достаточно общей характеристики.<br />
Так заканчивается до малейших мелочей деформированная «талантом» автора трагедия,<br />
содержание которой мы передали простыми словами, не избежав того, чтобы между<br />
ними просочилось несколько лучей комического. Не ставим ни на миг под сомнение серьезность<br />
этической направленности, которую Хёббель с таким пафосом излагает в предисловии.<br />
И все же его добрые намерения не убеждают и согласимся, что из-за дисгармонического<br />
характера, эта трагедия является, по сути, бредовой комедией, жутким сочетанием<br />
ложных контрастов. Хочется абстрагироваться от еще странных мотивов, которые<br />
встречаются в этой трагедии и которые часто крайне комичны, но если ограничиваться ее<br />
базовыми отношениями, придется констатировать, что они также не трагичны, а комичны.<br />
Конечно же, комично, что девушка, которая позволила втайне соблазнить себя и ждет<br />
ребенка, должна представлять на празднике королеву невинности. Комично и то, что<br />
отец, дочь которого убежала из дому, как он думает — с любовником, вводит город в заблуждение<br />
при помощи пустого гроба. Комично и то, что после насыщенной и распущенной<br />
жизни молодой барон вдруг начинает мучиться ипохондрической жаждой благородства,<br />
желая посвятить свое полумертвое и развращенное тело служению благородной<br />
цели. Конечно же, комично, что беременная девушка бесцельно блуждает по стране, в которой<br />
все же еще существуют жандармы и, в поисках смерти, входит в темный лес где,<br />
предлагая деньги, убеждает бандита убить ее, когда вполне ожидаемым было бы, что тот<br />
просто отобрал бы у нее деньги, не прибегая к убийству и заставив девушку подчиниться<br />
себе. Вне всякого сомнения комично и то, что Бертрам и Джулия вступают в брак, который<br />
на самом деле недействителен — он для того, чтобы посвятить себя хорошему делу<br />
перед смертью, она — для того, чтобы все же спасти свою честь при помощи мужа. И то,<br />
наконец, что все трое влюбленных в Джулию мужчин, каждый принимая и даже уважая<br />
другого, живут в полном согласии в одном из тирольских дворцов и что умирающий барон<br />
предоставляет Джулии и Антонию приятную для них перспективу исчезнуть вскоре<br />
навсегда, кажется мне также комичным. Комичным? Да, в том смысле, который полагался<br />
Аристофаном, то есть, насколько случай включает в себя моральную пустоту, но не<br />
в смысле ясного веселья лишенной каких-либо притязаний абсолютной пустоты. Напротив,<br />
эти искаженные отношения между персонажами переданы с торжественной серьезностью<br />
и посредством эмпатических дискурсов, но вместо того, чтобы вызвать улыбку,<br />
они убивают желание смотреть эту глупую трагедию.<br />
Если через собственное содержание противоречие не идеально и если включенный<br />
в нее субъект не чувствует его как противоречие, а напротив, кажется вполне удовлетворенным<br />
в этой ситуации, тогда такая дисгармония комична. Вспомним, к примеру, Стрепмария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
94<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть вторая<br />
95
А. НЕТОЧНОЕ (НЕПРАВИЛЬНОЕ) ВООБЩЕ<br />
Правильность вообще заключается в подлинности, посредством которой некоторая<br />
конфигурация выражает свои собственные формы в согласии с их содержанием, с основанием<br />
природы или истории. В терминах формальной логики можно сказать, что<br />
точность позволяет некоторому объекту получить характеристики, которыми он существенно<br />
отличается от других объектов. Только посредством точности и очевидности фундаментальной<br />
правильности можно эстетически отличить некоторое формообразование<br />
от других. Поэтому правильность, к примеру, предполагает, чтобы в некотором пейзаже<br />
разные виды деревьев отличались бы естественными характеристиками, чтобы в архитектурном<br />
произведении колоны согласовывались через правило их расположения, чтобы<br />
в стихотворении соблюдался характер литературного жанра, к которому оно относится<br />
и т. д. Это уточнение абсолютно необходимо, поскольку его отсутствие сделало бы невозможным<br />
рождение конкретности формы. И в этом смысле точность прекрасна. Поскольку<br />
она относится, прежде всего, к формальному соответствию индивидуальной конфигурации<br />
— ее общему закону, в-себе она еще не является абсолютно прекрасной, а только<br />
выражает соблюдение одного из безусловных условий красоты.<br />
Когда утверждается, что некоторое произведение искусства абсолютно правильно, мы,<br />
безусловно, выражаем похвалу, причем не поверхностную, поскольку признаем соблюдение<br />
правил искусства, но если кроме этого мы ничего не выражаем, тогда такая похвала<br />
может стать упреком — ведь будучи просто правильным, произведение может в то же время<br />
быть пустым, бездушным, лишенным живого источника непосредственной выдумки.<br />
Это явление можно констатировать в случае направлений искусства, которые называются<br />
академическими. С формальной точки зрения они правильны, но поскольку их заслуга<br />
ограничивается отсутствием индивидуальных ошибок, они обречены стать скучными,<br />
поскольку из-за своей правильности они не в состоянии воодушевлять и восторгать чудесным<br />
порывом, идеальной истиной и подлинной свободой, придающие произведению искусства<br />
нимб классического. Академическая правильность не способна быть ничем более,<br />
кроме как эрудированной ученостью и, таким образом, через свою правильную точность —<br />
неприятной, тяжелой, тягостной, зависимой от творческого духа гения, холодной и жалкой<br />
и, таким образом, уродливой. Неправильное как таковое не безобразно — безобразной<br />
выступает красота, которая ограничивается простым соответствием, не превращая<br />
последнее в средство выражения феноменов духа. Неправильное, то есть — неточное в отдельных<br />
частностях произведение может все же быть прекрасным, несмотря на некоторые<br />
ошибки рисунка, цвета, музыкальной композиции, порядка, стихосложения и т. д., когда<br />
в целом оно одушевлено некоторой идеальной мощью, прощающей гению несовпадения,<br />
ошибки и неточности деталей. К примеру, особой щепетильностью выделяется Платен 1 ,<br />
но он не столь индивидуален и неординарен; Гейне, напротив, часто неточен, иногда даже<br />
предумышленно неточен, но его творческая мощь, его оригинальность несравненно больше.<br />
Именно вследствие этой особенности влияние Гейне на нашу литературу намного<br />
сильнее влияния Платена.<br />
Поскольку оно отрицает некоторую необходимую определенность формы посредством<br />
упущения, гетерогенного дополнения или искажения, то неправильное, несомненно,<br />
подчинено понятию безобразного. Искусство должно стремиться к точности и не имеет<br />
права применять ложную терпимость к нему. Необходимость, которой должно подчиняться<br />
искусство с целью точного раскрытия имеет физическую, психологическую и условно-историческую<br />
природу. Это причиняет необходимое внимание к пониманию<br />
имитации, поскольку искусство относится к некоторой данности, которой оно должно<br />
соответствовать. Оно должно изучать формы проявлений природы и духа, ибо исключительно<br />
посредством таких форм способно индивидуализировать свои образы.<br />
И все же, как известно, имитация не сводится к простому воспроизведению случайных<br />
эмпирических аспектов, а, обходя последние, стремится представить нам познание идеальной<br />
формы и универсальной меры через правильность отражения сущностных форм,<br />
избранных в качестве основополагающих. Из-за случайности и произвольности, с необходимостью<br />
сопровождающие любое проявление форм, природа и дух испытывают препятствия<br />
со стороны этим мешающим друг другу формам достигнуть своих собственных,<br />
соответствующих их содержанию правильных форм. Их реальность часто отстает от развития<br />
собственного принципа, поскольку они непроизвольно вносят друг в друга разлад,<br />
взаиморазрушаясь как в своей необходимости, так и в свободе. Искусство очищает эстетическую<br />
форму от этой ситуации, отклоняет наносное и несущественное, подчеркивает<br />
сущность феномена и очаровывает вечностью совершенного идеала. То, что не может<br />
быть реализовано посредством эмпирической эклектики, поскольку, чем точнее изображения<br />
эклектизма такого рода как в случае восковых фигур, автоматов, дагерротипов 1<br />
и др., тем отдаленные они будут от свободы и истины идеала. Полученный при помощи<br />
дагеротипа портрет изображает человека не таким, каким он, подчиненный импульсу переходного<br />
состояния, предстает в определенный момент. Посредством духовного созерцания<br />
непосредственного эмпирического материала, художник должен в конечном итоге<br />
выявить идеал. Пракситель никогда бы не сотворил свою идеальную статую Афродиты,<br />
если бы ограничился лишь старательным суммированием разных форм красоты гетер,<br />
предоставленных ему афинянами для изучения. Представим себе, что он ваял бы груди<br />
одной, руки другой, ноги третьей и т. д., и суммарно собрал бы воедино эти отдельные<br />
1 Платен Август — барон Галермюнд (1796–1835), поэт и кадровый военный, с 1826 года живший в Италии. Автор<br />
стихов особого формального совершенства, стихотворных эпопей и драм, наподобие «Романтичный Эдип» или<br />
«Фатальная вилка». Двенадцатитомное собрание его произведений было издано в 1910 году.<br />
1 Старые фотографические процедуры, заключавшиеся в фиксации изображений, полученных при помощи<br />
камер обскура на посеребренной медной пластине и предполагавших длительную неподвижность объекта съемки.<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
96<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть вторая<br />
97
формы. Без всякого сомнения, в результате получилось бы прекрасное чудовище, а не богиня<br />
красоты. Скульптор должен был выявить и реализовать триумф женской красоты<br />
из ее внутренних самоопределений. Это не означает, что предоставленные ему гетеры были<br />
ни к чему, так как их изучение открыло путь к правильности в той степени, в какой<br />
каждая из них представляла относительно истинную форму идеала. Каким очевидным<br />
становится у наших современных скульпторов и художников тот факт, что, созидая<br />
скульптуры или портреты обнаженных женщин, они чаше всего имели в качестве моделей<br />
женщин легкого поведения, у которых, вследствие пользования корсетом, была искажена<br />
чистота природных форм. Чтобы быть правильным, искусство должно подчиняться<br />
сущности природной и духовной реальности, но оно не должно натурализовать, как и не<br />
должно идеализировать в смысле ложной трансценденции. В той степени, в какой это<br />
изменение необходимо для отображения объективной истинности идеи, художник имеет<br />
право на относительное изменение простой реальности и мы не имеем права осуждать такого<br />
рода отход от эмпирической формы как неправильность — необходимо отрицать<br />
лишь субъективную идеализацию, которая истощает особенную силу индивидуальности<br />
в ее абстрактных возможностях.<br />
Физическая правильность может быть установлена точнее всего, поскольку сравнение<br />
художественных произведений с объективной реальностью является самым легким и приемлемым.<br />
Выражение «согласно природе» применяется через расширение общего смысла,<br />
относящегося к непосредственной реальности. К примеру, об изображающей собор<br />
картине можно сказать, что она написана «с натуры», хотя это воспроизведение является<br />
творением духа. И в том же смысле мы говорим: «согласно жизни». Хотя, если для истинного<br />
восприятия ее правильного изображения достаточно созерцать природу, сам акт<br />
ее восприятия не так прост, как кажется. Чисто объективный взгляд или слух не являются<br />
распространенными человеческими свойствами. Поэтому, при более внимательном<br />
изучении, неожиданно обнаружится больше несоответствия, чем мы себе воображали<br />
в начале. Другие же формы неправильности происходят из укорененности некоторых манер,<br />
наподобие случая удлиненных ликов, рук и ног в византийской живописи [25].<br />
Психологическая правильность часто выдается за истину природы. Она относится<br />
к сфере чувств, с их желаниями, наклонностями, страстями, и к соответствующему им<br />
подлинному выражению жестами, мимикой, словами, как и не менее точной мотивации<br />
аффектов. Корреляция чувств с их содержанием, форма проявлений последних в мимике,<br />
патогномике и физиогномике, передача звуками и словами предоставляет неисчерпаемое<br />
поле возможностей для выявления объективной истины, а их исправление уже не так легко<br />
дается, как в случае физической неправильности. В поэзии, музыке и живописи психологическая<br />
ошибка будет выявлена точнее, чем в скульптуре, поскольку, преследуя схватывание<br />
видового выражения, последнее должно уменьшить очевидность характерного<br />
и нередко представлять его в виде абстрактной аллегоричности. Французы, к примеру,<br />
применяют в своей поэзии принцип «легкой поэзии». Этот принцип был использован<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
98<br />
Ж. Ж. Прадье в статуе, по поводу которой французские критики выражаются в самых экзальтированных<br />
терминах и которая внушила поэтам восторженные стихи. Прекрасная<br />
танцовщица держит в левой руке маленькую арфу, в то время как правая рука приподнята<br />
над головой. Ее стройная фигурка опирается на носке левой ноги, еле касаясь носком<br />
земли, правая нога приподнята в легком порыве. От того, что с точки зрения французского<br />
поэтического идеала эта женщина полновата, можно абстрагироваться. Но было ли<br />
необходимым, чтобы и обращенная к небу голова, которая должна была внушать воодушевление,<br />
из-за выражения подбородка и тела изображала пресыщенное наслаждение?<br />
Нужно ли было, чтобы ее глаза были такими маленькими, почти закрытыми и затуманены<br />
опиумом? Не подчеркивает ли этот образ сладострастие? Не должен ли был Прадье задуматься<br />
над тем, что его легкомысленная муза выглядит похотливой, и что глаза и подбородок<br />
должны были бы сильнее выражать духовность? Эти сомнения возникают из вопроса:<br />
была ли правильно выражена в этих фривольных и игривых формах сама идея эротической<br />
музыки? Прадье мог бы защитить себя, утверждая, что менее округленный подбородок<br />
и более крупные глаза были бы, в свою очередь, слишком интеллигентными [26].<br />
Существенным критерием исторической правильности остается свобода духа, которому<br />
должно быть подчинено наблюдение и соблюдение конкретной реальности. Если психологическое<br />
выражение чувства истинно, если субстанция некоторого исторического<br />
события выражена адекватно, тогда внешняя морфология явлений малозначительна.<br />
Неправильное найдет здесь более широкое пространство для самовыражения. Историческое<br />
сознание выражает свою характерную частность в способе, каким люди обустраивают<br />
жилище, одеваются, создают орудия труда, в специфике их обычаев. Во всех этих<br />
проявлениях неправильное развивается в норме некоторых бесконечных определений,<br />
которые, хотя и выражают свою сущность, тем не менее, более акцидентальны относительно<br />
своей глубины. Если рассматривать такие аспекты в их совокупности, будем<br />
очарованы последовательностью, с которой индивидуальное проникает в самые мелкие<br />
подробности, но в аспекте искусства необходимо признать, что, по сравнению с представляющем<br />
его существенное содержание пафосом свободы, многообразие частных форм<br />
способно воспроизводить лишь второстепенную ценность. Свойственный антиквару<br />
педантизм не должен аннулировать первичность эстетического. Сабля, к примеру, остается<br />
саблей, хотя верно и то, что в различные эпохи различные нации, и даже одна и та же<br />
нация, придавали индивидуальные формы ее лезвию и рукоятке. Независимо от обусловленного<br />
климатом и обычаями народов многообразия трансформаций, и в первую<br />
очередь, капризами моды, одежда постоянно и везде сохраняет отверствие для головы<br />
и других конечностей. Поэтому, искусство должно быть оправдано тем, чтобы в изображении<br />
истории выделять в первую очередь человеческое содержание сознания, осмысленность<br />
действий и их овнешненность в жестах, мимике и слове, поскольку, в соответствии<br />
с адекватностью условных норм, эта истина выражает подлинную поэзию, о которой<br />
прекрасное изначально должно заботиться. Следовательно, предполагая удовлетворенкарл<br />
розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть вторая<br />
99
чаются существенные поэтические аспекты, оно должно изменить это отношение. Отклонение<br />
от корректности, которая является выражением истинности определенного<br />
действия и способа его рефлексии в физиономических, патогномических и риторических<br />
выражениях, было бы одновременно разрушением идеальной целостности, в отсутствии<br />
которой произведение искусства не может быть совершенным. Живопись предоставляет<br />
очень интересные примеры способа, при помощи которого превосходные композиции<br />
отвлекают от исторических несообразностей. К примеру, школа Ван Дейка изображала<br />
принимающую благую весть от ангела Марию немецкой девушкой, коленопреклоненной<br />
перед обшитым ореховым деревом комнатным молитвенным возвышением. Пол украшен<br />
коврами, ваза с сиренью виднеется в углу, за окном видны берега Рейна с многочисленными<br />
крепостями. Вся эта обстановка объективно невозможна в связи с изображенным<br />
событием, так как в Палестине до рождения Христа не существовал интерьер, изображающий<br />
обстановку буржуазного дома средневековой Рейнской земли. В этом аспекте вся<br />
эта обстановка, одежда, этот кожаный пояс, золотистого цвета волосы, голубые глаза<br />
и чисто немецкий профиль являются неисторичными и некорректными. Но спросим себя,<br />
внушает ли нам пламенную веру это углубленное в молитву существо, черты лица, взгляд,<br />
смиренность, девичья скромность? Если перечисленное присутствует в полноте природной<br />
и психологической точности, то в таком случае историческая обстановка остается<br />
второстепенной. Смысл, христианское неприятие чувственного изображения Данаи —<br />
вот что является идеей картины и эта идея реализована.<br />
Мы должны признать за художником право на модификацию мифов и истории во имя<br />
более выразительного подчеркивания их поэтического содержания, не деформируя их<br />
при этом модификациями в стиле Еврипида. Ни один из великих художников не останавливался<br />
перед подобными модификациями, потому что это действие состоит в эстетической<br />
поправке исторической традиции. Способ, которым Шекспир, Гёте, Шиллер перерабатывали<br />
историю, не искажает сути исторической истины. «Дон Карлос» Шиллера<br />
не совсем историчен, и все же является таковым, ибо он не только восстанавливает трагические<br />
положение принца, имевшего несчастье стать жертвой подозрительности тиранического<br />
отца из-за своего ума и моральных принципов и любящий предназначенную ему<br />
раннее в жены мачеху — Шиллер воспроизводит этот трагизм в особенностях испанского<br />
характера и испанского дворцового этикета. В своем «Дон Карлосе» Фуке изобразил<br />
Дон Карлоса с исторической точки зрения — настолько, насколько мы знаем об этом,<br />
но этот инфант Испании остался почти неизвестным миру, так как ему недостает как раз<br />
того, что одухотворяет историю — души. Таким образом, хотя в трактовке исторического<br />
материала искусство и пользуется некоторой свободой для достижения идеальной<br />
истины, великий художник постарается не отдаляться при этом от исторической достоверности,<br />
хотя бы потому, что именно она предоставляет ему удачный способ индивидуализации.<br />
Из предоставленного историей материала он будет отбрасывать то, что будет<br />
ограничивать его в реализации эстетических целей и будет видоизменять лишь то, что<br />
ность субстанциальным интересом, на котором опираемся в проявлениях духа, мы должны<br />
быть более строгими относительно объективности исторической правдивости по сравнению<br />
с правдивостью физической или психологической. Научная правильность внешних<br />
исторических аспектов не может быть целью искусства, поскольку оно преследует<br />
не только просветительскую цель. Подобно случаю Вальтера Скотта, четкая последовательность<br />
совпадает с поэтическим очарованием, от чего испытываем реальное удовлетворение,<br />
но этого удовлетворения не будет в случае, когда поэзия утонет в эрудиции.<br />
Когда отдельное произведение, наподобие «Путешествия в Грецию» Варфоломея, или<br />
произведений В. А. Беккера из серии «Галлы, или Романские сцены времен Августа»<br />
и «Харикл, или Описание нравов древней Греции» постигается одновременно в этой дидактической<br />
направленности, тогда необходимо изначально вести речь лишь о предоставленной<br />
безобразному приятной форме, которая не претендует на искусство. В любом<br />
случае, нужно признать право художника на некоторую свободу внешних аспектов исторической<br />
композиции, если таковые позволяют воспринимать конкретно-исторического<br />
человека. Даже анахронизмы не мешают, если они не доведены до абсурда, или если они<br />
не навязывают художественный эффект, который должен был бы их оправдать.<br />
С такой свободой великие художники изображали историю и мы не можем упрекать<br />
их за ту свободу, которой они пользовались неправильно. Шекспир трактовал таким способом<br />
не только английскую, но и романскую историю — его римляне предстают в некоторой<br />
степени англичанами, но они являются, прежде всего, действительными людьми:<br />
плебеями, аристократами со своими постоянными аффектами и страстями. То, что педанты<br />
выдвигали против Шекспира в качестве упрека в исторической неточности, при более<br />
строгом критическом анализе предстает совершенно мотивированным с поэтической точки<br />
зрения. В «Зимней сказке» море разбивает свои волны о берега Богемии. Какое невежество!<br />
— может воскликнуть педант. Но ведь речь идет о сказке, а география сказок<br />
фантастична. Для современных Шекспиру англичан Богемия была далекой страной,<br />
но страной такой же исторической для сказки, как и ее короли и колдуны. В «Ричарде Саваже»<br />
Гуцкова мы также натыкаемся на анахронизм, которого вполне можно считать<br />
неправильным. Саваж беседует со знаменитым журналистом Стилом. Последний хочет<br />
избавить его от печали задумчивого меланхолика и говорит ему: «Смотри, я сочувствую<br />
тебе и себе из-за того, что тебя похитили из удушливой атмосферы Лондона. Но, дорогой<br />
друг, Ботани Бай заслуживает серьезного изучения. Для нашего журнала особенно важно<br />
иметь там своего корреспондента». В списке персонажей Гуцков указывает очень точно<br />
время, когда происходит драма. Он достаточно образован, чтобы не знать, что Океания<br />
в те времена еще не была открыта. Изложенные дальше Стилом гуманистичные идеи<br />
совершенно не требовали персонажа Ботани Бая, поэтому анахронизм здесь совершенно<br />
немотивирован и это стремление к излишеству придает ему статус неправильности.<br />
Таким образом, если искусство может в таких ситуациях быть в некоторой степени безразличным<br />
к правильности, то в случае, когда речь идет о той точности, в которой заклюмария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
100<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть вторая<br />
101
ущемляет гармонию идеальной истины. Припомним произведения великих мастеров, чтобы<br />
увидеть, можно ли обвинять их в пренебрежительности к историческому своеобразию.<br />
Каким же исторически точным был Рафаэль в своих лоджиях. Спросим себя, к примеру,<br />
является ли Клеопатра только красивой, страстной и чувственной, или же просто подобной<br />
«старой змеи Нила» египетской женщиной. Послушаем мнения историков, в частности<br />
Г. Г. Гервинуса [27] по поводу исторического содержания этих трагедий. Проанализируем<br />
«Валленстайна» Шиллера и посмотрим, изображена ли в естественной исторической<br />
хроматике разобщенность европейской цивилизации времен тридцатилетней войны.<br />
Остановимся на посвященные театральным декорациям полотнах Шинкеля и посмотрим,<br />
сумел ли он привести в соответствие историческую особенность и эстетический идеал<br />
с особенностью театральной нужды. Но принадлежащая искусству свободная трактовка<br />
природы и особенно сознания будет приемлема только при условии, чтобы через нее<br />
выигрывала идеальность в объективном значении понятия, так как без этого усиления,<br />
которое высвобождает тенденцию собственной сущности, с целью ясного самопроявления,<br />
она выльется в категорию неточного или станет комической.<br />
Как всюду и всегда, комическое и в данном случае состоит в том, что некоторое явление<br />
или ситуация, которые казались в принципе невозможными, насмехаясь в своей эмпирической<br />
конкретности над разумом, становятся видимой реальностью. Если, как отмечалось<br />
выше, герои и героини Греции и Рима появлялись на сценах парижских театров<br />
в напудренных и завитых париках, сегодня такой костюм показался бы смешной неточностью.<br />
Насколько же мало значат эти внешние аспекты для сути дела становится ясным<br />
из факта, что трагедии Корнеля, Расина и Вольтера сегодня ставятся на сценах французского<br />
театра не в костюмах придворных абсолютной монархии, а в подлинно античных<br />
одеяниях и этими изменениями не противоречат содержанию пьес. Но если говорить<br />
о произвольной исторической неточности, придется констатировать, что она появляется<br />
как пародия и производит комический эффект.<br />
Корректность вообще заключается в подлинном соблюдении положительной нормальности<br />
природы и духа. И все же, свобода искусства не может удовлетвориться ограничением<br />
простой точностью — при определенных условиях и не противореча при этом<br />
прекрасному ей даже следует быть неточной. В случае стремления к пародии она может<br />
стать комической. Но как соотносится точность с фантастическим? Как оценить те композиции,<br />
которые физически и психически представляются невозможными и которые<br />
благодаря искусству все же предстают перед нами во всей силе реальности? Как соотносятся<br />
эти бредовые формы с безобразным? Искусство, конечно же, не обладает иным<br />
законом, кроме закона красоты, но красота находится в необходимом соотношении с добром<br />
и истиной, ограничение которых неприемлемо даже в самых свободных художественных<br />
произведениях. Эта идентичность ни в коем случае не является отрицательной<br />
преградой искусству — напротив, именно посредствам данного тождества становится<br />
возможным положительное совершенство прекрасного. Но мы должны различать кормария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
102<br />
ректность и художественную истину, которая через свою относительность позволяет<br />
фантазии, подобно тому, как это происходит во сне, играться с формами эмпирической<br />
реальности. Фантазия удовлетворяет свой инстинкт игры, отрекаясь от вынужденности<br />
соблюдать положительное воспроизведение и неограниченное порождение форм, считающиеся<br />
лишь с ее собственной творческой силой. Она обеспечивает себе свободу посредством<br />
удовлетворения собственных желаний, шутливо играя с излишеством собственных<br />
форм. Выдумывает не относящиеся к какой-либо флоре растения и неизвестные какойлибо<br />
фауне животных, как и не произошедших в истории события. Может ли в случае<br />
этих фантастических творений идти речь и о точности? По-видимому — нет, в ином<br />
случае, какие формы были бы нормально-позитивными, с которыми следовало бы сравнивать<br />
эти художественные изображения?<br />
Необходимо для начала вспомнить, что природы и история достаточно богаты фантастическими<br />
явлениями. Если через последние могли бы проявляться только разум и закон,<br />
то они не способны были бы даже возникнуть, но случайное и произвольное возникают<br />
в самых смелых проделках — в самом подлинном значении верно, что некоторые<br />
эмпирические комбинации дерзко соревнуются с фантастическими выдумками. Согласно<br />
здравому рассудку было бы трудно согласиться с существованием животных, внешне<br />
не отличающихся от растений, наподобие большой группы кишечнополостных. Даже<br />
разум не смог бы выдумать эти огромные, допотопные животные. И даже в современном<br />
периоде органики земли разум не потерпел бы существование летающих рыб, крылатых<br />
ящериц, летающих мышей, ящериц с длинными, наподобие острия копья клювом, грызунов<br />
с чешуйчатыми хвостами, млекопитающих, рассекающих своей рыбообразной формой<br />
океанские волны и т. д. В своей свободе природа достаточно капризна и фантастична,<br />
чтобы сочетать внешне противоречивые формы. Но лишь видимое противоречиво, поскольку<br />
в самом организме не должно существовать какого-либо реального противоречия,<br />
в ином случае он был бы не жизнеспособным. Напротив — внешне он может выглядеть<br />
противоречивым. Таким образом, художественная фантазия находит в природе аналогии<br />
для минотавров, быков с ястребиными головами, пегасов, сфинксов и кентавров.<br />
И не в меньшей степени находит их в самой природе, поскольку в соединении со случайностью<br />
свобода духа производит самые необычные и баснословные феномены, намного<br />
превышающие фантастическое в природе. Разум производит бесчисленные формы и фантастические<br />
события, полихроническое и сверкающее существование которых он навряд<br />
ли осмелился бы представить себе. Жизнь Наполеона I, артиллерийского лейтенанта, генерала,<br />
государственного мужа, покорителя, ссыльного — какая фантазия оказалась бы<br />
способной придумать такую необычную сказку? Кто всего лишь столетие тому назад<br />
не посчитал бы сказкой жизнь золотоискателей в шахтах Калифорнии и Австрии? Марш<br />
мормонов из Наувао через пустыню к месту Утах — кто в те времена, когда в старой Европе<br />
строились баррикады, ожидал в прагматической Северной Америке такой, как будто<br />
вытащенной из старого завета, поэзии? Ограничимся все же выявлением случаев, свякарл<br />
розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть вторая<br />
103
занных с нашим самым близким настоящим. Случаи, которые не обязаны своей фантастической<br />
аурой большому временному расстоянию античного веяния или поэтической переработке<br />
традиции. Когда речь идет о том, чтобы сотворить собственную вселенную, дух неожиданно<br />
преодолевает постигаемую конечность, простую необходимость и нужность.<br />
Но когда позволяет импульсу выразить свою особенность, он не считается с чистыми контурами<br />
красоты. Сколько необычного можно встретить в моде народов! Вспомним, к примеру,<br />
средневековую обувь с носками в форме клюва, возвышающиеся наподобие острого<br />
рога и украшенные колокольчиками. Разве форма ноги требовала такую форму обуви? Нет.<br />
Предоставляла ли она особенное удобство? Конечно же, нет. Могли ли эти рога претендовать<br />
на особенную форму красоты? Исключено. Зачем же они были выдуманы? По-видимому,<br />
для того, чтобы удовлетворить безумный каприз экспансивности возбужденного духа.<br />
Если вернемся к искусству, то необходимо принять некоторую эстетическую границу<br />
для его фантастичности — и не в смысле точности, а в смысле истинности его выдумок.<br />
Они должны нам дать понять, что не имеют эмпирической модели, но все же обладают<br />
некоторой реальностью. Это соотношение мы назовем идеальной возможностью. Они<br />
противоречат разуму, и все же должны ему подчиняться через собственное тождество<br />
в противоположности, через естественное в сверхъестественном и через реальность в невозможности.<br />
Мы должны признать, что такие порождения фантазии как химеры, кентавры,<br />
сфинксы и т. д. анатомически невозможны и все же должны восприниматься через<br />
гармоническую связь друг с другом для того, чтобы их созерцание не вызывало сомнения<br />
относительно их реальности. Воссоединение некоторых форм и элементов многообразного<br />
происхождения должны соответствовать истинности этих многообразных источников.<br />
Несоблюдение этого условия должно обусловить их восприятие как ложных. Это<br />
задуманное по прихоти фантазии соответствие единства, симметрии и гармонии в разнообразии<br />
является условием, в отсутствии которого целостность становится уродливой<br />
или комической. Египетский сфинкс сочетает женскую голову и грудь с телом львицы.<br />
С анатомической и физиологической точки зрения такое соединение невозможно, но<br />
пластика передает ее с такой точностью и ясностью, что в процессе созерцания мы уже<br />
не обращаем внимания на научные характеристики анатомии. Сколько покоя в опущенной<br />
на тяжелые лапы голове, как поднята шея, какой умный, устремленный вперед взгляд!<br />
И чтобы мы в своей фантазии не оценили полноту свободы проявления этого бытия?<br />
Конечно, если бы эта голова не так естественно сливалась с телом львицы, их соединение<br />
было бы лишь механическим, и сфинкс казался бы безобразным. Это остается верным<br />
и относительно кентавров, фантастических растений и даже для арабесок. Посредством<br />
своей формы и расположенности листьев, как и из-за своего купола, фантастическое растение<br />
должно производить впечатление естественной достоверности — его пропорции<br />
должны быть эстетически возможными, И какой бы фантастической не казалась ее игра,<br />
относительно духа также оправдана некоторая возможность в плане идеи. Говорю в плане<br />
идеи, потому что, не нарушая более высокие законы, фантазия всегда может оспорить<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
104<br />
эмпирическое. В своем порыве эксцентричность должна сохранить для себя некоторую<br />
возможность, то есть нельзя, как часто случается в наши дни, отождествлять абсурд<br />
с фантастическим. Некоторые представители старой романтической школы в Германии<br />
позволили, чтобы их здоровые начинания деградировали в некоторые конфузы плохого<br />
вкуса, которые выдаются за высшее достижение поэтической глубины, в то время как<br />
в действительности они замыкаются на островах абсурда, лишенного идей нигилизма.<br />
Прекрасными примерами в этом смысле являются «Долорес» Арнима и «Годви, или Окаменевший<br />
образ матери» К. Брентано [28]. Среди современных художников выразил себя<br />
как великан фантастического искусства И. Ж. Гранвиль. Так чудно переплетены тела<br />
девушек с формами цветов в его «Живых цветах», что сложно сказать — то ли девушки<br />
стали цветами, то ли цветы превратились в девушек. Цветок является всего лишь украшением,<br />
но таким совершенным в ботаническом аспекте, что драпировка, роль которой они<br />
выполняют, обладает тем же характером, что и человеческое тело [29]. В произведении<br />
«Иной мир» — безусловно, самом талантливом в его творчестве — Гранвиль осмелился<br />
на такие свободные решения, которые полностью покоряют нашу фантазию. Следом<br />
за ними мы восходим к границам безумия и с трудом выдерживаем их созерцание. Чем же<br />
определяется неприятный, беспокойный характер некоторых из этих полотен? Думаем,<br />
что в аспекте фантастического Гранвиль остается верным не только эстетической вероятности,<br />
но, более того, в полноте поэтического разворачивания произвольного он сохраняет<br />
некоторую устрашающую естественную истину. Разрабатывая тему «Искушения<br />
Св. Антония» Брейгель, Тенирса и Калло создали более мощные фантастические образы,<br />
но они абстрагированы от любой возможной аналогии с природным, претендуя исключительно<br />
на апломб фантастического. В анаморфозах Гранвиль изображал не только черепаху<br />
с головой собаки, медведя с головой змеи или ящерицу с головой попугая, и не писал<br />
только человекообразных машин и машинообразных людей, а рисовал также внутренний<br />
двор дворца, в котором были закрыты ужасные монстры, похожие на бицефальных<br />
животных и комбинации тел, что уже не были простым синтезом несоответствующих<br />
форм, а взаимоисключающими образованиями, ужасным образом аннулирующие иллюзию<br />
тождества. Мы видим зубра, вторая часть которого является крокодилом, так что передняя<br />
часть этого существа опирается на лапы зубра, а задняя на лапы крокодила — это<br />
разрыв тенденций, которые самым безумным образом нарушают единство. Можно увидеть<br />
также прыгающего с бревна льва с хвостом пеликана, который в это же время заглатывает<br />
рыбу. Такие изображения действительно безобразны и слишком ужасны, чтобы<br />
быть смешными. При условии превращения в комическое можно вытерпеть самые невероятные<br />
противоречия. В той же работе Гранвиль представил зверинец, перед клетками которого<br />
столпилось многообразное и любопытное множество зверей. В одной из клеток находится<br />
английский однорогий леопард, а перед ним — собака с головой и беретом курящего<br />
короткую трубку моряка. Перед дублированным силуэтом неаполитанского ястреба<br />
видим свернутого в калачик сфинкса с головой альсациенской дуэньи, украшенной высокарл<br />
розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть вторая<br />
105
кой бонетой. Собака-моряк, дуэнья-сфинкс представляют собой фантастически-комические<br />
выдумки, но при этом они не безобразны. Чтобы посмеяться над надуманной невероятностью<br />
ложной фантазии, комик, конечно же, выдумывает и невозможное, но представляет<br />
последнее в форме самой подлинной искренности, как поступает Лукиан, когда в «Правдивых<br />
историях» издевается над фанфаронством туристов и над педантизмом ученых [30].<br />
Можно напомнить и о сказке как вида, суть которого заключается в противоречии<br />
с природной и исторической точностью. Не встречаем ли мы в сказках бесконечное количество<br />
существ и событий, которые, будучи невозможными и неистинными, представляют<br />
собой насмешку над законами? Но настоящая сказка никогда не будет неточностью в том<br />
смысле, чтобы ее невозможности не были символически возможными. Цветы в сказке поют,<br />
звери говорят, люди превращаются в зверей, звери — в людей и нам встречаются чудеса<br />
за чудесами, но этот фантастический мир пронизывает глубокое и чудесное эхо природной<br />
и исторической истины — искусственные одеяния, в которые цивилизация облекает<br />
все отношения, здесь отодвигаются в сторону из-за необусловленности сказочного мира.<br />
Он остается правильным в рамках идеи и сохраняет в себе природную наивность детской<br />
фантазии. Когда человек превращается в осла, за ним остается способность действовать<br />
и мыслить как человек, но, как любой другой осел, он вынужден кормиться сеном. В этих,<br />
а особенно в древне-восточных и северных сказках, не встречаются те абсурдности, которые<br />
можно встретить в современных поэтических сказках. В сказке О. фон Редвица о елочке<br />
последняя должна выражать символ Бога. Она предпочитает сухую и устойчивую почву,<br />
но Редвиц придумал, чтобы из ее корней родился родник — он должен быть человеком,<br />
который, подчиняясь гравитационному импульсу, распространяется на весь мир вплоть<br />
до угрозы истощиться. Тогда дерево направляет к нему спасительную ветку — и, возвращаясь<br />
к своему источнику, родник сразу же начинает течь в обратном направлении! Спаситель<br />
человечества, воплощенный в символе выброшенной веткой елки. Какая анемичная<br />
диверсификация дерева! Река, которая течет вспять! Какая глубина!<br />
Б. НЕПРАВИЛЬНОЕ<br />
В РАЗЛИЧНЫХ СТИЛЯХ ИСКУССТВА<br />
В природе и истории искусство находит универсальную норму истинности своих творений.<br />
Но оно создает нормы и из собственной необходимости — нормы, которым, чтобы<br />
быть способным создавать свои произведения, само же должно подчиниться. Особенная<br />
форма его способа состояться называется стилем. Произведение искусства является точным<br />
только тогда, когда оно выражает черты определенного стиля. Пренебрежение стилистической<br />
идентичностью будет неточностью. Здесь не место для выявления различных<br />
направлений, на которые своей стилевой реализацией делится идеал — их следует придерживаться<br />
лишь в той необходимости, которая требуется для выявления, вытекающей<br />
из отрицания индивидуальности определенного стиля формы безобразного.<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
106<br />
Но сама идея прекрасного зависит от того, что художественное произведение может<br />
быть создано в стиле более высоком и строгом, или в более простом и легком. Художник<br />
должен выбрать одну из этих тональностей. Каждая из них содержит в себе уровни и степени,<br />
представляющие ступени перехода в другую, но каждая обладает и только ей присущим<br />
эстетическим качеством. Искусство должно стремиться к тому, чтобы его произведения<br />
с точностью были интегрированы в одну или другую из этих стилистических<br />
модальностей. Если они смешиваются, что чаще всего встречается в романах, тогда в контексте<br />
этого смешения различия должны проявляться в их внутренней чистоте. Высокий<br />
стиль исключает нормы и выражения, которые позволительны стилю посредственному.<br />
В свою очередь, последний будет обходить формы, которые легкий стиль может и должен<br />
использовать. Высокий стиль стремится к возвышенному, средний характеризуется<br />
достоинством и грацией; легкий стиль переходит в ординарное и особенно в гротескное.<br />
Таким образом, неточность встречается тогда, когда в художественном произведении<br />
не соблюден стиль, который востребован самим его смыслом. Торжественность гимна,<br />
воодушевление дифирамбы, пафос оды исключают обычные слова и выражения, свойственные,<br />
к примеру, развлекательной песне. И, напротив, последняя, в свою очередь, была<br />
бы некорректной, если бы пыталась выразиться помпезно, в ярких, свойственных высокому<br />
стилю формулировках. Что касается чистоты стиля, то история искусства уподобляется<br />
чистоты метода в истории науки. В науке очень редки работы, содержащие осмысление<br />
использованных методик. Большинство научных трактатов не представляет ясности<br />
относительно того был ли предмет исследования подвергнут анализу, синтезу или рассматривался<br />
генетически. В случае множества произведений искусства можно заметить<br />
такое же непонимание художником тональности, которую следовало установить с самого<br />
начала. Некоторые противоречия возникают вследствие того, что кроме эстетических,<br />
и другие мотивы обусловили выбор. К примеру, встречающиеся в качестве капителей в колоннах<br />
готических соборов и обладающие вульгарным выражением гротескные фигуры<br />
могли бы восприниматься как усиливающие силу общего выражения, но их происхождение<br />
кроется не в эстетической мотивации, а в других связях, частично относящихся к общественной<br />
традиции ремесленников-строителей. Они не вытекают из целостного стиля,<br />
и гармоническому вкусу греков казались бы не противоречивыми.<br />
Непредумышленное смешение стилей, их бессознательный переход одного в другой<br />
становятся безобразными, а комический оттенок они приобретают только тогда, когда<br />
это смешение допускается с целью пародирования. Построенные в XVII и XVIII веках готические<br />
соборы и помещения управ перетерпели многочисленные реставрации, дополнения,<br />
реконструкции в стиле древности, ясность красоты которых не была созвучной тенденции<br />
высокого немецкого стиля. Это противоречие может восприниматься исключительно<br />
как уродливое, но не комическое, хотя большинство этих дополнительных конструкций<br />
были настоящими монстрами стиля, которого они должны были выражать.<br />
Но когда более низкая тональность реализована сознательно, она может стать принципикарл<br />
розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть вторая<br />
107
альным средством выражения комического. Великий Наполеон напоминал своим разбойникам<br />
в Египте, что сорок веков истории глядят на них с высот пирамид. В одной карикатуре<br />
можно увидеть Фостена I, который держит речь перед своей наполовину раздетой,<br />
расположившейся под скудной тенью нескольких пальм охраной: «Солдаты! С вершин<br />
этих пальм на вас глядят сорок обезьян». Торжественному началу обращения противостоит<br />
комический характер его конца 1 .<br />
Но общие законы эстетического идеала конкретизируются через национальный стиль<br />
в форме характерной частности, которая обусловливается чертами расы, особенностей<br />
географии, религии и определяющих форм жизнедеятельности отдельного народа. Чем<br />
сильнее выражен гений определенной нации, чем мощнее пронизано духовным содержанием<br />
его достоинство, тем сильнее может быть выражено его искусство. Нация не свободна<br />
в определении своей судьбы — она включена в удивительную взаимосвязь со всеми<br />
странами и со всем миром и в собственном бытии часто ограничена условиями, которые<br />
длительное время замкнуты и иногда проясняются лишь во времена трагического заката.<br />
Поэтому, в контексте национального стиля могут развиваться некоторые формы, которые,<br />
правда, соответствуют национальным характеристикам, но в то же время настолько<br />
неразрывны со специфическими, неизбежными для национального честолюбия границами,<br />
что уже не отвечают абсолютным требованиям идеала и, ставшие привычкой и общем<br />
предрассудком, консервируют искусство на несовершенной стадии. В таком случае народ<br />
молча ожидает соблюдение художниками этих привычных форм. Если время укрепляет<br />
преобладание таких форм, они превращаются в эмпирический идеал, по которому измеряется<br />
правильность. То, что не реализуется в собственных пределах, таким народом<br />
считается неточным. Для того, чтобы очертить типическую особенность национального искусства<br />
в этом тематическом смысле можно использовать понятие национального вкуса.<br />
Разумеется, национальный вкус может соответствовать требованиям идеального,<br />
но с такой же естественностью возможно и противоположное. В последнем случае возможно<br />
и то, что именно через способность быть точным в самом высоком значении слова<br />
художник может стать неточным в аспекте национального стиля. Верный абсолютным установкам<br />
искусства и благодаря этой верности художник вступает в противоречие с эмпирически<br />
установленным идеалом. В Китае, к примеру, архитектура развивалась<br />
в форме деревянного зодчества. Но для защиты от внешнего воздействия дерева, которого<br />
китайцы считали пятым, составляющим мир элементом, оно покрывалось фарфором<br />
и впоследствии фурнисировалось. Позже, с целью прервать монотонность, начали использоваться<br />
яркие, устойчивые краски. Сверкание покрытых лаком красок, усиленный<br />
излишним использованием золотистого цвета стало национальным стилем, и с этих пор<br />
1 Фостен I (1782?–1867) — король Гаити, носивший раннее имя Сулук. Чнрнокожий раб, гаитянский генерал.<br />
1 марта 1817 года становится президентом Гаити, а в 1819-м провозглашает себя королем. После десяти лет эксцентричного<br />
царствования в 1859 году был принужден к отречению и покинул страну.<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
108<br />
подлинно китайским считается только то, что соответствует этой светлой полихромичности.<br />
Или, если вспомним, что французы, кажется, считали, что абстрактное единство места,<br />
времени и пространства — аристотелевского происхождения и подняли эту теорию<br />
до уровня абсолютной нормы, тогда поймем, почему любое нарушение относительно отдельного<br />
элемента этого единства казалось им некорректным. Они настолько интимно<br />
освоили это правило, что любое отклонение от него, каким бы поэтическим оно ни было,<br />
считали безобразным. Вспомним только одно из известных, сформулированных Вольтером<br />
суждений относительно английского театра как «варварского падения», поскольку<br />
изменение места и времени в нем, а также расщепление главного действия на множество<br />
эпизодических (что французами допускалось только в случае эпопеи) конституировались<br />
в качестве национального идеала. Если окаменелость национального стиля связывается<br />
с религиозными концепциями и если он некорректен относительно абсолютного идеала,<br />
то эта суровость способна задержать на длительное время чистое развитие прекрасного.<br />
Хотя, как и в своих идеальных устремлениях, в своей технике искусство могло уже достичь<br />
более высокого уровня, и оно обнаружило вынужденность беспрерывно репродуцировать<br />
типическую норму в религиозной тематике, какой бы безобразной она ни была.<br />
В своем юмористическом романе «Махагару» Гуцков описывает приключения братьев<br />
Хали-Юнг из Тибета, преданные иезуитскому трибуналу как еретики, поскольку, изменив<br />
в структуре статуи Далай-Ламы расстояние между ртом и носом в более целесообразном<br />
соотношении, чем было принято в религиозных традициях, они осмелились украсить<br />
образ Зевса. А в рамках исламской религии можно встретить более строгое ограничение<br />
скульптурного и живописного изображения из-за запрета Кораном изображения<br />
одушевленных форм — по этой причине скульптура и живопись ограничиваются орнаментом,<br />
будучи вынужденными распространить свою творческую силу в богатстве и чрезмерности<br />
последнего.<br />
В то же время, в различных национальных стилях представлены и различные объективные<br />
формы эстетического идеала. Они представляют собой адекватное средство выражения<br />
различных состояний, чувств и настроений. К точности относится и поиск подходящего<br />
стиля для определенной <strong>проблем</strong>ы и ее развития в соответствии с присущими ему<br />
свойствами. К примеру, изображение некоторого предмета в китайском стиле может находиться<br />
в согласии с эстетической подлинностью стиля греческого или мавританского.<br />
В таком случае было бы некорректным в процедурном отношении не обращаться и к аутентичным<br />
формам соответствующего национального стиля. Вспомним «Задига» Вольтера,<br />
«Натана Мудрого» Лессинга, «Западно-восточный диван» Гёте, «Восточные розы»<br />
Ф. Рюккерта и иные известные литературные произведения, написанные в магометанском<br />
восточном стиле.<br />
В пределах определенной нации художественный стиль часто проходит через различные<br />
эволюционные эпохи, которые конституируются в школы. Отдельная школа формирует<br />
для определенной временной эпохи собственный вкус, который выражает опредекарл<br />
розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть вторая<br />
109
ленную ступень в реализации идеала и которая, как в случае национального стиля, может<br />
стать относительным эстетическим каноном. В рамках определенной школы направленность<br />
национального стиля будет синтезироваться в форме самых чистых образов. Идеал<br />
отдельного национального духа будет совпадать с идеалом определенной школы, а остальные<br />
художественные школы той же нации предстанут моментами предшествующего<br />
развития и, соответственно, сопутствующими основной школе. Такой стиль может состояться<br />
благодаря уровню универсальности, на который поднимается постоянный атрибут<br />
искусства — мы, например, говорим, что некоторая картина написана в итальянском или<br />
фламандском стиле, но в то же время добавляем замечание, что этот стиль должен пониматься<br />
во флорентийской, романской, венецианской, китайской или какой-нибудь иной<br />
манере. Художник неточен, если не подчиняется такой однажды установленной соотнесенности<br />
и тем характеристикам, которые опираются на конститутивные элементы вкуса<br />
соответствующей школы. Не исключено, что некоторые элементы такого рода будут<br />
неточными относительно природной истинности, но сам художник будет неточным в контексте<br />
школы, если одновременно с ее особенностью он не захочет воспроизвести и ее<br />
заблуждения, потому как вполне возможно, что без последних он не сможет достичь<br />
характерных для данной школы преимуществ и достижений.<br />
Пора остановиться на одном из понятий, которое очень занимало Гёте, а именно<br />
на понятии дилетантизма. В обсуждении эссе о художественном творчестве Дидро, Гёте<br />
не соглашался с отождествлением прагматической необходимости точности с эстетической<br />
истиной идеального, которого придерживался Дидро. В оправданной полемике с педантизмом<br />
академической строгости, Дидро выступил безусловным апологетом природы,<br />
которая, с его точки зрения, неспособна произвести что-либо ложное, поскольку каждая<br />
форма (независимо от того, прекрасна она или безобразна) имеет свою причину, и все<br />
существующее в мире не является таким, каким оно не должно быть. Как апологет правильного<br />
искусства Гёте идет так далеко, что утверждает: «природа никогда не является<br />
правильной!» Он обосновывает, что «природа влияет на жизнь и существование, на сохранение<br />
и воспроизведение ее творений и безразлична к тому, выглядят ли такие творения<br />
прекрасными или безобразными. От рождения и самим рождением предназначенная<br />
быть прекрасной, отдельная фигура может искажаться отрицательным влиянием на одну<br />
из ее частей, но в таком случае сразу же пострадают и остальные ее части. Поскольку для<br />
того, чтобы воссоздать разрушенную часть природа нуждается в новых источниках и,<br />
таким образом, некоторая жизненная сила отнимается от остальных частей, то это не может<br />
не влиять отрицательно на дальнейшее развитие целого. Последующее уже не будет<br />
тем, чем оно должно было быть, тем, чем оно может быть». Подчеркивая воспитательную<br />
ценность школы и бесценную значимость опыта, Гёте продолжает: «Какой всемирный<br />
гений решится неизменно, простым, лишенным предшествующего опыта созерцанием<br />
природы, пропорций, которые бы выражали предшествующие формы, выбрать наиболее вероятный<br />
стиль и самому создать всеохватывающий метод?» Эту мысль он развил в 1799 году<br />
в набросках произведения, которое, к сожалению, не закончил. Когда у нас, немцев, чтото<br />
реализовано полностью, в таком случае оно повторяется до полного выхолащивания,<br />
но намного реже случается осуществить маленький шаг вперед и, пытаясь развить эту<br />
тенденцию самостоятельно, вносить что-либо новое. Ни у одной другой нации так не развита<br />
удобная привычка печатания вкупе различных фрагментов, чтобы потом, после<br />
издания такого собрания, заработать даже литературное имя. Упомянутая работа размещена<br />
в «Сочинениях» Гёте под названием «О так называемом дилетантизме и его практических<br />
формах в искусстве». В начале Гёте анализирует сущность дилетантизма вообще,<br />
сравнивает его с неряшливым ремесленничеством, обнаруживает специфические модальности<br />
его проявления в отдельных видах искусства, подчеркивает его пользу и вред. Остановимся<br />
на те из этих размышлений, которые относятся к производству безобразного.<br />
«Искусство приказывает времени, дилетантизм следует за тенденциями времени. Когда<br />
мастера в искусстве следуют за дурным вкусом, дилетантизм уверует, что он находится на<br />
уровне искусства. Поскольку дилетант видит свое призвание к творчеству только после<br />
воздействия на него других произведений искусства, он отождествляет это влияние<br />
с объективными причинами и мотивами и считает, что может превратить в практическую<br />
производительность возникшее вследствие контакта с искусством эмоциональное состояние,<br />
будто в процессе обоняния цветка мы бы производили сам цветок. Будучи результатом<br />
эффекта поэтического произведения, но предполагающий распыление усилий<br />
искусства в целом, то, что воздействует на наше восприятие, дилетантом принимается<br />
за сущность искусства и используется в качестве импульса для собственного творчества.<br />
Но то, чего он лишен, является архитектоникой в самом высоком смысле, той силой исполнения,<br />
которая творит, созидает и конституирует. Вместо всего этого он обладает<br />
лишь беспредметной идеей и вместо того, чтобы обладать субстанцией искусства, он полностью<br />
ей подчинен. Станет очевидным, чтo дилетант предпочитает аккуратность и порядок<br />
(Reinlichkeit), представляющие совершенные формы бытия, что порождает иллюзию<br />
того, что данность как таковая заслуживает существования. Это относится не только<br />
к аккуратности, а и ко всем последним основаниям формы, способные так же успешно<br />
сопровождать и бесформенность (Unform). Дилетант перескакивает через этапы, рассматриваемые<br />
им лишь как средство и в этой перспективе считает себя в праве судить<br />
о целом, мешая его усовершенствованию. Он неизбежно попадает в ситуацию действия<br />
по ложным правилам, потому что без правил он не способен проявить себя даже как<br />
дилетант, а объективные, корректные правила ему неизвестны. Он все больше и больше<br />
отклоняется от истины вещей и блуждает по ложным, субъективным тропам. Дилетант<br />
развращает ценителей искусства, которого лишает масштаба строгости и серьезности.<br />
Любая самоудовлетворенность разрушает искусство, а дилетантизм вносит еще и толерантность<br />
и добродушие. Он обращает внимание на наиболее близких ему художников,<br />
предпочитая их художникам подлинным. Поэтический дилетантизм или игнорирует неизбежную<br />
механическую сторону творчества, когда ему кажется достаточной демонстрация<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
110<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть вторая<br />
111
душевности и чувствительности, или ищет поэзию исключительно в ее механических элементах,<br />
в которых часто принимает ремесленническое совершенство, но при той же идейности<br />
и том же содержании. Эти обе стороны вредны, первая более вредна для искусства,<br />
а вторая более вредна для самого дилетантизма. Все дилетанты относятся к плагиаторам.<br />
Уже начиная с уровня языка и мысли, повторяя, попугайничая и обезьянничая они истощают<br />
и аннигилируют любой оригинал, пытаясь, таким образом, компенсировать собственную<br />
пустоту. В такой способ поэтическая речь снова и снова перегружается взятыми<br />
напрокат гетерогенными ничего не значащими фразами и формулами — таких красиво<br />
стилизованных, но совершенно бессодержательных книг уйма. Если вкратце, все, что<br />
в подлинной поэзии благородно и прекрасно профанировано и вульгаризировано посредством<br />
пролиферации дилетантизма».<br />
В. НЕПРАВИЛЬНОЕ В ВИДАХ ИСКУССТВА<br />
Таким образом, неправильное заключается в целом и общем в фальшивости (Unrichtigkeit),<br />
в отклонении от имманентной природе и духу закономерности. В частном виде<br />
оно заключается в несоблюдении и противоречивости идеальной характеристики стиля<br />
определенной нации или школы. Если к понятию правильности применить отмеченное<br />
Кантом различие между идеальной и обычной реальностью [31], то можно утверждать,<br />
что в пределах вкуса отдельной нации или школы эстетический идеал развит и выявлен на<br />
стадии обычного единичного существования. В таком случае отдельная школа или нация<br />
будут отождествлять обычное эмпирическое бытие с абсолютным идеалом. Как уже было<br />
показано, правильность в этом смысле может превратиться в некоторую негативную<br />
ограниченность эстетического произведения. Но, к счастью, при помощи средств выражения<br />
любое искусство обладает собственным импульсом, который, продуцируя необходимые<br />
неточности в значении условного стиля, разрывает эту замкнутость, потому что<br />
иначе оно не было бы в состоянии соответствовать свойственным отдельному виду искусства<br />
особенностям закономерности и необходимой правильности. Вот почему, даже в тех<br />
случаях, когда они приобретают авторитетность закона, общие направления никогда<br />
не способны разрушить художественное произведение. Из индивидуальной точности отдельных<br />
видов искусства эманирует максимальная объективность.<br />
Все виды искусства должны представлять прекрасное, но каждый из них может это<br />
осуществить лишь в рамках особенностей его пространства. Эстетика должна развивать<br />
свои правила в системе отдельных видов искусства. Как уже отмечалось, было бы глупо<br />
углубляться здесь в детали <strong>проблем</strong>ы, поскольку ко всем положительным определениям<br />
необходимо было бы добавить и выявление отклонений, составляющих нарушение необходимой<br />
точности. Поэтому следует удовлетвориться выявлением некоторых общих<br />
черт, из перспективы которых становится очевидной вытекающая из особенности отдельного<br />
вида искусства и угрожающая ему собственным типом уродства некорректность.<br />
Пластические виды искусства дают возможность воспринимать красоту в пространстве,<br />
в немой материальности. Архитектура имеет своей задачей возвышать и поддерживать<br />
материю при помощи самой материи. Поэтому она должна придерживаться, прежде всего,<br />
точки опоры. Если архитектура допускает в этом ошибку, она становится неточной,<br />
и никакая другая — орнаментальная или живописная красота — не будет в состоянии<br />
исправить фундаментальную архитектоническую ошибку. Ошибку исправит сама гравитация<br />
и именно тем, что здание обрушится — дорогостоящее, но очень распространенное<br />
в наше дни исправление. В видимости точка опоры может казаться перемещенной, не будучи<br />
таковой на самом деле. Это, к примеру, относится к наклоненной пизанской башне,<br />
которая лишь в видимости находится в противоречии с фундаментальным законом архитектуры,<br />
хотя на самом деле является трюком технического тщеславия, но, поскольку<br />
даже в самых смелых пропорциях архитектура должна пробуждать чувство уверенности<br />
и устойчивости, никто не найдет эту башню красивой.<br />
Только тогда, когда это изначальное требование будет соблюдено, могут быть удовлетворены<br />
и другие архитектонические условия. Любое здание должно опираться на землю,<br />
но если не оно является подземной конструкцией, то должно возвышаться в воздухе, ибо материя<br />
должна нести и возвышать материю — стены нести и возвышать свод. И только эта<br />
несущая сила, вырываясь из глины-матери к небу, придает зданию характерный порыв, свободу.<br />
Таким образом, соблюдение центра тяжести — это тождество внутренней центростремительной<br />
правильности и возвышающейся из земли внешней, центробежной правильности.<br />
В случае скульптуры специфическая неправильность возникает вследствие ошибок<br />
в естественных пропорциях животных и особенно человеческих статуй. Как устойчивые<br />
образы произведения скульптуры предстают перед нами в полноте всех своих пространственных<br />
измерений и поэтому те дефекты, которые сильнее и более всего могут шокировать<br />
наше восприятие, заключаются в отсутствии меры, неверной конструкции, перенасыщенности,<br />
невозможных позициях. Известный канон Поликлета возникает из стремления<br />
искусства установить нормальные пропорции человеческого тела как точки отсчета.<br />
Но именно в скульптуре встречаются и отклонения от реальных положительных пропорций,<br />
которые лишь в строго эмпирическом смысле могут считаться неправильными. Речь<br />
идет о тех отклонениях, которые оправданы более высокой гармонией. Безусловно, некоторая<br />
сущностная норма в любом случае не должна нарушаться, но разрешаются легкие<br />
отклонения от природной точности, которые позволяют содержанию духа полностью<br />
реализовывать свои характеристики, как, к примеру, в известном случае не совсем правильного<br />
изображения живота Аполлона из Ватикана; но мы не воспринимаем эту анатомическую<br />
конкретность как ошибку, поскольку стройность тела на фоне слабости бедер<br />
приобретает свою особенную классичность, полностью гармонирующую с одухотворенностью<br />
головы. С точки зрения эмпирической точности не могут считаться правильными<br />
и массивные формы, но использованные в определенных целях, к примеру, чтобы подчеркнуть<br />
возвышенное, для искусства они вполне могут быть корректными. И все же, в их<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
112<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть вторая<br />
113
кусства вступает в игру глубина духовного содержания и потому что одновременно это содержание<br />
больше других допускает некоторую неточность. Аристотель, Гораций<br />
и Н. Буало пытались сформулировать правила стихосложения, а вместе с ними и принцип<br />
поэтической неправильности. Лингвистическая чистота, метрическая строгость, риторическое<br />
совершенство и четкое определение видов — вот требования, которые должны соблюдаться<br />
в любом произведении искусства. Неточность, от которой больше всего страдает наше<br />
общество, основывается, прежде всего, на последнем пункте, так как можно встретить<br />
слишком много лишенных борьбы эпопей, бесчувственных песен, бездеятельных драм,<br />
и особенно нам нравится называть новеллой лишенную какой-либо особенности сумятицу.<br />
Таким образом, особая форма неправильности рождается через взаимопроникновение<br />
видов искусства. Обладая общей природой, все они могут и должны опираться друг<br />
на друга, а несравненной силе выражения произведение обязано именно единству видов<br />
искусства. Но совсем другое дело, когда, в стремлении достичь противоречащего их особенности<br />
эффекта, отдельные виды искусства выходят (вперед или назад) за собственные<br />
пределы. Любое искусство достигает максимальную силу выражения лишь в пределах<br />
собственных качественных детерминант. Если оно их нарушает и стремится к недостижимым<br />
для собственных средств эффектам, а такими средствами являются те, которые<br />
принадлежат другим видам искусства, тогда оно противоречит самому себе и становится<br />
безобразным. Таким образом, произведение искусства может быть правильным лишь<br />
в той степени, в какой оно соблюдает установленный специфической средой и свойственный<br />
определенному виду искусства предел. Если такой предел будет преодолен, то смелость<br />
подобного рода способна спровоцировать некоторый эффект, потому что таким<br />
образом она производит нечто, что не должно было бы быть произведено, и что в качестве<br />
необычного феномена может показаться интересным, но все же нарушает правила<br />
данного вида искусства. Это должно пониматься правильно. Факт опоры одного вида<br />
искусства на другой порождает красоту, но когда один из этих видов аннулирует особенность<br />
другого, результатом является уродство. К примеру, архитектура может опираться<br />
на скульптуру и даже на живопись, но это не должно подменять независимость утверждения<br />
архитектуры от скульптуры и живописи, которые сводятся в ней к функции орнамента.<br />
Как отмечают Г. Земпер и Ф. Куглер [32], представляется, что полихромизм древних<br />
заботливо соблюдал эту границу. Архитектура предлагает пристанище скульптуре<br />
и живописи, но чтобы их произведения не подавлялись архитектурными массами, она<br />
должна считаться с ними для того, чтобы подготовить для статуи постамент, а для живописи<br />
стену, должна будет модифицировать с такой целью структуру строения. Музыка<br />
и поэзия также могут опираться друг на друга, а поэзия может даже петься, но здесь следует<br />
заботиться о том, чтобы, к примеру, инструментально-аккомпанирующая музыка<br />
не перекрывала слово, стирая его понимание и, подобно современным произведениям,<br />
не вынуждала бы певца кричать, чтобы быть слышимым, вынуждая восторгаться его физической<br />
силой, а не мастерством исполнения.<br />
случае необходимо было бы считаться со степенью величины и особенности объекта. Величины,<br />
поскольку она не должна перейти за грань, за которой усложняется целостное<br />
восприятие формы, объекта, потому что для того, чтобы быть прекрасным, он должен<br />
быть благородным. Огромные быки и львы из дворцов Ниниве красивы, поскольку в-себе<br />
эти животные представляют благородные формы. Вообразим же, что художник захочет<br />
передать пластический образ приподнятой на две передние лапы крысы. Безусловно,<br />
такое произведение будет отвратительным при любых обстоятельствах, даже если будет<br />
достигнуто его совершенное сходство с оригиналом. Это же относится и к миниатюризации,<br />
которая также имеет свои пределы в величине и природе соответственного объекта.<br />
Скульптура может позволить себе некоторое уменьшение природной нормы и в изображении<br />
своих отдельных частей, и все же она не должна перейти в аномальность — с целью<br />
подчеркивания отдельного мускула в определенном соотношении она может воспроизвести<br />
его более вздутым или более вялым, немощнее, чем он мог бы выглядеть в естественном<br />
виде, но при этом все же должна соблюдаться правильность его расположения<br />
и формы. Потому как нарушение фундаментальной анатомической правдивости тут же<br />
отомстит в эстетическом аспекте. Как известно, в изображении лобной кости греки утрировали<br />
естественное формообразование только в случае скульптуры, чтобы посредством<br />
углубленных глаз придать лишенной цветовой окраски статуе силу взгляда, когда оптическая<br />
иллюзия в этом случае компенсирует неправильность костей.<br />
Особенность энергии живописи зависит от цвета и света, но значение рисунка как<br />
пластического момента суживается. Во всяком случае, контуры форм должны быть правильными.<br />
И все же, поскольку живопись должна изображать образы в жизненности<br />
характерного для них цвета, во взаимовлияниях света и тени и модификациях величины,<br />
требуемых с точки зрения иллюзии перспективы, то в случае неточности ошибка рисунка<br />
переносится легче, чем в скульптуре, которая представляет рельефные линии с их собственным<br />
цветом и освещенные извне. В случае скульптуры цвет становится несущественным, поскольку<br />
скульптура интересна лишь как форма. Индивидуализированный цвет находится<br />
в противоречии со строгостью произведения скульптуры, применение цвета в скульптуре,<br />
как в случае разрисованных статуй и восковых фигур, воспринимается как неправильное<br />
действие. В монастырях и так называемых капеллах страстей Христовых часто встречаются<br />
статуи, которые, благодаря тому, что им добавили настоящие волосы, и, с целью усиления<br />
сходства с природной естественностью, на них надеты настоящие одежды, они обладают<br />
большей мрачностью, зловещностью, чем в случае их живописного изображения.<br />
По сути, правильность является той красотой, которая может быть изучена в аспекте<br />
эстетической техники. Особенно очевидно это в музыке, поскольку, несмотря на то, что<br />
этот вид искусства выражает самые высокие чувства именно через природу тона, он связан<br />
с правилами точной арифметики, становясь вследствие этого наиболее доступной самому<br />
строгому контролю точности.<br />
В поэзии неправильность более размыта, поскольку здесь больше чем в другом виде исмария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
114<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть вторая<br />
115
Как известно, в «Лаокооне» Лессинг попытался установить границы живописи и поэзии.<br />
Он выявил неточности, возникающие благодаря тому, что живопись и поэзия забывают<br />
о своей базовой обусловленности, сосуществования и преемственности. Согласно<br />
Лессингу, ошибки, вытекающие из «забывчивости» естественных предпосылок названных<br />
видов искусства, порождают «манию описывания» в поэзии, манию «аллегорий»<br />
в живописи, «поскольку поэты захотели сделать из поэзии говорящую картину, не зная<br />
практически, что должна изображать поэзия, а художники, напротив, немую поэму,<br />
изначально не думая о том, в какой степени живопись может выражать общие идеи без<br />
того, чтобы отдалиться при этом от собственного предназначения и становясь при этом<br />
посредственной модальностью описания при помощи изображения. В 23–25 главах<br />
трактата Лессинг изгнал безобразное из живописи, оставив его поэзии. Это заблуждение<br />
и последовательный в тонкости способа собственного мышления Лессинг должен был задать<br />
себе в дальнейшем вопрос: не позволено ли все же и живописи пользоваться формами<br />
безобразного, чтобы изобразить комическое или ужасное? «Не решаюсь ответить прямо:<br />
“нет”». Таким образом, он отличает применяемое для порождения комического<br />
«преднамеренное» уродство, и используемое для изображения ужасного уродство разрушительное,<br />
«вредное», утверждая, что пробужденные комическим и ужасным первые<br />
впечатления в живописи скоро угасают, оставляя место только неприятному чувству и деформации<br />
как таковой: «в живописи… преднамеренное уродство не остается длительное<br />
время комическим, неприятное чувство побеждает и то, что вначале было гротескным,<br />
становится в итоге действительно отталкивающим. Точно также происходит и в случае<br />
“разрушительной” уродливости: характер ужасного потихоньку приглушается и остается<br />
лишь изначальная деформация, одинокая и неизменная». Для обоснования рассуждений<br />
Лессинг отдает предпочтение материалу из сферы поэтических произведений, но не из<br />
живописи, что, как увидим в последующем анализе в разделе об отвратительном, обусловит<br />
слишком узкое описание им живописи.<br />
Между видами искусства существует внутренняя корреляция, конкретизируемая постоянным<br />
переходом одного вида в другой. Благородной колонной архитектура уже рассказывает<br />
о статуе без того, чтобы стать ею. В рельефе скульптура уже предвосхищает<br />
живопись, но рельеф как таковой пока что не выражает ни одного принципа живописи,<br />
так как он еще не обладает перспективой и иной тенью, кроме той, которая возникает<br />
благодаря случайному освещению. Живопись уже с такой силой выражает теплоту индивидуального<br />
проявления жизни, что отсутствие звука кажется случайным, а игра света,<br />
тональность цветов еще не предстают реальным звуком. Только музыка способна выражать<br />
наши чувства через свои тональности. Мы воспринимаем их в символике ее тональной<br />
конструкции, но чем полнее она выражает наш внутренний мир, тем сильнее мы<br />
стремимся возвыситься до ее мистической глубины к поэзии, к ясности и точности<br />
словесного представления. Братская взаимопомощь, которую оказывают друг другу отдельные<br />
виды искусства, и эта внутренняя преемственность — от архитектуры до поэзии<br />
— представляет собой нечто совсем иное, чем неприемлемое нарушение границ и особенностей<br />
друг друга, потому что она не заключается в естественном прогрессирующем усилении,<br />
а в том, что посредством узурпирования и деградации отдельный вид искусства<br />
пытается добиться эффектов, которые ему не свойственны. Когда отдельный вид искусства<br />
нарушает границу своей особенности относительно более высоких ступеней иерархии<br />
искусств, он узурпирует. Когда такое нарушение направлено к низшим ступеням,<br />
тогда происходит деградация. Узурпация и деградация порождают уродство. Вот лишь<br />
несколько примеров в поддержку вышесказанного. В случае архитектуры регрессивное<br />
нарушение собственных границ невозможно — в своем восхождении она должна заботиться<br />
о том, чтобы не ослабить собственные фундаментальные отношения через скульптуру<br />
и живопись. Скульптура не должна деградировать принимая на себя роль архитектурной<br />
колонны. Безусловно, со свойственной им геркулесовской конструкцией, атланты<br />
больше предназначены для выполнения функций кариатид и поддерживания сводов, чем<br />
тонкие силуэты несущих корзины с фруктами девушек, но такие несущие структуры никогда<br />
не станут решающими архитектурными компонентами, а всегда будут значить некоторую<br />
деградацию человеческой формы, которая слишком благородна, чтобы служить<br />
только в качестве поддержки балки. В том, каким образом Атлас держит на своих плечах<br />
Землю, присутствует поэтический смысл, поскольку этим предполагается действительно<br />
неограниченная сила, но выполнять функцию, которую так же хорошо, и даже лучше, может<br />
выполнить простая колонна, противоречит человеческому достоинству. И, напротив,<br />
когда на колоннах, наподобие многих египетских, капитель заменена головой, даже если<br />
это голова самой богини Изис, в аспекте роли колонны имеет место узурпация и, таким<br />
образом, правомерное с эстетической точки зрения предвосхищение статуи. Если музыка<br />
пытается изображать то, что может быть только увиденным, тогда она напрасно перегружает<br />
свои методы. Знаменитый пассаж из «Оратории творчества» Й. Гайдна «Да будет<br />
свет, и стал свет!» никогда не сможет изобразить свет как свет, а постоянно будет порождать<br />
лишь удивительное движение, порожденное возникновением света в универсуме.<br />
Пытаясь подчеркнуть изобразительный характер своей композиции в сюите «Времена<br />
года» Гайдн пользуется многообразием тональностей природных феноменов и человеческой<br />
деятельности: охотник заявляет о себе призывом горна, пастух — бренчанием колокольчиков<br />
стада, крестьянин — танцующим ритмом флейты. Говор водного течения, гул<br />
грозы, раскаты грома могут имитироваться в музыке, но чувства могут приобрести лишь<br />
символическое выражение. И напротив, изобразительное искусство не способно передать<br />
то, что может быть выражено лишь музыкальным или поэтическим языком. Несомненно,<br />
посредством слова поэзия может изображать все. Ничто не может сопротивляться<br />
ее описательной силе. Художественное творчество, напротив, может изображать лишь<br />
то, что входит в область видимости. В этом смысле очень трудно найти что-либо общее<br />
и окончательно приемлемое. Для того, чтобы точно определить, нарушило ли художественное<br />
творчество свои границы, необходимо выявлять каждый случай в отдельности.<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
116<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть вторая<br />
117
1 Бульвер-Литтон Э. Дж., барон Литтон (1803–1873) — английский романист и государственный деятель, автор<br />
емся при знакомстве с варварским языком, живущий в непосредственной с нами близости,<br />
представляющий для нас язык наших врагов. Берлинский жаргон так сильно распространялся<br />
на протяжении нескольких десятилетий именно потому, что содержит в себе<br />
элемент яркой самоиронии, который делает его, скажем так, общительным. Разумеется,<br />
что и в случае жаргона встречаются грамматические ошибки.<br />
Отличается от жаргона и ложное выражение снобистского педантизма, с чванством<br />
применяющий иностранные слова. Поскольку каждый язык должен представлять<br />
гармоническую целостность, необходимо жестко избегать слова иностранного происхождения.<br />
Но лингвистическая чистота не может идти так далеко. Там, где возникают<br />
смешанные языки, как в случае современных романских языков, или где космополитизм<br />
всемирной цивилизации подталкивает народы к самым тесным взаимосвязям, как в случае<br />
Европы и Америки, языковая чистота становится невозможной. Она может стать<br />
даже ошибочной, если в определенной ситуации будет использован общеизвестный неологизм.<br />
Но педантизм неологизмов представляет собой уродство тогда, когда, как случилось<br />
в нашей литературе в середине ХVІІ в., аннулирует эстетическую целостность. А комическим<br />
он предстает с момента, когда пытается выразить некоторое внутренне<br />
противоречие или сразу же, когда нелепо и произвольно пытается создать из двух языков<br />
один, совсем новый, абсолютно независимый, как случилось с так называемым макаронизмом<br />
[34]. Но собственной историей это явление обнаруживает, что такая процедура<br />
может иметь успех только в случае некоторой степени родства смешиваемых языков,<br />
подобно итальянскому и латинскому языкам. По этой причине, Теофиль Фаленго останется<br />
самым великим макароническим поэтом. Неолингвистический педантизм такого<br />
произведения как Epistolae obscurorum vivorum не является макароническим, а всего<br />
лишь тем, что можно было бы назвать латинским германизмом, вульгарным «кухонным»<br />
латинским.<br />
Часть третья<br />
РАСПАД ФОРМЫ, или ДЕФОРМАЦИЯ<br />
Безобразное является не простым отсутствием прекрасного, а его положительным отрицанием.<br />
То, что согласно его содержанию, не попадает под категорию прекрасного,<br />
не может подводиться и под категорию безобразного. Арифметический расчет не является<br />
ни прекрасным, ни безобразным, лишенная какой-либо величины протяженности<br />
в пространстве математическая точка не является ни прекрасной, ни безобразной, это же<br />
таких исторических и философских романов, как «Пелэм» (1828), «Последние дни Помпеи» (1834), «Ришельё»<br />
(1839), «Эрнест Мальтраверс» (1837), «Гарольд, последний из саксов» (1848).<br />
Одни внутренние аспекты — лирические или сугубо идеальные — перестают быть доступными<br />
изображению. Художественное творчество должно превращать субъективное<br />
содержание в конкретную ситуацию, чтобы изобразить ее на полотне. Парижский<br />
художник А. де Лемюд изобразил печального художника сидящего на скамейке, перед<br />
ним — расположенные кисти и другие принадлежности; рядом с ним, с ключом в руке<br />
и уверенном движении изображена пожилая женщина, оба одеты в средневековую одежду.<br />
Что выражает эта картина? Без помощи каталога догадаться невозможно. Откуда<br />
можно узнать, что здесь аллегорически представлен Ван Дейк с сестрой Маргаритой в ту<br />
минуту, когда после длительных раздумий они открыли технику письма маслом? Как<br />
хорошо было бы, если бы Лемюд прочитал «Лаокоона» Лессинга! Открытие, точнее,<br />
изобретение пороха может быть изображено на картине точно так же, как можно изобразить<br />
монаха Бертольда Шварца, который убегает в страхе от взрывающейся ступы.<br />
В этом случае взрыв характеризует суть сцены. Но открытие письма маслом не может<br />
быть изображено, о нем можно лишь рассказать, как это сделал Шопенгауэр.<br />
Как любое проявление безобразного, неточность в области отдельных видов искусства<br />
легко превращается в комическое, если она провоцируется художником преднамеренно.<br />
Но все же, архитектуре и скульптуре, по причине их строгости и простоты, или музыке,<br />
по причине ее математического основания, это менее возможно, чем в живописи и поэзии.<br />
Поскольку поэзия изображает при помощи речи, неправильность применения последней<br />
более подвластна комическому. В аспекте прекрасного ошибки выражения, жаргон или<br />
мания украшать речь иностранными словами являются случаями неправильного. Примененные<br />
же преднамеренно, они в особенной смешной форме могут представить противоречия<br />
духа самому себе и в то же время его отдаленность от юмора, поскольку речь всегда<br />
остается лишь средством. То, что в другом случае было бы только безобразным, становится,<br />
таким образом, смешным и поэтому драматическая литература постоянно прибегает<br />
к этой форме неправильного. Шекспир использовал неверные выражения практически во<br />
всех возможных проявлениях, добиваясь, таким образом, неисчерпаемых комических эффектов<br />
[33]. К области разговорных ошибок можно отнести и бормотание, комической мимизацией<br />
которого итальянцы развлекаются так часто, что среди неаполитанских масок<br />
всегда найдется и маска Балбуторе. Сам по себе правильный диалект может предстать<br />
неточным с точки зрения литературного языка: с целью придания нюансов контрастам, авторы<br />
комедий пользуются им, как это встречается у Аристофана, Шекспира или Мольера.<br />
От диалекта жаргон отличается тем, что представляет эклектический язык с терминами,<br />
привлеченными из различных областей и достигающий собственную целостность,<br />
наподобие арго лондонских бездомных или уголовного мира. Бульвер 1 , Сю и другие часто<br />
прибегали к арго, нередко и для внушения ошибки, потому что такой язык сам по себе<br />
исключает нас из цивилизации и рафинированного буржуазного общества. Мы содрогамария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
118<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть третья<br />
119
относится к абстрактному мышлению и др. Поскольку безобразное отрицает прекрасное<br />
положительным образом, оно не может считаться простым следствием преобладания<br />
чувственного над духовным, как ошибочно определяют его некоторые эстеты, поскольку<br />
чувственное как таковое естественно; а, в соответствии со своей природой, естественное<br />
с необходимостью не является прекрасным, поскольку, подчиняя свою эстетическую<br />
форму собственной теологической целостности, оно изначально стремится к тому, чтобы<br />
быть адекватным собственной цели. Но, согласно своей сущности, оно также мало может<br />
считаться и необходимо безобразным — как видно по самым простым конфигурациям неорганического<br />
мира, не противореча своей природе, чувственное может быть и прекрасным.<br />
Какими прекрасными могут быть скала, море, каскад, или туча! Если верно то, что<br />
чувственный мир исчерпывает принцип безобразного, то в таком случае все относящееся<br />
к природе должно быть безобразным. Так же мало можно согласиться и с противоположным<br />
утверждением, а именно — что духовное само по себе выражает сущность прекрасного,<br />
потому что чувственное выступает также созидательным моментом прекрасного.<br />
В своей абстрактной изолированности от природы, в своей отрицательной, противоположной<br />
чувственному замкнутости, духовное не является эстетическим объектом. Оно<br />
становится таковым только там и тогда, где и когда посредством природы или искусства<br />
входит в движение конечного, чувственно воспринимаемого явления. Поэтому нельзя утверждать<br />
и то, что зло и чувство вины представляет собой один из принципов безобразного,<br />
так как даже если зло и чувство вины могут стать причинами безобразного, это не обязательно<br />
необходимо. Безобразное может состояться без опоры на зло. До тех пор, пока<br />
оно выражает не страх перед наказанием, а искреннее сожаление, чувство вины может<br />
придать кому-то выражение странной красоты, к примеру, такой, какой художники пытаются<br />
придать лицу Марии Магдалине в момент ее раскаяния. Если скульптор создает неудачною<br />
статую, композитор — невыразительное произведение, поэт — неудачное стихотворение,<br />
то эти некрасивые аспекты их творчества не обязательно должны порождаться<br />
уродливым сердцем или злым характером. Они могут быть самыми хорошими людьми,<br />
которые просто лишены таланта и мастерства. Само добро может стать источником безобразного,<br />
как это можно увидеть в случае тяжелых, опасных и грязных видов человеческого<br />
труда. Рабочие шахт по добыче мышьяка, фабрик по производству свинцовой углекислоты,<br />
чистильщики выгребных ям, чистильщики канализаций и другие достойны всяческого<br />
уважения за свой полезный труд, что совсем не означает, что этот труд их украшает.<br />
Из вышесказанного можно вывести понимание метода, при помощи которого возможность<br />
безобразного опирается прежде всего на попирании универсального императива<br />
тождества, различия и гармонии — отрицание, которое, само по себе еще не имеет ничего<br />
общего с противоречием природы и духа или добра и зла. Мы видели также, как безобразное<br />
может возникнуть вследствие отрицания специфической обусловленности, с необходимостью<br />
присущей природному и духовному. Истинность определенного аспекта<br />
или феномена состоит в свободной согласованности индивидуума с видом, в полноте<br />
и точности, с которой феномен соответствует своей сущности. Если эта норма не соблюдается,<br />
в таком случае возникает неточность, уродливость, претерпевающие многочисленные<br />
ограничения — иными словами, простая точность должна подчиняться идеальной<br />
истине. Впрочем, окончательным мотивом красоты является свобода — понятие, применяющееся<br />
здесь не только в чисто этическом, но и в общем значении спонтанности, которая<br />
достигает полноту своего осуществления В нравственной самообусловленности,<br />
оно становится эстетическим объектом в игре жизни, в динамических и органических<br />
процессах. Сами по себе закономерность, симметрия, порядок, истинность, естественность,<br />
психологическая и историческая точность еще недостаточны для соответствия<br />
условиям прекрасного. Для такого соответствия необходима также одухотворенность посредством<br />
спонтанности, рождающейся в самом смысле прекрасного жизни. Необходимо<br />
признать, что такая спонтанность может быть с эстетической точки зрения истиной, а в реальности<br />
простой видимостью. Эстетика может оперировать такой видимостью. Когда<br />
струя артезианского колодца рассыпается брызгами в воздухе, тогда этот феномен является<br />
результатом механического импульса, сообщаемый механическим мотором воде, но<br />
сила струи создает видимость свободного движения. Цветок колышется в разные стороны,<br />
но не он обусловливает это движение, а ветер, в видимости же цветок движется сам.<br />
Без свободы не существует истинная красота, без отрицания свободы невозможно<br />
и подлинное безобразное. Отсутствие формы и неточность достигают апогея своего генетического<br />
основания именно в отсутствие свободы. Из этого отсутствия возникает<br />
деформация образований. Прекрасное вообще становится противоположным возвышенному<br />
и приятной красоте и в абсолютной красоте такая оппозиционность восходит до<br />
слияния добродетели и грациозности. В этой, по нашему мнению естественной дифференциации,<br />
возвышенное уже не противостоит красоте, как привычно было думать<br />
от Канта до наших дней, а понимается как собственная форма красоты, как ее высшее<br />
проявление, посредством которого красота достигает характер бесконечности. Именно<br />
поэтому данное подразделение считает приятное положительной формой существенной<br />
красоты, а качественно другой крайностью ее проявлений — переход красоты в конечное.<br />
Возвышенное и приятное прекрасны также и как скоординированные взаимно обусловливающиеся<br />
противоположности. Обе же подчинены абсолютной красоте, которая в качестве<br />
их конкретного единства и возвышенна, и приятна, не будучи в одностороннем<br />
порядке только тем или другим. Поэтому, в качестве отрицания прекрасного, безобразное<br />
должно положительно инверсировать возвышенное, приятное, просто красивое. Через<br />
инверсацию такого рода рождается уродство. Выражаясь парадоксально, можно сказать:<br />
величественное, благородное, приятное и грациозное прекрасны, но могут становиться<br />
безобразными. Но такие парадоксальные формулировки угрожают их верному<br />
в нашем случае пониманию, поскольку слишком легко могут пониматься буквально, как<br />
и в случае, когда величественное и грациозное не будут прекрасными, а также в случае,<br />
когда абсолютная красота не исключала бы из себя любое уродство.<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
120<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть третья<br />
121
В своей эстетике Х. Вайсе даже осмеливается утверждать [35], что безобразное является<br />
непосредственной красотой. Для того, чтобы быть воспринимаемым, безобразное<br />
должно считаться не только существующим, но еще и становящейся целостностью. Величественное<br />
отрицается тем, что вместо проявления бесконечности свободы, оно демонстрирует<br />
ограниченность отсутствия свободы. Речь идет не об отсутствие свободы конечного<br />
мира, поскольку такая свобода нейтральна с эстетической точки зрения. Но присутствующее<br />
в отсутствие свободы ограничение находится в противоречии с бесконечной сущностью<br />
свободы. Эта контрастная форма отсутствия свободы называется ординарной.<br />
Ординарное имеет смысл только в той степени, в какой его не должно быть, поскольку<br />
оно противоречит сущности как целостности, которая должна быть свободной.<br />
Понятие величественного обусловливает понятие ординарного. К примеру, отдельное<br />
лицо может считаться ординарным тогда, когда в нем просвечивается зависимость конкретного<br />
человека от некоторого порока, поскольку такая зависимость противоречит понятию<br />
человека, достоинство которого она оспаривает. Приятное позволяет свободе<br />
проявляться в ограниченных отношениях подчиненных форм. Оно притягивает очарованием<br />
самоограничения свободы. На самом деле приятное красиво благодаря развлечениям<br />
и поэтому самый веселый и общительный народ — французы — выражают оценку красоты<br />
чаще посредством слова joli, чем понятия beau. Отрицание свободы, играющейся<br />
с собственной конечностью, представляет собой аннуляцию свободы через отсутствие самоотрицающейся<br />
свободы. Такое отрицание вызывает отвращение, так как устраняет<br />
границы, которые, согласно необходимости свободы, должны бы существовать, и устанавливает<br />
другие границы, которые, согласно той же необходимости, существовать<br />
не должны. Свобода в ипостаси отсутствия отвратительна, а отвратительное противоположно<br />
приятному, поскольку представляет свободу противоречиво и именно как таковую,<br />
что имеет предел, которого не устраняет, аннулируя в то же время пределы, которые<br />
должны были бы существовать. Почему, к примеру, гниение живого организма является<br />
отвратительным зрелищем? Несомненно, потому, что загнивая, организм становится<br />
жертвой естественных процессов, которые доминируют, пока он жив. Загнивая организм<br />
еще пребывает в форме, в которой мы привыкли его созерцать, в форме существа, которое<br />
самообусловливается и способно управлять и контролировать естественные условия<br />
своего существования, но именно эту форму мы и созерцаем как разлагающуюся, попавшую<br />
в плен сил, над которыми, будучи живым, он властвовал. Это явление отвратительно,<br />
поскольку то, что согласно своему содержанию является свободным, пребывает в таком<br />
состоянии, отсутствие свободы которого разлагается, аннулирует необходимые границы<br />
живой целостности. Загнивающее распадается и каким бы необходимым ни был такой процесс<br />
в данной ситуации, он все же предстает отвратительным, потому что под эстетическим<br />
углом зрения мы представляем себе, что данная форма еще обладает силой жизни.<br />
Ординарное и отвратительное коррелируют естественным образом, но и отличаются<br />
друг от друга. Как правило, ординарное становится и отрицательным. Когда кто-то чрезмария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
122<br />
мерно ест и пьет, мы говорим, что этот индивид ведет себя ординарно, если вследствие отсутствия<br />
умеренности его стошнит, ординарное превратится в отвратительное.<br />
В абсолютной красоте величественное становится достоинством, а приятное — грациозностью.<br />
Бесконечность первого становится силой самообусловливания, а конечность<br />
второго — уменьшением самоограничения. Уродливым аналогом абсолютной красоты<br />
выступает такая эстетическая форма, которая воплощает ограничение отсутствия свободы<br />
на стадии отсутствия свободы самой границы, но таким образом, что отсутствие свободы<br />
достигает видимость свободы, а свобода — видимость отсутствия свободы. Такое<br />
образование безобразно, поскольку истинное уродство предстает свободой, которая<br />
противоречит себе собственным отсутствием, включая в свою конечность предел, который<br />
не должен был бы существовать. Но через видимость прекрасного безобразное<br />
уменьшается — мы сравним его с той формой, которая выражает противоположный<br />
воображению идеальный образ, а посредством такого сравнения безобразный образ<br />
переходит в комическое. Самоистребление безобразного через видимость свободы и неограничения,<br />
выражающее себя посредством деформации идеала, комично. Эту специфическую<br />
форму безобразного назовем карикатурой. Карикатура с итальянского означает<br />
перенасыщенность и поэтому она обычно определяется как преувеличение характерного.<br />
В целом, это определение верно, в частности же оно требует дополнительных уточнений<br />
при помощи подчеркивания контекста отношений, в которых пребывает тот или иной феномен.<br />
Характерное является моментом индивидуализации. Если в последней преувеличивается<br />
индивидуальное, общее исчезает и вследствие этого индивидуальное начинает<br />
представляться видом. Но именно потому возникает необходимость сравнения контраста<br />
чрезмерной индивидуализации со степенью необходимой всеобщности, и именно в этом<br />
сравнении заключается сущность карикатуры. Абсолютная красота положительным образом<br />
уравновешивает в себе крайности величественного и приятного, в то время как карикатура<br />
усиливает крайности ординарного и отвратительного, позволяя в то же время<br />
созерцать величественное и приятное, настоящее величественного как приятное, приятное<br />
как величественное, ординарное как величественное, отвратительное как приятное<br />
и ничто, лишенное каких-либо характеристик в качестве абсолютной красоты.<br />
Отправляясь отсюда, мы сможем выявить особенную многогранность понятия карикатуры<br />
и возможности его распространения на понимание безобразного вообще. То, что<br />
лишено формы или является неправильным, как и то, что является просто ординарным<br />
или отвратительным, еще не предстают карикатурой. Асимметричное, к примеру, еще<br />
не карикатурно, — оно суть простое отрицание симметрии. Только крайность симметрии,<br />
там, где, как нарушение требуемой самой природой симметричного меры, будет совсем<br />
не к месту, она становится карикатурой в виде деформации. Или же, если кто-либо примешивает<br />
в своей речи поговорки, еще не является неправильным; но когда, подобно Санчо<br />
Пансы, говорит только поговорками, тогда такая мешанина становится в результате<br />
деформацией, в которой использованная к месту и ко времени выразительная сила погокарл<br />
розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть третья<br />
123
ворки утрачивается. Тривиальный облик еще не карикатурен, но когда он полностью<br />
растворяется в одной из своих составляющих, когда не является чем-либо еще кроме подбородка,<br />
носа или лба и т. д., тогда рождается деформация. Точно также и отвратительное<br />
как таковое не является еще карикатурой. Когда мерзкая ситуация, подобная случаю<br />
эпилепсии, вынуждает человека подчиниться без всякого сопротивления, это вызывает<br />
глубокое сочувствие. Но когда видим Блепира из «Женщин в народном собрании» Аристофана<br />
ранним утром выходящим из дома, чтобы справить нужду, одетого в спешке<br />
в одежду жены, тогда отвратительное потому становится комической карикатурой, что<br />
Блепир не знает о том, что его видят.<br />
Художник уровня Аристофана не упускает случай связать с такой ситуацией избыток<br />
тонких намеков. В чем заключается карикатурность? Очевидно, в том, что жена уважаемого<br />
афинского мещанина Протагора к этому времени уже ушла на женское собрание<br />
в одежде супруга — в то время, как Блепир занят удовлетворением ординарных потребностей,<br />
она пытается там юридически обосновать иной общественный порядок. Мужья,<br />
хочет нам сказать поэт, уже не мужчины — здесь женщины настоящие мужчины. Поэтому<br />
Блепир и представлен в байковом халате жены и ее персидских тапочках. Возле забора<br />
позади дома к нему присоединяется сосед и оба, уважаемые граждане, беседуют о том,<br />
каким образом Блепиру удается справить нужду, поскольку «страшные газы только что<br />
блокировали работу его кишечника». Очень духовная тема для беседы, которой Аристофан<br />
сразу же придает сатирический оборот, придавая ей не только политические намеки,<br />
но и издеваясь одновременно над теми поэтами, которые хотят заменить отсутствие соли<br />
в комедиях эксцессами таких вопиющих цинизмов.<br />
Карикатура выталкивает характерное за его пределы и таким способом добивается<br />
несоответствия, посредством которого, помня об идеальной противоположности характерного,<br />
становится комической. Посредством этого она становится комической,<br />
поскольку не необходимо, чтобы любая карикатура имела комический эффект, как любая<br />
деформация будучи способной быть просто безобразной или страшной. К примеру, увеличение<br />
или уменьшение пропорций относительно нормальных параметров еще не становится<br />
карикатурой, поскольку в случае такого нарушения нормы или отставания от нее,<br />
целостность всех соотношений все же сохранилась бы. Статуя Наполеона на Вандомской<br />
колонне огромна по величине и должна быть таковой в соответствии с пропорциями окружающих<br />
зданий и самой колонны. Металлическая копия такой статуи величиной с палец,<br />
которую можно поставить на рабочий стол, также не является карикатурой. Так лопарь<br />
имеет рост в четыре ноги, но прекрасно пропорционален и так же мало карикатурен,<br />
как и мелкая береза на его пастбищах. Маленькие размеры являются для лопаря нормальными.<br />
Но бушмен с его огромной головой, узкой грудью и кривыми ногами похож на обезьяну<br />
и поэтому является карикатурой человеческого тела. Отдельный момент в его одностороннем<br />
росте провоцирует ту расчлененность организации, которая достойна названия<br />
карикатуры, даже если, как уже говорилось, мы склонны считать любое уродство<br />
деформацией прекрасного. К примеру, в обычной жизни мы не склонны считать Форкия<br />
карикатурой, поскольку в контрасте с прекрасной Еленой он представляет для нас уродство<br />
вообще, эстетическое зло. Но в более узком смысле все его отрицательные черты —<br />
впавшие губы из-за беззубых десен, морщинистое лицо, костлявые руки, плоская и увядшая<br />
грудь уродливы и почти что внушают ужас. Для того, чтобы быть карикатурой, необходимо<br />
было бы, чтобы некоторая точка деформации из упомянутого образа Форкис<br />
сглаживал аномальность, которую у него нельзя обнаружить — к примеру, неразвитость<br />
скелета. Для того, чтобы быть карикатурной, разорванность гармонии некоторой структуры<br />
должна иметь в качестве содержания отсутствие свободы и ограничение формы,<br />
но при этом пробуждать видимость свободы, поскольку без последней изображение впадает<br />
в омерзительное. Чем сильнее эта видимость свободы, тем комичнее будет характер,<br />
которого получит карикатура. Преувеличение характерного и сверх огрубление избытка<br />
величины должны казаться результатом собственного действия. Поэтому комедия предпочитает<br />
применять противоречие с точки зрения людей и их реального состояния или<br />
свойств, поскольку посредством свободы, которая оказывается игнорированием их реального<br />
образа, усиливается комический эффект. Горбатый человек, к примеру, может<br />
быть безобразным, вместе с тем, он может считать себя красавцем; более того, он может<br />
просто не обращать внимания на эту свою характеристику. Таким образом, он претендует<br />
на то, что прекрасен и имеет нормальное строение и только через это становится карикатурным,<br />
причем именно в комическом смысле, поскольку само его поведение заставляет<br />
нас сравнивать его с нормальным телом.<br />
Но довольно подготовительных пояснений. Они предназначены лишь для облегчения<br />
понимания того, что последним мотивом безобразного как деформации через ординарное<br />
и омерзительное, заключается в отсутствии свободы. Отсутствие свободы не означает<br />
просто отсутствие свободы, а является положительным отрицанием подлинной свободы.<br />
Но если такое отсутствие свободы и вытекающая из нее отрицательная эстетическая<br />
форма представлены как результат свободы, в таком случае отсутствие свободы аннулируется.<br />
Более точно эту сложную диалектику можно сформулировать таким образом: ординарное,<br />
омерзительное, несостоятельное являются порождениями свободы, которая<br />
в этих формах производит саму себя как отсутствие свободы. Но если эта свобода забывает<br />
о своем противоречии с подлинной свободой, когда она удовлетворяется состоянием<br />
приятного самодовольства, когда, игнорируя существование идеального, она находит<br />
удовлетворение в ординарном и омерзительном, тогда ее проявление объято свободой<br />
чисто формально, а последнее придает карикатуре комический характер. Отсутствие свободы<br />
представимо и без того, чтобы стать ординарным или омерзительным. Эпиктет в качестве<br />
раба, Гус, Колумб, Галилей в тюрьме внешне были несвободными, что никоим<br />
образом не делало их низкими. Поскольку внутренне они оставались верными свободе,<br />
их состояние не кажется унизительным, омерзительным, а величественно трагическим.<br />
Именно таким образом возможно аннулирование подлинного отсутствия свободы без<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
124<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть третья<br />
125
всякого уродства — напротив, как становление прекрасными через превращение в подлинную<br />
свободу. Но свобода, которую мы пытаемся здесь описать, является спонтанностью<br />
углубленной в себя несвободы. Эта свободная несвобода абсолютизирует характерное<br />
в качестве ограниченной стороны индивидуального и таким образом отходит от идеала,<br />
но остается примиренной со своей видимой реальностью и этой противоречивостью<br />
предоставляет зрителю мотив для смеха.<br />
А. ОРДИНАРНОЕ<br />
их размышлениях об использовании тривиального и низкого в искусстве, Шиллер идет<br />
дальше, утверждая, что нельзя принимать образ Одиссея, изображенного Гомером нищим,<br />
поскольку с таким визуальным созерцанием могут связываться многие маргинально-тривиальные<br />
представления. Эта точка зрения совершенно безосновательна и живопись,<br />
к счастью, никогда не считалась с нею.<br />
Подлинная красота представляет собой счастливую середину между величественным<br />
и приятным — счастливую середину, равно исполненную бесконечностью величественного<br />
и конечностью приятного. Величественная красота является формой определенной<br />
в-себе и для-себя красоты. В «Критике способности суждения» Кант отнес величественное<br />
исключительно к сфере субъективного, так как с его точки зрения, величественное является<br />
тем, что, будучи только мыслимым, уже представляет собой силу чувства, выходящего<br />
за пределы какого-либо ощущения. Эта точка зрения была впоследствии развита не<br />
только в придаваемом ей Шиллером смысле, когда оспаривается отношение величественного<br />
к конечному пространству, а до такого предела, когда, как доказывалось А. Руге<br />
и К. Фишером [37], природе вообще было отказано в величии. Но мы хорошо знаем, в чем<br />
заключается величие природы, и для того, чтобы радоваться ему, мы превращаем его<br />
в цель трудных путешествий. Находясь на покрытой снегом и дымящейся вершине Этны,<br />
созерцая Сицилию, омываемую морскими волнами между берегами Калабрии и Африки,<br />
отметим, что величественность этого пейзажа не является результатом нашей субъективной<br />
деятельности, а объективным произведением природы, которого с нетерпением ожидаем<br />
увидеть задолго до достижения вершины. Или когда, поднимая к небу блестящие<br />
в лучах солнца водяные пары, ниагарский водопад с грохотом опрокидывается на каменные<br />
скалы, он величественен в-себе, безразлично — присутствует ли здесь созерцающий<br />
этот спектакль человек или нет. Что касается ощущения, то оно ни в коем случае не является<br />
контраргументом величественного. Ни природа, ни искусство не могут абстрагироваться<br />
от чувственного восприятия. Кант все же говорил лишь о силе чувства, которое выше<br />
любого ощущения, но впоследствии другие мыслители изъяли полностью ощущение<br />
из сферы величественного, основывая его исключительно на морали и религии. Величественное<br />
включает в себе конечное и чувственное, одновременно преодолевая их. Мы<br />
не только мыслим бесконечное, но последнее также реализует себя и эта интуиция является<br />
тем, что освобождает нас от тяжести границ. Возвышение души только повторяет то,<br />
что объективно существует. Когда с высоты заснеженных вершин Этны охватываем<br />
взглядом в широкой перспективе небо, находящиеся далеко внизу море и землю, тогда<br />
это макрокосмическое видение освобождает нас от субъективной узости и возвышает<br />
до господствующих в универсуме богов, как ярко выражено в стихах Гёльдерлина<br />
из «Смерти Эмпедокла».<br />
Можно было бы также обойти некоторые недоразумения относительно понятия величественного,<br />
если бы его разные ипостаси не упускались из виду и часто не идентифицировались<br />
с общепринятым пониманием, потому что величие, прежде всего, является<br />
Научное изображение безобразного не должно забывать о том, что оно выводит свой<br />
основной логический принцип из положительной идеи прекрасного, поскольку безобразное<br />
не может образоваться только через отношение с прекрасным как отрицание последнего.<br />
С понятием безобразного здесь случается то же, что и с понятиями болезни или зла,<br />
логика которых вытекает также из природы здоровья и доброты. Как представляется,<br />
научная перспектива усиливается логической точностью, потому что тот, кто хочет чегото<br />
добиться в области познания, должен, как говорит Шиллер, познавать глубоко, строго<br />
дифференцировать, находить сложные связи и постоянно упорствовать. Добавить<br />
к этому больше нечего. Но исследователь должен объяснять понятия и при помощи примеров,<br />
особенно в малоисследованной области. Только при помощи примеров он сможет<br />
развеять сомнения, которые иногда вызывают его абстрактные размышления. А с применением<br />
примеров его поджидает новая опасность, так как, представляя собой частный<br />
случай, пример ограничивает универсальность истины и угрожает смешивать случайное<br />
с необходимостью. Точно так же, как правомерно утверждает Шиллер [36], озабоченный<br />
научной строгостью исследователь не должен без особой надобности прибегать к примерам.<br />
И все же, на протяжении данного исследования это приемлемое в целом правило будет<br />
нарушаться, поскольку здесь мы имеем дело с предметом, относящемуся к созерцанию,<br />
и для которого истина его абстрактного определения проверяется при помощи<br />
примера. Нетерпеливость людей в применении всеобщего к частному, отсутствие опыта<br />
у большинства читателей в области длительного контакта со строгими концептуальными<br />
определениями обязывает современного писателя обратиться к более широкому кругу,<br />
по сравнению с тем, который предзадан строгой специализацией, заставляющей думать<br />
больше примерами. Даже на примере истории отдельной теории можно увидеть сколь<br />
тесно привязана традиционная культура к примеру, чтобы признать особенную значимость<br />
последнего. Вне всякого сомнения, Лессинг относился к тем, кто давал точные<br />
и строгие определения. Но относительно области нашего исследования отметим, как это<br />
часто после него повторялось, что можем представить себе воспетого в стихах Гомера<br />
Терсея, но непосредственно созерцать его можно лишь в живописном изображении —<br />
идея, к которой сам Лессинг пришел лишь под влиянием графа Кайлюса, который в иллюстрациях<br />
к Гомеру преднамеренно трактовал Терсея отдельно. Развивая Лессинга в свомария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
126<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть третья<br />
127
такой формой проявления прекрасного, которая таким образом реализует отрицание<br />
свободы через аннулирование ее границ реальным или идеальным способом до такого<br />
предела, что ее бесконечность становится для нас объектом — величавостью; в то же время<br />
оно является и той ипостасью прекрасного, которая представляет бесконечность<br />
свободы в силе созидания или разрушения; и, в конце концов, сила, которая достигает<br />
спокойствия и равновесия в мере творчества или разрушения — возвышенное. В величавости<br />
свобода восходит до преодоления своих границ; в могуществе она положительно или<br />
отрицательно развивает силу своей сущности; в возвышенном она проявляется одновременно<br />
и как величественное, и как сильное. Из этого следует, что в качестве отрицания<br />
величественного, ординарное выступает такой формой безобразного, которая подчиняет<br />
бытие его естественным границам — низменное; второй формой, которая мешает бытию<br />
достигнут степень силы, которая должна быть ей свойственной в соответствии с ее<br />
сущностью — слабость, бессилие; третьей формой, которая соединяет ограниченность<br />
и слабость с подчинением свободы несвободе — ничтожное (низость, гадкое). Таким образом,<br />
в аспекте соотношения возвышенного и ординарного названные выше понятия<br />
предстают равными протипоположностями — высокое и коварное, сила и бессилие, могущественное<br />
и ничтожное — оппозиции, в конкретным условиях и в соответствии с их<br />
бесчисленными нюансами принимающие и многие другие названия.<br />
I. Низменное (мелкое)<br />
Величина как таковая не является еще великой. Двадцать миллионов талеров — огромное<br />
богатство, обладание которым, возможно, очень приятно, но оно, конечно же, не обладает<br />
величием. Таким же образом, малость как таковая не является ординарной. Собственность<br />
в 10 талеров очень мала, но все же является собственностью, что не содержит<br />
в себе ничего достойного презрения. Написанная очень маленькими буквами молитва<br />
на косточке черешни не является из-за этого безобразной, она всего лишь мелко написана.<br />
К месту и ко времени малое также может быть эстетически необходимой, как и большое.<br />
В конкретной ситуации могут быть оправданы как малость, так и сверхвеличина.<br />
Низменное же является понятием такой малости, которая не должна бы существовать<br />
в качестве, которое подчиняет некоторое бытие его естественным границам. Возвышенная<br />
величина устраняет своей бесконечностью границы времени и пространства, жизни<br />
и воли, отличий воспитания и социального положения — она реализует в них свободу.<br />
Низменное, напротив, устанавливает эти границы без необходимости их наличия —<br />
посредством собственной абсолютизации она предстает изнанкой величественного. Шиллер<br />
утверждает, что ординарным выступает все, что не относится к духовному и о чем мы<br />
могли бы говорить только в связи с некоторой чувственной заинтересованностью. Этим<br />
утверждением он хотел обратить внимание на отсутствие свободы, которым характеризуется<br />
ординарное. Низменность ординарна только потому, что ограждает свободу некомария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
128<br />
торого бытия там, где она не необходима. В обычной жизни говорим, к примеру, что отдельный<br />
человек низменный, когда из-за педантичной сосредоточенности на несущественном<br />
он устанавливает препятствия существенному в его стремлении к самореализации<br />
— такой человек несвободен от мелочности, которую он не способен преодолеть.<br />
Что касается отдельных проявлений, низменное довольно редко и условно находит<br />
свои выражения в природе, но применение данного понятия относительно пейзажа вполне<br />
возможно. Существуют места, которые носят на себе печать отсутствия свободы. Мы<br />
находим не впечатляющие ни массой, ни величиной горы; настольно анемичное течение<br />
воды, что его с трудом может привести в действие мельницу; деревья с тонкими и хилыми<br />
стволами; похожие на корыто долины, углубление которых расположены между двумя<br />
скромными возвышенностями; еле движущийся ручеек, образующий даже маленький островок,<br />
представляющий собой мелкую песчаную мель — как все они уничижительны!<br />
В искусстве низменное может стать субъектом через способ его выражения; может<br />
стать субъектом в объекте художественной трактовки, когда по причине своего пустого<br />
содержания оно не заслуживает изображения; при таком изображении, когда, забывая<br />
о главном, искусство задается целью подчеркивания маргинальных деталей, или когда<br />
в противовес собственной значимости уменьшает даже то, что в-себе-самом и в целом является<br />
великим. Низменное не должно стать объектом художественного изображения.<br />
Но это не означает, что искусство не должно изображать простое таким, каким мы его<br />
встречаем в различных ситуациях. Ни в коей мере!<br />
Живопись и идиллическая поэзия демонстрируют, каким образом искусство способно<br />
находить прекрасное даже в шалаше бедняка. В последних рассказах «Жан», «Чертово<br />
болото» и в «Малышке Фадетт» Жорж Санд изображала крестьян — как предельная простота<br />
характеров и ситуаций, так и предельная верность в изображении реальности не помешали<br />
ей отразить богатство человеческих чувств с такой удивительной и потрясающей<br />
глубиной, что в конце таких рассказов мы невольно спрашиваем себя, читали ли мы о простых<br />
крестьянах и на их ли простом языке. Настолько был облагорожен художественной<br />
обработкой этот материал, который кажется ординарным. Пастушка Жане, крестьянка<br />
<strong>Мария</strong>, ухаживающая за гусями Фадетт возникают перед нами без мистификации их<br />
крестьянского характера, а возвышенной чистотой нрава и величием души предстают<br />
действительно великими. Когда же поэт преуменьшает некоторый, сам по себе вполне<br />
нейтральный материал, тогда он становится низменным, а впоследствии даже отталкивающим.<br />
Низменное может зависеть и от его трактовки. Эта ошибка часто встречается в искусстве,<br />
когда оно настолько углубляется в частности, что забывает о главном. В таком<br />
случае искусство придает второстепенным аспектам смысл, которым они не обладают<br />
относительно главной <strong>проблем</strong>ы. К примеру, в литературе должно быть указано место<br />
действия, одежда, тип оружия персонажей и т. д. Но если их описание выходит за рамки<br />
цели искусства и, как встречается в современных романах, растения описываются с научной<br />
педантичностью при помощи даже их латинских названий, если описываются туалекарл<br />
розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть третья<br />
129
ты дам в стиле журнала мод, а мебель и домашняя обстановка — с техническим педантизмом,<br />
подобная детализация становится мелочной и поэтому уродливой. Даже великие<br />
писатели, наподобие Бальзака у французов, Мара Балдова у немцев в первом издании его<br />
романа «Следуя природе», часто поддаются этой мелочности. В аспекте внутренней стороны<br />
души таким же образом способна стать ничтожной поэзия, когда подчиняет чувственное<br />
длительному анализу и без объективной необходимости развивает процессы психологического<br />
прагматизма в предельно мелких и бессвязных частностях. Такой подход<br />
способен утопить в детальности анализа самые сильные чувства. В этом заключалась<br />
ошибка Ричардсона в «Клариссе Харлоу» и в «Памеле», а эта ошибка, о которой сегодня<br />
можно говорить открыто не боясь стать изгоем, встречается у Руссо в «Джулии, или Прекрасной<br />
Элоизе». Но мелочный способ интерпретации может заключаться и в том, что<br />
некоторые, сами по себе величественные идея или сюжет, в противоположности их реальной<br />
сущности могут изначально трактоваться слишком узко, будучи преуменьшенными<br />
во всех своих соотношениях. Как было показано выше, мелочность, копошение сами себя<br />
оправдывают. Но если представим себе величественное содержание, уменьшенное не<br />
только в отдельных аспектах своей реализации, а с самого начала понятого слишком<br />
узко, тогда оно с необходимостью станет безобразным. Мелочность форм, в которые воплощается<br />
величие это содержания, противоречат величию его сущности. Если, к примеру,<br />
конструкция строящейся церкви должна выражать высокую цель, для которой она<br />
предназначена, она должна выражать единство некоторой общности и поэтому своими<br />
стенами, дверями и окнами интуитивным образом внушать идею, что это пространство<br />
выходит за рамки частного бытия. Но если вместо этого мы увидим лишенную индивидуальности<br />
строение, которое в равной степени могло бы быть конюшней, теплицей или<br />
складом, то относительно сущностно присущей ему объемности пространства, это строение<br />
предстает чем-то мелким, ничтожным, и потому — ординарным. Безусловно, церковь<br />
может быть и маленькой — капелла не что иное, как церковь маленьких размеров,<br />
но ее стиль должен быть светским и выражать в своей целостности величие ее предназначения.<br />
Очевиден факт, что как пародия на величие и даже фальшивое величие низменное может<br />
приобрести комическое выражение, поскольку через преувеличение, оно приходит<br />
к самоуничтожению.<br />
Расскрывая определенное явление такой гуманист как Диккенс может не задумываясь<br />
прибегать к самым мелким деталям, как, например, описывание торжественной церемонии,<br />
с которой Микобер готовит пунш в «Дэвиде Копперфильде», но оно не покажется<br />
растянутым.<br />
Нечто великое в-себе изначально может трактоваться как мелкое — в таком случае оно<br />
предстает как травести, подобно Пия Энея в «Энеиде» Блюмайера, или же предстает злобно<br />
осмеянным, как в случае храброго воодушевления героини Жанны д’Арк в «Орлеанской<br />
Деве» Вольтера [38], которое сводится к низменным и даже постыдным причинам.<br />
II. Слабость<br />
Низменное может означать и слабость, как и слабость может быть низменной.<br />
Низменное подчиняет бытие пределам, которые оно должно было бы преодолевать, бессилие<br />
удерживает могущество бытия в тех пределах, которые должны быть ему присущими<br />
в соответствии с собственной сущностью. Динамичность величия выражает свою бесконечность<br />
в созидании и разрушении. Такая бесконечность выражает себя могуществом<br />
и может стать даже страшной или ужасной. Слабость, напротив, демонстрирует свою ограниченность<br />
неспособностью созидания, пассивностью терпения страдания и муки.<br />
Сама по себе слабость еще не безобразна — как малость она еще не низменна. Она становится<br />
безобразной лишь тогда, когда встречается там, где мы должны видеть силу. Как<br />
душа подлинной красоты свобода проявляет свою силу в созидании и уничтожении, или<br />
же в противостоянии насилию; слабость же защищает свое бессилие тем, что уступает<br />
принуждению, абсолютному подчинению. Убогое воображение, глупая шутка, анемичная<br />
раскраска, слабый звук, невнятное произношение представляют собой нечто иное, чем<br />
слабое воображение, остроумная шутка, тонкая раскраска, нежный звук и плавная дикция.<br />
Эманируя из себя и начиная с себя, динамическое величие проявляет свою силу как<br />
абсолютный фактор. Что касается реальной обусловленности, самодетерминация возвышенного<br />
может быть видимостью, но как таковая она должна проявиться эстетически.<br />
Когда, к примеру, мы созерцаем как кран поднимает из трюма корабля особенно объемный<br />
груз, это ни в коем случае не кажется возвышенным, поскольку образ машины исключает<br />
впечатление свободного движения. Но если созерцать извергающий из своих глубин<br />
огненную лаву вулкан, то эта картина покажется величественной, поскольку перед нами<br />
естественно свободный процесс; безусловно, и давление пара из глубин действует механистично,<br />
но с непроизвольной силой. И все же было бы неумно делать из этого вывод<br />
о том, что, поскольку машина не внушает впечатление возвышенного, она должна показаться<br />
бессмысленной. Не тот случай. Но она не кажется возвышенной даже в самых своих<br />
значительных превращениях, поскольку зависима от другой силы, от умственного развития<br />
и воли человека, не обладая, как того требует принцип возвышенного, источником<br />
самодвижения. Но дух, который умеет подчинять любую природную силу, который умеет<br />
подчинять себе ее необходимость в таких степенях собственной свободы, предстает величественным.<br />
Он может придавать машинам видимость независимости, и тогда может<br />
случиться, что они вызовут впечатление, близкое к возвышенному, но впечатление только<br />
близкое к нему, поскольку понимание строгой механической запрограммированности<br />
снова аннулирует эстетический эффект. Органическая жизнь покажется величественной,<br />
если она неотвратимо реализует свою мощь. Ни одно животное не будет казаться безусловно<br />
возвышенным. Но, посмотрим как орел выпрямляет крылья, лениво пролетая над<br />
горами, лесами и даже над облаками, посмотрим, как тяжеловесный слон раздавливает<br />
тигра своими колонноподобными конечностями, или на льва, когда огромным прыжком<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
130<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть третья<br />
131
ми, ломая мачты и бросая их на скалы, они кажутся ужасающе величественными, а люди,<br />
напрасно ищущие спасения — беспомощными. Но в этой беспомощности они могут быть<br />
виноваты лишь в той степени, в какой поддаются безграничному отчаянию. Наводнение<br />
наподобие библейского потопа может подчеркнуть бессилие человеческих страданий,<br />
как и свободу человека, которая в сравнении со слепыми стихиями даже в смерти предстает<br />
более возвышенной. В этом стиле писал свои картины Жироде-Триозона — на его<br />
выставленной в Лувре знаменитой картине изображена семья, сохраняющая набожное<br />
спокойствие перед опасностью быть поглощенной водою. В таких ситуациях животное<br />
действует в соответствии с инстинктом самосохранения, ничего больше не принимая<br />
во внимание.<br />
В борьбе за выживание со своими сородичами, животные могут стать величественными<br />
только при своих больших размерах. Маленький зверь может быть сильным и храбрым,<br />
но его сила не способна производить впечатление бесконечности, рождающейся<br />
и заново возрождающейся из самое себя. В петушиных боях нет ничего великого. Стычки<br />
более маленьких и слабых животных с более сильными и большими тем более не содержат<br />
в себе величия. Мышь в когтях кошки, заяц в клыках лисы, голубь во рту куницы дрожат<br />
от предчувствия неумолимого конца. Мы не можем считать их безобразными из-за<br />
их бесконечного атавистического ужаса, потому что противостояние неравно. Человек<br />
же должен защитить свою свободу в противоборстве с силами природы и противопоставить<br />
им силу своего сознания и воли. Если же, напуганный ими, он им подчиняется, это<br />
будет проявлением его слабости. Но трактовка такой слабости как безобразной может<br />
зависеть от конкретных обстоятельств, от степени переживаемого страха и формы, в которой<br />
он будет выражен. Атакующий хищных зверей, будучи вооруженным лишь палкой,<br />
или отдающийся в воле враждебных волн на выскобленном стволе дерева человек возвеличивает<br />
нас как людей в той же мере, в какой противоположное поведение унижает нас.<br />
Но возможно и такое, что даже самый высокий героизм противостояния враждебности<br />
стихийных сил природы будет напрасным — в таком случае с целью самосохранения свободе<br />
не останется ничего, кроме того, чтобы при внешних побеждающих условиях сохранить<br />
человеческое мужество.<br />
Остающаяся верной себе при самых сложных испытаниях нравственная выдержка<br />
величественна, подобно величия «Прометея» Эсхила или изображенного Кальдероном<br />
вечного принца; если говорить только в общем, уступающая внешнему давлению слабость<br />
остается безобразной до тех пор, пока не становится смешной, но в реальности история<br />
производит бесконечное разнообразие соотношений, в которых принуждение часто<br />
принимает самые сладостные и соблазнительные формы. Здесь, в области нравственных<br />
конфликтов, становятся возможными ситуации, при которых через личную благосклонность<br />
слабость может сохранить видимость свободы, или при которых она софистическим<br />
образом способна присвоить себе даже форму силы, как это видно из сюжетов<br />
многих романов. Любезность сентиментальных персонажей такого рода предоставляет<br />
он бросается на спину лани — эти звери будут казаться величественными, поскольку они<br />
демонстрируют внутренне присущую им мощь через ее активное, неограниченное проявление.<br />
Кажется, что не существует границ для полета орла, пределов сил слона и льва<br />
перед другими животными.<br />
Дух предстает величественным тогда, когда противопоставляет свободу необходимости<br />
природы или свободе других духов — свободу, предстающей его собственной необходимостью<br />
даже тогда, когда он сам угнетен. Природа не способна достигнуть абсолютной<br />
мощи свободы даже через самые страшные свои ошибки.<br />
Человек может быть побежден природой, но если в этом поражении он сохраняет свое<br />
достоинство, то не может быть ею порабощен. Он сохраняет в себе свободу противостояния,<br />
откуда и происходит величие стоической философии, которую руины разрушающегося<br />
мира могут похоронить под собой, но не напугать. Мы не должны представлять себе<br />
свободу в значении абстрактного отсутствия чувственного, мы можем остро чувствовать<br />
преграды жизни, силу боли, не утрачивая при этом свою свободу. Жертва становится тем<br />
величественней, чем сильнее детерминированность, тяжесть которой она переживает<br />
и преодолевает, чем глубже она переживает чувство контраста. Некто, подобно Куртиусу,<br />
бросающемуся посреди белого дня в пропасть в присутствии сограждан, заранее подготовившему<br />
и продумавшему свой поступок, способен предельно остро чувствовать цену<br />
жизни, и все же — с целью победить природу, с неудержимым мужеством броситься<br />
в темную пропасть. И в конфликте свободы с самой собой величественный характер нравственного<br />
достоинства будет проявляться главным образом через величие неизбежного<br />
душевного страдания. Но нет ничего безобразного в беспомощности маленьких зверей,<br />
женщин, детей, больных, неискушенных, поскольку такая слабость естественна. Но когда<br />
простодушие этой слабости исчезает, когда подобная слабость пытается казаться<br />
силой, а такие притязания не знают границ, тогда беспомощность превращается в порождающую<br />
противоречие безобразную хилость. Здесь обнаруживается некоторая граница,<br />
которую следует иметь в виду. Если величественное проявляется как абсолютная сила,<br />
то в сравнении с ним может показаться относительно слабым даже то, что при других<br />
обстоятельствах представляет собой силу. В таком случае эта слабость не будет еще отрицательной<br />
чертой. Любая жизненная сила, любая энергия свободы, какими бы они<br />
ни были огромными, становятся бессильными против превосходства природы. Содрогающаяся<br />
от подземных толчков Земля, вышедшие из берегов реки, воды, полыхающий огонь<br />
представляют собой именно такую немилосердную форму насилия природы. Земля, разверзающаяся<br />
при землетрясениях для того, чтобы поглотить в свои глубины животных,<br />
людей, города выглядит величественной, но в своем безразличии ко всему, что, родившись<br />
из ее недр, радовалось жизни, производит впечатление ужасного величия. В кошмарном<br />
ужасе, отчаянно пытаясь найти спасение в бегстве, жизнь выглядит беспомощной перед<br />
этим иррациональным бунтом природы; поскольку же связь жизни с природой неизмерима,<br />
ее нельзя считать бессильной. Когда морские волны играются с огромными кораблямария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
132<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть третья<br />
133
художнику средство приглушения безобразного образа и даже способ сделать его интересным.<br />
Легкомыслие, нерешительность, некомпетентность, боязливость, забывчивость,<br />
необдуманность в поступках, беспринципная толерантность являются чертами, которые<br />
не должны быть представлены как нечто такое, что должно быть оправдано или считаться<br />
приемлемым.<br />
Дружественность должна заключаться в интеллекте, в воображении, в личном отношении;<br />
хилость, немощность воли может быть простительной только из-за темперамента,<br />
из-за сложности условий, из-за такой возможности, когда решительное действие порождало<br />
бы несправедливость, но она ведь не может быть оправдана! Доброта нравственной<br />
слабости всегда находится на шаг от того, чтобы впасть в низость, и таким образом —<br />
в преступление. Все зависит только от случая. Она стремится предcтать перед самой<br />
собой как благородство, но своей софистичностью только способствует легкому порождению<br />
мерзости. Во имя удобства, вялости, отсутствия мужества или из-за спеси нравственная<br />
слабость предается ординарному и подчиняется чужой воле, которую может<br />
ненавидеть, но которой подчиняется из эгоистических соображений. Такое унижение она<br />
впоследствии маскирует психологическими причинами, придумыванием болезней, предполагающих<br />
ужасную судьбу, перед неумолимостью которой человек беспомощен. Мы<br />
должны отличать слабость, которая стала предметом изображения, от слабости как<br />
дефекта эстетической трактовки. Художественное изображение бессилия допустимо.<br />
Вертеры, вейслинги, бракенбурги, эдуарды — как их изображает Гёте; вальдемары и рокайлоры,<br />
так как их изображают Якоби и Жан Поль; представленные Жорж Санд Андре<br />
и Стенио — все они имеют право на художественное изображение. Но совсем другое дело,<br />
когда само изображение слабо и когда именно там, где ожидаем встретить силу выражения,<br />
возникают плоские, анемические, беспомощные формы. Это безусловная ошибка,<br />
которая приводит к таким типам разложения эстетических форм, которые на предыдущих<br />
страницах назывались туманными и которым каждый вид искусства придает специфическое<br />
выражение в соответствии с характеристиками собственных черт.<br />
Поскольку слабость в отрицательном смысле и сила выражает противоположные полюса,<br />
для искусства может представлять интерес их взаимопревращение. Осуществить<br />
это, да еще при условии сохранения психологической достоверности, представляет собой<br />
сложную задачу, которую, как правило, лишь великие художники способны осуществить.<br />
Иффланд 1 и Коцебу 2 — драматурги, которые по-настоящему культивировали слабость<br />
и представили большое количество ее превращений. В этом смысле Байрон посвятил Гёте<br />
две драмы, основным субъектом которых выступает слабость: «Сарданапал» и «Ирландец»<br />
1 . В «Сарданапале» благородный сам по себе человек шаг за шагом отдаляется<br />
от беззаботного, от жизни, посвященной исключительно удовольствиям, приближаясь<br />
1 Иффланд Август Вильгельм (1759–1814) — немецкий актёр, драматург и режиссер. Лучшие роли созданы им<br />
в собственных пьесах и пьесах А. Коцебу. Один из представителей жанра мещанской драмы. Автор пьес:<br />
к королевскому достоинству, к героизму, возвышенности и лихости высочайшего самопожертвования<br />
— здесь изображена душа такой глубины и несравненной красоты, что она<br />
остается непонятой, из-за чего ни одни театр не ставит эту пьесу.<br />
Но в «Ирландце» поэт отображает противоположное явление, в котором через слабость<br />
такая же благородная натура деградирует до низости, угробив остаток жизни<br />
на постыдные воспоминания о том, как напрасно-расточительно она была прожита. Попавший<br />
в беду ирландец крадет у своего смертельного, застигнутого им спящим врага<br />
100 дукатов. Перед собой, супругой и своим ребенком он пытается оправдать себя тем,<br />
что только обокрал своего врага, в то время как мог его и убить. Но еще Шиллер совершенно<br />
ясно показал, что, поскольку оно предполагает наличие огромной силы и решительности,<br />
убийство с эстетической точки зрения намного выше кражи. Если бы, вместе<br />
того, чтобы обокрасть, он убил бы своего врага, ирландец показался бы более виноватым,<br />
но менее низким, Его слабость позволила ему лишь украсть и софистическое объяснение<br />
того, что деньги принадлежали ему, не выдерживает проверки мысли, которой подчиняется.<br />
Без ведома отца, сын Улрих доводит убийство до логического конца. Когда в ужасе<br />
ирландец обнаруживает поступок своего сына, он должен выслушать от него в качестве<br />
самооправдания реквизиты доктрины слабости, которую он сам ему внушил:<br />
Кто говорил мне, что<br />
Повод прощает некоторые пороки?<br />
Что страсть является нашей природой? Что<br />
Блага везения следуют за благами выпрошенными?<br />
Кто мне внушил, что человечество зависит<br />
От нервов? Кто отнял у меня силу<br />
Защитить себя, стремиться<br />
в открытой борьбе, через ее унижение, которое<br />
поставило на мне печать бастарда, знаком<br />
беззакония? Он, который, вначале возмущенный,<br />
а позже слабый, провоцирует на поступки, которые хочет осуществить,<br />
но не осмеливается. Можно ли удивляться тому,<br />
Что я осуществил то, о чем ты думал?<br />
Даже не подозревая того, или будучи уверенной, что поступает хорошо, сама Жорж<br />
Санд в «Малышке Фадетт» мастерски продемонстрировала как безволие превращается во<br />
«Преступник из тщеславия» (1784), «Охотники» (1785, рус. пер. 1802), «Кокарды» (1791).<br />
2 Коцебу Август фон (1761–1919) — немецкий драматург, проживший романтическую, переполненную приключениями<br />
жизнь (в том числе в России), автор знаменитых в его время комедий «Развлекающиеся», «Два Клингеберга»<br />
и драм «Ненависть и покаяние, или Английские индийцы», «Старый придворный кучер Петра III».<br />
1 Оригинальным английским названием этой пьесы, опубликованной в 1821 году, является «The Irish Avatar»<br />
(«Английский аватар»).<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
134<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть третья<br />
135
зло. Фадетт помогает Сильвену узнать свой истинный образ, объясняя ему, что он слаб,<br />
сентиментален, тираничен по отношению к окружающим, софистичен и эгоистичен,<br />
«la faiblesse engendre la faussete et c'est pour cela que nous etes egoiste et ingrat» 1 . В конце<br />
концов, Сильвейн осознает свое состояние и этот разбалованный и изнеженный тип становится<br />
совершенно другим человеком, пытающийся в пучине наполеонской войны забыть<br />
свою любовь к Фадетт.<br />
Очевидно, что самый отталкивающий облик слабости возникает вследствие ее смешивания<br />
с силой. Сила не должна мараться слабостью, если же это случится, она будет<br />
деградировать. Безусловно, это явление не имеет отношения к природе, так как природа<br />
не обладает свободой воли. Если при виде маленькой мышки огромный слон покрывается<br />
потом от испуга, это не является показателем его слабости, а лишь проявлением совершенно<br />
оправданного инстинкта — ведь если мышь проникнет в хобот, щекотанием она<br />
доведет слона до бешенства. Но если некоторый принцип, герой или высокий прелат<br />
позволят себе стать жертвой капризов или слабостей они становятся низкими, вплоть<br />
до способности совершить преступление.<br />
Слабость превращается в комическое, когда, ложным образом оценивая себя, выдает<br />
себя за силу. И все же этот контраст становится смешным только тогда, когда содержание<br />
слабости не слишком сильно ущемляет императивы добродетели. Поэтому самые<br />
приемлемые комические произведения обладают интеллектуальным происхождением,<br />
отражают слабости безобидные, зависящие от обстоятельств или от природных условий.<br />
Если демонстрация слабости связана с перипетиями судьбы, прикрываясь, таким образом,<br />
видимостью некоторой необходимости, то комический эффект благодаря этому<br />
будет намного сильнее. Ярким примером такого вида комического является шедевр Дидро<br />
«Жак Фаталист и его господин». То, что господин не может существовать без своего слуги<br />
является никому не причиняющей зла слабостью; то, что тот же господин больше всего<br />
любит слушать всякие истории, является слабостью, которая предоставляет другим<br />
возможность демонстрировать свой талант рассказчика; то, что господин хочет убедить<br />
своего слугу, который явно им командует, в ошибочность его фатализма, является дружелюбный<br />
слабостью. Но с каким несравненным юмором умеет Дидро выявлять фатализм<br />
Жака. Все случается «parce que c’etait ecrit la en-haut» 2 . Но Дидро не был бы Дидро, если<br />
бы не умел связывать болтовню служителя и трактирщицы с фатализмом прислуги<br />
и с критикой господина, что отражает наиболее глубокие <strong>проблем</strong>ы человеческого бытия.<br />
Сильно ошибаются те, которые, согласно широко распространенному мнению, считают,<br />
что Жак представляет собой выдуманную тенденцию [39]. Его базовый текст больше представляет<br />
собой идею жизни, которую Дидро определял при помощи понятия «фаталист».<br />
1 Слабость порождает фатальность и поэтому вы эгоистичны и избалованы (франц.).<br />
2 Потому что предписано свыше (франц.).<br />
III. Ничтожное (низость, гадкое)<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
136<br />
Не обладая собственными границами величественное является высоким; в безостановочном<br />
овнешнении своей силы оно внушительно, в безусловном самоопределении своей<br />
бесконечности оно возвышенно. Величественное сочетает абсолютное величие с абсолютной<br />
силой. Противоположностью возвышенного величия предстает мелкое, коварное,<br />
подчиняющееся элементарным границам его сущности; противоположностью силы величия<br />
является слабость, которая консервируется в пределах своих возможностей как силы,<br />
а противоположностью возвышенного — ничтожное, низость, доминируемая и детерминируемая<br />
случайными, ограниченными, низменными и эгоистическими мотивами. В то<br />
же время, низкое (Niedrig) является относительным понятием, но если оно применяется<br />
не в сравнении, а в положительном значении, то в таком случае оно выражает несовершенство,<br />
ущербность, примитивную вещь, просто ординарное как таковое. В немецком<br />
языке все реже встречается обычай различения ничтожного от низшего, подчиненного,<br />
уменьшенного (nieder), что в первом случае понимается как ординарное, а во втором как<br />
нечто простое, скромное, обедненное. Таким образом, мы говорим о гадком отношении,<br />
поведении, о гадкой шутке и т. д., и, соответственно, о низком общественном положении,<br />
о просевшей крыше, о невысоком шалаше и др. В своем спокойствии и своих проявлениях<br />
величественное является единым, поскольку оно несовместимо с внешними или случайными<br />
определениями. Правда, в той мере, в какой оно относится к миру индивидуальных<br />
феноменов, величие может подчиняться и внешним нападкам, оно способно страдать,<br />
чувствовать боль, но в пределах самого себя оно сохранит соответствие самому себе и,<br />
на протяжении деградации того, что в реальном бытии является преходящим, сохранит<br />
самосознание собственной бесконечности. Из этого возникает кажимое противоречие,<br />
согласно которому с более ярким блеском величие демонстрирует себя именно через<br />
страдание. В противном смысле ничтожное предстанет 1) непосредственным образом как<br />
обыденное, обычное, тривиальное; 2) относительном образом как переменчивое и неустойчивое,<br />
случайное и произвольное; 3) грубостью как унижение и подавление свободы<br />
через чуждую ей необходимость. Все эти качества в определенном смысле синонимичны,<br />
точно также как бывает с возвышенным, которое, в зависимости от многообразия своих<br />
степеней, обозначается и другими прилагательными: благородное, высокое, внушительное,<br />
грандиозное и т. д.<br />
а. Обычное (заурядное, посредственное). В том отношении, в котором заурядное<br />
являет собой эмпирическое бытие универсального, оно еще не безобразно и это значение<br />
может присваиваться ему только относительно. Оно становится безобразным только при<br />
определенных условиях. В своих проявлениях возвышенное величие уникально в той мере,<br />
в какой включает и объединяет в себе целый мир, потому что оно единственное не имеет<br />
эмпирического аналога в обычной форме бытия в значении лейбницевского принципа<br />
видимости. Но возвышенное отличается от других форм бытия не только чисто эмпирикарл<br />
розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть третья<br />
137
чески — оно уникально, поскольку в контексте определенной данности не имеет равных<br />
себе аналогов. Представим себе горную цепь — она может быть величественной только<br />
благодаря своей величине. Но если отдельное звено этой цепи будет намного выше других,<br />
то оно будет не просто величественным, но возвышенно величественным, поскольку<br />
огромной горной массе придаст индивидуальное выражение. Точно также с неповторимой<br />
возвышенностью выделяется среди звезд лунное сияние и т. д. Это примеры, относящиеся<br />
к сфере пространства, но в контексте пространства время также может предстать<br />
величественным, когда оно представляет непосредственное объективирование бесконечного<br />
ряда лет как некоторую незавершенность. Рождение, становление предстают одновременно<br />
и преходящностью, исчезновением. Через преходящность и исчезновение нечто<br />
определенное, остающееся равным самому себе и сохраняя себя через волны времени<br />
приобретает видимость вечности. В западных от Мертвого мора степях сохранились еще<br />
горные ворота, через которые 4000 лет назад входили и выходили моабитские короли Базана.<br />
Сегодня через них проходят только козопасы, но ворота те же. Разумеется, для того,<br />
чтобы некоторый объект внушал ощущение величия, он должен быть большим и внушительным<br />
даже после тысячелетнего существования, только его возраст не придаст ему<br />
величия таким же образом, как нам не представляются величественными хранящиеся в<br />
берлинском музее жженые тысячелетия тому назад евреями в Египте кирпичи. Кирпич не<br />
становится величественным даже в контексте вечности. В истории много великих личностей,<br />
поступков, событий, которые в положительном смысле уникальны и конкретизируют<br />
в себе целое направление, целый мир. Моисей, Александр, Сократ являются величественно<br />
возвышенными личностями, поскольку они уникальны в положительном смысле.<br />
То, что Сократ не захотел спастись бегством, не попытался влиять на судей при помощи<br />
своего искусства риторики, ожидая свою смерть с незамутненной строгостью, на что<br />
обычные люди не способны, придает ему венец величия. Точно также поджог Москвы<br />
представляет собой событие потрясающего величия, поскольку героическое сопротивление<br />
русских через эту высокую жертву огню осталось уникальным в истории. Но если<br />
персонажи и поступки не представляют собой утверждающуюся через обусловленность<br />
идеей уникальность, они не являются и великими — отрицательная целостность не может<br />
претендовать на величие, напротив, она впадает в уродство. Властители мира типа Комодуса<br />
или Хелионабалуса представляют собой нравственные аномалии, которые, чем больше<br />
хотят выразить свое величие через инфантильное слабоумие и капризную тиранию, тем<br />
больше деградируют; они уникальны в деградации, но эта уникальность относится к трагическому<br />
помутнению рассудка, выраженному колоссальной распущенностью. Бросив<br />
горящий факел в храм Артемиды в Эфесе, Герострат достиг своей цели, но в своей игривой<br />
неповторимости этот недостойный поступок противоположен величию.<br />
Само по себе заурядное ни в коей мере не безобразно. В его сущности не проявляется<br />
необходимость безобразного, и в любом случае оно может быть если не красивым, то благообразным.<br />
Только тогда, когда оно выражено множественностью, которой ничем<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
138<br />
не удается привлечь внимание, обычное лишено эстетического значения, поскольку<br />
в этом случае оно лишено характерной особенности. Прекрасное должно с необходимостью<br />
представить единую истинность вещей, но оно должно это осуществить под видом<br />
индивидуальной свободы, которая своей особенностью обособляет необходимость всеобщего.<br />
Из-за неспособности саморазличаться, заурядное становится невыразительным,<br />
скучным, ординарным и таким образом превращается в безобразное. Не хочу быть неверно<br />
понятым. Не прекрасное превращается в свою противоположность — это было бы невозможно,<br />
а многочисленные повторения, экспансия некоторой массивной формы приводит<br />
к тому, что она становится неинтересной, потому что, представляя собой простую<br />
тавтологию, еще один экземпляр не привносит ничего нового. В аспекте приведенных оснований,<br />
каждый вид искусства должен вращаться в определенной сфере. Этим каждый<br />
вид будет ограничен способностью выдумки. Но относящееся к сущности вещей повторение<br />
не может быть упреком по отношению к искусству, поскольку посредством индивидуализации<br />
постоянные основания представляются в новом свете. Вспомним, к примеру,<br />
что все трагические конфликты уже каталогизированы и перечислены. Бенжамин Констант<br />
считает, что больше 28 конфликтов такого рода невозможны и, невзирая на усилия<br />
писателей, они будут постоянно повторяться. В них писатель находит этическую границу<br />
своих произведений. Но он должен уметь перерабатывать эту неизбежную повторяемость<br />
содержания таким образом, чтобы избранный им сюжет представал все же новой,<br />
уникальной ситуацией. Простая, беглая, предлагающая лишь формальное отличие повторяемость<br />
не может нравиться. Невозможность модифицировать саму идею в ее необходимости<br />
можно легко понять. Но для модальности ее чувственного представления мы<br />
можем правомерно надеяться на то, чтобы художник постоянно находил новые неожиданные<br />
решения. Перелистывая некоторые работы по истории искусства или литературы,<br />
такие как исследования Валентена Шмидта по романтической поэзии, Данлопа, посвященное<br />
истории вымысла, Ван дер Хагена о маленьких повестях средневековья или Вольфа<br />
о истории романа, можно прийти к выводу, что некоторые темы и сюжеты остаются<br />
неизменными у разных народов, в разные эпохи и в разных языках, из-за чего воображение<br />
поэтов может показаться чрезвычайно бедным. Но это впечатление ошибочно, так<br />
как продуктивность и творческая сила воображения становятся более очевидными из-за<br />
того, что, несмотря на заданные природой сюжета пределы, оно способно изыскать большое<br />
разнообразие форм художественного изображения. Если рассмотреть, к примеру,<br />
классическое отношение «господин-слуга», то этот выбор будет одновременно означать<br />
привязанность к определенным основаниям и в определенных пределах. Отношение господин-слуга<br />
исчерпывает большую часть современных сюжетов античной комедии. Оно<br />
же является формальной темой «Дон Кихота» Сервантеса, «Жака» Дидро, «Пиквика»<br />
Диккенса и т. д. Но насколько отличается физиономия господ — Дон Кихота, Мэтра или<br />
Пиквика, настолько отличаются и слуги Санчо, Жак или Самвеллер. В этом разнообразии<br />
остается постоянным только сходство вытекающих из общего характера ситуации предкарл<br />
розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть третья<br />
139
посылок. Поэтому господа, как и их слуги, обладают определенным сходством, но в этом<br />
сходстве их индивидуальность будет постоянно отличаться, и в этом будет заключаться<br />
оригинальность творческого воображения. Способ, в котором мэтр Дидро смотрит<br />
на часы, нюхает табак и призывает Жака продолжить рассказы о его любовных приключениях,<br />
представляет нам индивидуализированный образ, похожий в общих, но не в индивидуальных<br />
чертах с Дон Кихотом или Пиквиком. Имитация как простая копия, как<br />
бессмысленное, формальное повторение и даже плагиат раздражает и, подобно ребе<br />
Ахиба из «Уриел Акоста» Гуцкова, вынуждает разочарованно воскликнуть: ничего нового<br />
нет под солнцем! Можно охарактеризовать допустимую идентичность оснований ненужного<br />
сходства как «общее место». Каждая эпоха имеет свое «общее место». «Общее<br />
место» являет собой уже известную, узнаваемую и маркированную тривиальность. Когда-то<br />
оно было интересным, но, лишив его эффекта неожиданности, бесконечные повторы<br />
исчерпали его. Поэтому, при попытке представить себя новизной, общее место сразу<br />
же становится очевидным. И все же, не будем считать общим местом постоянное обращение<br />
поэзии к великим природным символам: к солнцу, морю, горам, лесу, к цветку и т. д.<br />
Они остаются вечными символами, при помощи которых культурные люди выражаются<br />
понятным всем языком. Как неисчерпаема красота природы и богов, так и материал воображения<br />
беспрестанно преобразовывается и обновляется. Разве Шиллер и Гёльдерлин<br />
не развивали греческие мифы, придавая им универсальное духовное величие и романтическое<br />
дыхание?<br />
Когда Лессинг противопоставляет заурядное незаурядному, его нельзя упрекать<br />
в этом, поскольку вначале это различение предстает лишь количественным суждением.<br />
Но когда он трактует заурядное как тождественное естественному, из этого вытекает,<br />
что незаурядное не может быть естественным. «Если драматург выводит на сцену лишь<br />
то, что нашел в природе, то в таком случае он не предоставит созерцанию и слуху зрителя<br />
ничего иного, что мы видим и слышим ежедневно. Но кто приходит в театр для того,<br />
чтобы найти там нечто, что с избытком встречает за его пределами? Следовательно, если<br />
художник хочет привлечь внимание зрителя, он должен придавать созданным характерам<br />
необычные черты. Но что представляет собой необычное, если не отклонение от природы?»<br />
Отклонение от природы предназначено для того, чтобы охарактеризовать необычное.<br />
Если последовательно следовать этому порядку суждений, можно дойти до колдовства<br />
и чудес, или искусственного и неестественного, поскольку они являются самыми<br />
сильными отклонениями от природы. Конечно, не в этом заключается смысл размышлений<br />
Лессинга, поскольку, как следует из контекста, он хотел сказать только то, что, если<br />
оно описывает обычную реальность в соответствии с требованиями поэзии и другого своего<br />
вида, искусство должно изображать необычное. Нельзя также путать тривиальность<br />
и дублирование (Vervielfaltigung). Прекрасное как таковое не может быть искажено посредством<br />
собственного умножения, поскольку в самом себе оно бесконечно; точно также<br />
невозможно утомляться от созерцания и восторженности голубизной неба, зелеными<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
140<br />
полями, весенними цветами или пением соловья. Возвращение на театральную сцену «Антигоны»<br />
Софокла представляет собой убедительный пример неисчерпаемой силы, свойственной<br />
прекрасному. Одна из самых важных сторон современной техники заключается<br />
в том, что ее совершенствование делает возможным удешевление и все же точное воспроизводство<br />
произведений пластического искусства, и, благодаря этому, доступность их созерцания<br />
более широким кругом людей. Такое умножение представляет собой нечто<br />
иное, чем блеклая репродукция обычных моделей при помощи лишенных выдумки непродуктивным<br />
слабоумием имитаций.<br />
В любовных песнях средневековых трубадуров столько тривиального и заурядного,<br />
что это заставило Шиллера саркастически заметить, что в них нет ничего, кроме прихода<br />
весны, ухода зимы и остающейся скуки. Если воробьи могли бы составить альманах муз,<br />
констатирует Шиллер, они достигли бы того же результата. Таким же образом в тривиальные<br />
привычки превратились тысячи сонетов эпигонов Петрарки, сотни трагедий с тиранами<br />
из старого французского театра, серийные собрания наших глупых детских<br />
сказок, наши многочисленные романы, сюжет которых сводится к безропотности, или<br />
современная немецкая живопись, изображающая одетые в траур бесчисленные королевские<br />
пары, евреев, мам («Избиение вифлеемских младенцев» К. Хаузера) [40] и т. п. Имитаторы<br />
часто считают себя классическими художниками, поскольку могут репродуцировать<br />
самые мелкие детали того, что было создано известными художниками. Но именно<br />
это исключительное сходство с произведениями последних и делает их скучными, что<br />
заставляет публику отворачиваться от них. Если ту же идею они представили бы в новой<br />
форме, их надежда на признание была бы оправдана, но они не должны гневаться на то,<br />
что их мило оформленные, хорошо контрапунктированные и приятно стилизованные<br />
произведения считаются тривиальными. Последовательно стремящийся к идеалу подлинный<br />
художник всегда будет знать, как выразить некую идею во многих ипостасях. И поскольку<br />
таким способом он пытается еще больше приблизиться к идеалу, эти повторяющиеся<br />
попытки все же не будут надоедать. Каждое из произведений такого художника<br />
будет подчеркивать другую сторону идеального прототипа. Стихи, в которых Петрарка<br />
воспел любовь к Лауре, также мало представляют тавтологию, сколь мало тавтологичными<br />
были мадонны Рафаэля или отчаявшиеся герои Байрона. Художественная заурядность<br />
и даже тотальная немощность обращается к прошлым творениям без всякого прогресса<br />
или какого-либо продуктивного углубления и утомляет своей тривиальностью, которую<br />
даже не осознает, в той же мере, в какой естественной оригинальностью своего<br />
творчества нас воодушевляет гений.<br />
Когда — неизвестно как и без всяких признаний — заурядность осознает тривиальность<br />
своих реализаций, она, с целью скрыть их избитость, пытается украсить их при помощи<br />
эффектов и гетерогенных стимулов. Но результат применения таких приемов еще<br />
сильнее подчеркнет избитость концепции, нищету средств. В наши дни многие стихоплеты<br />
обманывают себя иронической похвалой, что они якобы признаны как изобретателькарл<br />
розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть третья<br />
141
ные и богатые идеями. Как редко встречается в реальности подлинное богатство души,<br />
достигнутое благодаря содержательному и многостороннему опыту, глубины жестоких<br />
конфронтаций! Напротив, какой обыденной, тривиальной стало это смешение созерцательности<br />
и рефлексивности, философии и поэзии, глупую смесь которой мы привыкли<br />
считать духовной. Бессилие находит сегодня в спекуляции диалектикой средство симуляции<br />
творческой деятельности.<br />
То, что заурядное отрицает себя, когда через самопреувеличение становится комичным,<br />
вытекает уже из сказанного выше. Но необходимо отличать комическое, в которое<br />
тривиальность объективно и неизбежно впадает, от комического, которое сознательно<br />
и принципиально пародирует корявость и избитость тривиальности. Если тривиальное<br />
пытается приукрасить пустоту своего содержания посредством витиеватости фальшивого<br />
пафоса, в таком случае имеет место непредумышленное смешное. Смех по поводу этого<br />
образа безобразного содержит в себе и его осуждение. Но если тривиальность содержания<br />
будет представлена под видом возвышенного, или, если то, что в соответствии со своим<br />
содержанием должно было быть возвышенным, предстанет в форме заурядного,<br />
то в обоих случаях возникнет комический эффект. Первый случай относится к маскировке,<br />
подобно тому, когда лягушки говорят языком гомерических героев; вторая ситуация<br />
встречается в случае пародии, когда идея судьбы как возвышенная в себе сила присваивается<br />
никчемному объекту. Посредством такого приема Платен показал ошибки нашей<br />
фаталистической школы, своими Адамом и Евой Боггсен выделил витиеватый стиль, в который<br />
у нас впал духовный эрос. Безусловно, первобытные люди были наивно возвышенными.<br />
Но изучение теологии и французского языка являются обычным делом для современного<br />
мира. Боггсен заставляет Адама до 11 часов изучать теологию. В это время Ева<br />
прогуливается по райскому саду, а животные старательно ухаживают за нею, облизывая<br />
ей нежные лодыжки. Особенное внимание и нежность она проявляет к змее. Змея старается<br />
казаться Еве интересной тем, что говорит на французском языке и рассказывает<br />
множество случаев из жизни Парижа. Адам, с которым Ева встречается в 12 часов, чтобы,<br />
согласно правилам буржуазного сословия, позавтракать, слишком долго не обращает<br />
внимания на эту опасную дружбу, пока однажды случайно не встретит их при совместной<br />
прогулке и т. д. Светский способ трактовки давних времен трансформирует первобытных<br />
людей в современников, но, поскольку ко всем этим современным привычкам (изучение<br />
теологии, завтрак в 12 часов, изучение французского языка, послеобеденная прогулка,<br />
с целью стимуляции пищеварения) добавляются неземные условия райского бытия, в котором<br />
животные еще не враждебны друг другу, а змея разговаривает, то возникает смешное<br />
противоречие, предоставляющее автору возможность развития нескольких надуманных<br />
сатирических ипостасей, среди которых, к примеру, та, в которой змея отравляет<br />
невинную фантазию Евы рассказами о Париже, влюбив ее в язык этого нового Бабеля.<br />
Заурядное может превратиться в комическое и потому, что трактуется при помощи<br />
самоиронии. Мы отмечали уже, что то, что из-за банальности и обыденности отталкивамария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
142<br />
ет нас эстетически, в реальности иногда может оказаться особенным и важным. Не выражает<br />
себя и в этом случае необходимость, которой мы все подвластны? Не является ли<br />
обыденное тем общим, в котором встречаются принц и нищий? Разве не нужно, чтобы мы<br />
все ели, пили, спали и мерзли? Разве возможно такое, чтобы дети не рождались? Может<br />
ли избежать королева боли при родах? Разве не все мы, независимо от богатства и культуры,<br />
подвержены болезням? И разве, в конце концов, не все мы умираем? Не предстает<br />
ли в этих случаях обыденность заурядного серьезной и требующей уважения? Не выражают<br />
ли его ипостаси эпический элемент истории в ее непреходящем равенстве с собой?<br />
Используемое искусством в этой перспективе заурядное теряет какую-либо коварную,<br />
вульгарную черту. Именно таким образом были изображены скульптурой, живописью<br />
и поэзией сон богов, человеческий труд, семейный ужин, свадьба, рождение и смерть —<br />
в соответствии с благородством их положительного и универсального смысла. Вспомним<br />
способ, которым Гомер заставил Гефеста изобразить на щите воинственного Ахилла,<br />
полный цикл посвященных миру воссоединений и праздников, вспомним произведения<br />
и эпоху Гесиода, вспомним, как античный базорельеф, античное украшение сосудов или<br />
помпейские фрески с наивной ясностью изображают аспекты обыденной жизни, способ,<br />
в котором христианская поэзия, скульптура и живопись исключили из патриархальной<br />
жизни и жизни Христа все заурядные события человеческой жизни, конфигурируя их<br />
впоследствии согласно их идеальному значению, и увидим насколько объемно-полным<br />
выступает изображение заурядного в искусстве и именно исключительно положительным<br />
образом. Но, поскольку эти эпические элементы социальной жизни в их бесконечной<br />
поэтической значимости являются одновременно обыденными, раскрывая зависимость<br />
человека от природы, и в постоянстве повторения рутины нашей жизни, а именно постоянно<br />
есть и пить, работать и спать, рождаться и умирать, в них уже можно найти иронический<br />
нюанс. Искусство должно лишь подчеркнуть в них момент нашей общности<br />
с природой, нашу связь с конечностью бытия и комический момент уже будет готов. В таком<br />
случае рождается образ обыденной жизни, но образ, который вызовет улыбку,<br />
поскольку изображает нашу свободу в ее естественных пределах. В тотальности мира<br />
индивидуальная ситуация представляет только один момент — сколько удовлетворения<br />
бы не вызывала бы своей относительностью и моментальностью некоторая ситуация, она<br />
должна все же раствориться в общем контексте — вынужденность этого переложения синонимична<br />
с иронией. Не облекаясь в достойную и серьезную форму в эпическом смысле,<br />
не приписывая ироническим ипостасям комического нюанса, живописные, как и поэтические<br />
аспекты обыденного становятся скучными и вульгарными. Нашей современной живописи<br />
хорошо бы дать совет, который Лессинг давал авторам комедий, чтобы они отказались<br />
от скуки заурядности посредством отдаления от чистой, жестокой природы обыденности,<br />
поскольку живопись предлагает лишь совершенно лишенный идей аспект<br />
наших ограниченных эмпирических состояний, только слишком точное малярство куховарок,<br />
продавщиц овощей, школьников, штопающих носки мам, сапожников, задумавкарл<br />
розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть третья<br />
143
шихся в ночной рубашке пастухов, или трактирных пьяниц и т. д., без хотя бы малого<br />
преображения и без капли юмора. То, что мы, немцы, не обладаем великой общей историей<br />
и единой духовностью объясняет, почему наше искусство может быть настолько<br />
лишенным достойной предметности и почему оно может легко деградировать до уровня<br />
лишенных всякого содержания мелочей. В связи с видовой живописью Гегель и Г. Г. Гото<br />
[46] правомерно подчеркивали, что отсутствие значимости сюжета еще сильнее подчеркивает<br />
художественный талант, блеск реализации замысла. Но мы были бы несправедливы<br />
по отношению к упомянутым философам, если бы посчитали этот их энтузиазм в адрес<br />
живописи голландской школы утверждением того, что простая копия эмпирической<br />
реальности также показалась бы им удовлетворительной и что идеальная композиция<br />
в своих деталях не позволила бы выделить такую же техническую виртуозность копии.<br />
Ставшая общим мнением вера подобного рода на корню уничтожила бы национальное художественное<br />
чувство, потому что в последних не позволила бы больше восхищаться ничем,<br />
кроме аспекта наших ограниченностей, утопая в идиллическую апатию и, таким<br />
образом, все больше и больше отнимая способность постигать подлинную боль жизни,<br />
ощущение и признание которой способны предоставить нашему существованию подлинную<br />
ясность. Отсутствие идеальности, тривиальность содержания ориентируют виды<br />
искусства на некоторую полиполярность детали и, таким образом, возникает диспропорциональная<br />
задержка в зоне обыденного, поскольку желательно, чтобы ничего не было<br />
утеряно из поля зрения и, одновременно с этой тенденцией плохо понимаемой полноты,<br />
укореняется самая жестокая скука. Как известно, Вольтер говорит, что все виды одинаково<br />
хороши и оправданы, «hors le genre ennuyeux» 1 , но не будем забывать, что он же сказал:<br />
«le secret d’etre ennuyant, c’est de tout dire» 2 . Не нужно удивляться тому, что из-за<br />
отвращения к фетишизации тривиального и обыденного, в такие времена именно тонкие<br />
натуры, ищущие души прибегали к гипперболизированному подчеркиванию иронии относительно<br />
границ и конечности, впадая, таким образом, в легкость или пиетизм, если даже<br />
не в восхвалении безумия. Подлинный художник будет таким образом изображать<br />
заурядное, что выделит его положительное оправдание как необходимой формы универсального<br />
проявления мира, или непосредственно превратит его в комическое. Почему стали<br />
такими известными изображенные Мурильо дети-попрошайки? Благодаря тому, что<br />
они не стыдятся собственной бедности и потому что сквозь их обтрепанную одежду просачивается<br />
живость свободной от забот и возвышающейся над любыми внешними бедами<br />
души. Мурильо зафиксировал преобладающий аспект их бытия. Почему Ф. О. Биар достиг<br />
такой известности? Потому что он умеет высвечивать иронический момент заурядного.<br />
б. Случайное и произвольное. В своей ограниченности тривиальность настолько же<br />
заурядна, насколько в своей целостности величественно возвышенное. Относительно<br />
1 Кроме жанра скуки (франц.).<br />
2 Тайна быть скучным заключается в том, чтобы сказать всё (франц.).<br />
собственного, творчески-самообусловленного поведения величественное действует иногда<br />
спонтанно, но не случайно, свободно, но не произвольно. В пустыне Моисей ударил<br />
клюкой по скале, и из нее внезапно прорвался источник живой воды. Это величественное<br />
действие не случайно и не произвольно — неслучайно, поскольку Моисей был послан Богом<br />
народу, чтобы заботиться о его нуждах; непроизвольно, поскольку народ был обречен<br />
на смерть от жажды. Как действие созидательное, величие всегда абсолютно уверенно<br />
в себе и достигает цели без специального внешнего вмешательства — фактически через<br />
простую модальность свободной воли. В его ватиканском изображении Аполлон обратил<br />
в бегство монстра, находящегося у стен своего храма, может питона или эринию. Правда,<br />
он еще держит в руке лук, но его осанка и мимика с точностью открывают нам изначально<br />
уверенного в успехе своего действия бога. Сомнение или неуверенность ни в коей мере<br />
не должны отразиться на образе жизни или на претендующего на величие человека.<br />
Когда в своих действиях величие платит дань случайности и произволу, оно становится<br />
безобразным. Его действие не должно быть отягощено усилием, и все же, в легкости, с которой<br />
должно проявиться, оно беспрестанно должно встречаться в нужном месте и в необходимо<br />
нужном времени. Поэтому, некоторое вступление как deus ex machina или<br />
любое другое ему подобное только умаляет впечатление от величия. Если некое бытие,<br />
которое должно было быть великим, не получает в своем осуществлении то, к чему стремилось,<br />
тогда посредством предполагаемой уверенности оно становится безобразным<br />
или комическим. Представим себе льва, бросающегося из своего укрытия на газель,<br />
но взявшего слишком сильный разбег и опережающего таким образом убегающую от него<br />
жертву. В таком случае король зверей покажется смешным. Недопустимо также, чтобы<br />
величие было поймано и замкнуто в формы своего действия, поскольку его автономность<br />
должна предстать во всем блеске. Абсолютная, внутренне присущая уверенность в себе<br />
должна отражаться и во внешнем спокойствии и умеренности. Раскачивающие в разные<br />
стороны крону деревья величественны, тон предстает праздничным, когда сам угасает,<br />
а после относительных пауз снова прерывает тишину; и поскольку ходьба предстает отрицанием<br />
падения, шаг будет настолько величественней, насколько нога тянется сзади<br />
лишь касаясь земли, а не падает спереди. Таким образом, движения раздражительного,<br />
беспокойного, разбросанного индивида, который должен быть великим, представляются<br />
уродливыми, поскольку они отрицают его абсолютную уверенность в себе как смысла величия.<br />
И язык величия должен быть кратким, лапидарным, в меру строгим. Многословие<br />
ему не подходит, а подходит, скорее, шутливость относительно человеческой натуры,<br />
поскольку в этой игре выделяется превосходство величия. Князю, двигающемуся хаотически,<br />
спотыкаясь и производя большой шум, не управляющий своими аффектами и поведением<br />
и обнаруживающий, что ему не чуждо беспокойство обычного человека, угрожает<br />
опасность стать уродливым.<br />
В отличие от иррефлексивного, необходимого величию действия, тривиальность (ординарное)<br />
характеризуется случайностью и произвольностью. Случайное в себе так же<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
144<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть третья<br />
145
суразное проявляет себя тяжеловесней, поскольку твердость и особенности материала<br />
этих видов искусства ограничивают его эксцессы. В живописи несуразное субстанциально<br />
расширяет пространство своего проявления через совершенно странную цветовую<br />
гамму. Безусловно, в музыке оно может разворачиваться по собственному желанию через<br />
бесконечные метаморфозы, злоупотребляя покорностью, пассивностью и необусловленностью<br />
элементов своей тональности. Впрочем, многие предпосылки своих прекрасных<br />
произведений музыка характеризует исключительно как капризы. Само собой разумеется,<br />
что в поэзии имеет место многостороннее представление бесконечного и непредвиденного,<br />
которые присущи несуразному. В некоторых своих комедиях Шекспир посвятил<br />
глупости блестящие оды. В искусстве идеализации несуразного среди современных французов<br />
отличается Бальзак. Он написал роман о шведском борджианизме. В соответствии<br />
со своей английской природой, героиня романа представляется мужчинам как девственница<br />
под именем Серафита, а женщинам — как юноша, носящий имя Серафит. Этот психологический<br />
гермафродизм порождает нелепые ситуации. Среди современных немецких<br />
авторов особый дар в выдумывании нелепых персонажей и характеров обладает Гуцков.<br />
Его герои Махагуру, Валли, Серафина, Неро, Мадагаскарский принц, Власелов, Хаккерт<br />
являются в самом настоящем смысле нелепыми персонажами, которые довольно часто<br />
выглядят и возвышенными, и комическими. Создав образ странного сумасшедшего Хаккерта,<br />
представляющий собой одухотворенное уродство как единство злобности и доброты,<br />
Гуцков представляет нам самый точный образ нелепости. В «Мадагаскарском принце»<br />
он изображает нелепость в особенности при помощи ситуаций. Как нелепа ситуация,<br />
когда принц взят в плен собственными подчиненными и продан в рабство! И в коротких<br />
повестях Гуцкова можно найти эту склонность к странному как основному ингредиенту,<br />
настолько талантливо рассказана история канарейки, которая самым нелепым образом<br />
влюбляется в свое зеркальное отражение и умирает от меланхолии из-за нереальности<br />
собственного визави.<br />
Подчеркнуто приключенческий характер, фантастическая мобильность странного<br />
превращает его в иронию над обыденным и с этой точки зрения располагает его по соседству<br />
с кокетливой аффективностью. Как легко оно способно впасть в явное уродство<br />
можно увидеть у Л. Тика, очень плодовитого в порождении странных фигур. В конце<br />
новеллы «Упрямство и каприз» он представляет свою героиню Эммелину в качестве содержательницы<br />
борделя. Этот каприз безобразен и его мотивация автором умалчивается,<br />
в то время как другие грехи Эммелины представлены в оправдывающем их контексте. Эммелина<br />
смогла по расчету выйти замуж за биржевого служащего. Позже смогла выйти<br />
замуж за богатого аристократа, потом сбежала с офицером, в котором узнает биржевого<br />
служащего Мартина, но должна была пасть настолько, чтобы превратить проституцию<br />
в свою профессию, причем не просто торгуя собой, а еще в отвратительном статусе содержательницы<br />
борделя. Такой конец более чем странен. До этого Эммелина казалась упрямым<br />
и капризным, но не настолько возмутительно ординарным существом.<br />
мало тривиально, как и произвол. Поэтому, как таковые они еще не безобразны — они<br />
становятся такими только тогда, когда перемещаются на место свободы и необходимости.<br />
Прекрасное имеет своим содержанием не принуждение, а необходимость, не отсутствие<br />
закономерности, а свободу. Необходимость свободы составляет душу прекрасного,<br />
а случайное в форме произвола придает ему лишь комический или трагический оттенок.<br />
Если в контексте проявления свободы необходимость превращается в каприз, тогда судьба<br />
становится случайной и произвольной, в то время как мера, которая объективным образом<br />
и из самое себя устанавливает собственные пределы как исключение случайного<br />
и произвольного, она — судьба — воспроизводит образ величия. В аспекте трагической<br />
развязки так званая случайность представляет лишь форму, в которой разворачивается<br />
абсолютная необходимость. Судьба не должна выражать только некоторый предел вообще,<br />
а тот, который необходим, исходя из самой природы свободы. В этом смысле конфликты<br />
античных трагедий фаталистического типа относятся к нравственным, даже если<br />
ошибка еще не рассматривается ими как этическое противоречие, а как непреднамеренное<br />
нравственное поведение, происхождение которого находится в компетенции богов.<br />
Но вина, которая в нашем понимании не обладает нравственным значением, античной<br />
трагедией все же признается, как это признано в несравненных стихах Софокла: «Если<br />
они были бы прекрасными у богов, мы, страдая, должны признать, что ошиблись».<br />
Случайность и в не меньшей степени произвол представляют основное звено комедии,<br />
так как из-за отсутствия субъективной меры, только они в состоянии пародировать уродство<br />
пагубной случайности и злого произвола. Случайное и произвольное восходят от безобразной<br />
до комической формы через дикость и барок, бурлеск и гротеск. В аспекте<br />
идеала ни одна из этих форм не является красивой — в каждой присутствует некоторое<br />
уродство, но в то же время, каждая из них сохраняет в себе возможность превращения<br />
в яркую форму комического.<br />
Дикость представляет собой упрямство каприза. Слово происходит от итальянского<br />
bizza, что означает гнев и злобу. Поскольку злобность являет собой единичность, то использование<br />
этого слова экстраполируется и на странное и необычное как производных<br />
от каприза предикатов. Если прекрасное стремится к выражению идеала, то мы не вправе<br />
ожидать красоты от дикости. Скорее всего, она относится к комическому, и все же,<br />
благодаря слишком особенному содержанию, она иногда будет забавной. Странность<br />
взвинчивает индивидуализацию таким образом, что кажется безобразной, или, по меньшей<br />
мере, приближается к безобразному. Исходя из собственного каприза, безобразное<br />
отождествляет то, что должно было бы быть разделено, и разделяет то, что должно было<br />
бы быть отождествлено. Британское высокомерие перенасыщено такого рода странностями.<br />
Беременные женщины или цветущие юные девушки часто выказывают странные желания.<br />
Страстная любовь также порождает странные поступки, как в случае c тулонским<br />
трубадуром Пьером Видалом. Его сентиментальные глупости запечатлены в песнях<br />
немецких трубадуров об Ульрихе фон Лихтенштейне [43]. В архитектуре и скульптуре немария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
146<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть третья<br />
147
Довольно сложно отличать барокко и странное. Но можно утверждать, что их отличие<br />
заключается в том, что посредством необычных форм барокко придает обыденному,<br />
случайному и произвольному некоторое значение. Слово выведено из формы силлогизма,<br />
известной под названием baroco — c другой точки зрения, оно имеет и косвенный смысл,<br />
применяясь для орнаментации глубоких рам, с направленным в глубину образа пространством,<br />
представленного картиной или зеркалом, которые и сегодня называются рамами<br />
в стиле барокко. Другая возможная филиация составляет латинское baro, означающее<br />
«глупый человек», а в современном итальянском языке — аферист, шулер. Не обладает ли<br />
термин «барок» значением ложной игры со случайностью? Присутствует в нем некоторая<br />
важность и грубость передергиваний произвольного, нередко способные с легкостью перейти<br />
в комическое, но также темное и устрашающе, как видим в узаконенных у разных<br />
народов наказаниях, которые были и к сожалению являются в такой же мере грубыми,<br />
в какой они глупы. Один сирийский паша находил даже очень изысканным удовольствие<br />
самому «художественно обрабатывать» ножом лица осужденных преступников, придавая<br />
носам, ушам и губам форму, которую он считал более подходящей. Эжен Сю иногда<br />
очень умело представлял бароко, но всегда под видом его темных, ужасающих аспектов.<br />
В самом удачном своем романе «Матильда» он очень точно охарактеризовал глубину зла<br />
девицы Маран посредством ее диких капризов и барокских изменений поведения. Произвол<br />
этого персонажа выражается и в выдумывании слов, которые можно найти только в<br />
ее лексиконе — в случаях, когда ей что-то кажется очень интересным, она восклицает:<br />
c’est pharamineux! 1<br />
Близким к бароку и примитивному, но все же отличающимся от них индивидуальной<br />
пародийностью выступает гротескное. Его название родилось в Италии эпохи Челлини,<br />
в том числе от особенного способа обработки золота и серебра из самых необычных<br />
смесей которых в последующем ткались различные ткани. Позже это слово использовалось<br />
для названия манеры пестрой расцветки гротов, павильонов и садовых бассейнов<br />
при помощи цветных камней, кораллов, ракушек, минеральных блоков и мха. В этой полихромной<br />
смеси гротеск был распространен на все формы, способные удержать и в то же<br />
время рассеять внимание посредством особенного беспорядка неравных спиралей и неожиданных<br />
превращений. В последующем появились гротескные танцовщики и балерины,<br />
которые при помощи странных конвульсий заставляют забывать, что, как и у всех людей,<br />
у них также есть кости. Их шпагаты, балансирование, наклоны, вращения, ползание<br />
на животе далеки от того, чтобы считаться красивыми; они также не комичны, но, как<br />
произвольные проявления, которые как будто насмехаются над любыми законами природы,<br />
гротескны. В работе, где исследуется история комической литературы, К. Ф. Флёгель<br />
оставил коллекцию замечаний, изданных в 1788 году под заголовком «История гротескного<br />
комического». В этой истории он исследует сатирическую игру греков и особенно<br />
1 Это изумительно (франц.).<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
148<br />
комедиантов, марионеток, персонажей карнавалов, буффонад, но трактует комическое<br />
гротескное, и особенно вульгарное комическое (das Niedrigkomische) в аспектах, которые<br />
оно принимает, когда превращается в вульгарную чувственность, распущенность и грубость.<br />
В изданной еще в 1761 году книге под названием «Арлекин или возникновение<br />
комического гротеска» Ю. Мёзер определил суть комического гротеска в том же аспекте,<br />
приводя примеры итальянских масок после Л. Риккобони. Он также считает, что гротеск<br />
равен вульгарному комическому, с буффонадой и двусмысленностью. В «Свадьбе<br />
Арлекина, или Бесстрашие на сцене» (опубликовано в Собрании сочинений, изд-во Абекен<br />
в Берлине, 1843, т. 9, стр. 107 и след.) он все же не так на это настаивает. Во многих отношениях<br />
гротеск представляет собой инфантильный вкус.<br />
Примитивность, барок и гротеск способны превращаться в бурлеск. В итальянском<br />
и испанском бурла означает издевательство. Из Италии манера бурлеска перешла<br />
во Францию, где, особенно благодаря «Маскировки Энеиды» П. Скаррона стала настолько<br />
распространенной, что короткие стихи из этого произведения вошли в обращение как<br />
стихи-бурлеск в чистом виде, даже история Христа была переработана со всей серьезностью,<br />
но, как видно из самого названия [44], в стихах бурлеска. Бурлеск представляет<br />
собой пародическое высмеивание произвольного, особенно подходящее для создания веселых<br />
карикатур. Исходя из этого мотива, он выражает душу итальянского театра масок<br />
и всех подобных комических форм. Пантомима опирается на бурлеске как на свою классическую<br />
форму — творческое высмеивание должно создавать неописуемые жесты,<br />
наклоны, прыжки, гримасы и фарсы, которые лишь настолько представляют интерес,<br />
насколько пребывают в движении и в контрасте со своей средой. В современных комических<br />
водевилях бурлеск обеспечил себе более изощренное существование. Французы находят<br />
в пародировании англичан неистощимый источник выдумок бурлеска. Впрочем,<br />
они любят бурлеск особенно из-за его пародийного аспекта и можно заметить как хорошо<br />
французские актеры умеют развивать его в своих ролях. Возьмем, к примеру, роль<br />
из пьесы «Амбиция на кухне» Бодевилля, а именно повара Вателя. Без творческого подхода<br />
актера, конкретизирующего роль в мимике и жестах бурлеска, роль, которую Зейдельман<br />
сделал классической, далеко не так интересна. Ватель хочет убить себя при<br />
помощи кухонного ножа из-за испорченной запеканки. Поступить таким образом его вынуждает<br />
честь кулинарного искусства, честь предков. Эта сцена смешна настолько,<br />
насколько при помощи бурлескной пародии ее играют на уровне пафоса великих трагедий.<br />
Одетый в белый фартук и белый колпак повара, размахивая кухонным ножом, кругленький<br />
Ватель произносит эмоциональный монолог, порождающий бесконечный смех,<br />
если, конечно, актер талантливо владеет бурлеском. В пьесе «Старые грехи» представлен<br />
бывший парижский мастер балета, появившийся под другим именем в качестве рантье<br />
провинциального городка, в котором заслужил уважение и доверие сограждан, будучи<br />
впоследствии избран бургомистром. Но сразу же, как этот исключительный человек попадает<br />
в плен сильных чувств, он непроизвольно начинает вести себя как танцовщик, прикарл<br />
розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть третья<br />
149
чем настолько, что пафос его главного достоинства с игривой балетной жестикуляцией<br />
опровергает себя в модальности бурлеска. Только одушевление актера, только его грациозный<br />
бурлеск способны спасти этот контраст от невыносимого уродства.<br />
Если данными рассуждениями мы задержались на территории драматического<br />
искусства, то это обусловлено тем, что драматическое делает возможным выражение некоторого<br />
максимума энергии бурлеска, но это отнюдь не означает, что в других видах<br />
искусства бурлеск невозможен. Поэзия выработала даже определенные стереотипные<br />
средства создания бурлеска, наподобие усиленных рифм или жаргона, о котором шла<br />
речь выше [45]. В какой мере они могут быть приемлемыми с эстетической точки зрения?<br />
Очевидно, безобразное присваивается свободой в качестве комического момента, который<br />
посредством предумышленного отсутствия меры произвольного превращает безобразное<br />
в комическое. К примеру, никто не сочтет красивой неправильную рифму. Усиленная<br />
рифма деформирует слово с целью превратить его в правильную рифму. Это плохое<br />
обращение с языком также не красиво, но поскольку оно вытекает из свободы, которая<br />
сама сотворила язык и благодаря чему слово могло бы выглядеть и таким, то по этому поводу<br />
остается только смеяться.<br />
Из-за реального сближения примитивного, барокко, гротеска и бурлеска возникает<br />
водевиль как комическое произведение и комический роман, представляющий их в самых<br />
разных формах перехода и взаимопроникновения. Крамер, Жан Поль и Тик у нас, Смолетт<br />
и Стерн у британцев, Скаррон и Поль де Кок у французов оставили много таких<br />
сочетаний. В этом смысле Тик менее увлечен конструкциями ансамблей, но ему лучше<br />
удаются детали. Как хорошо представлено барокко персонификацией грамматического<br />
винительного в образе задолжавшего симпатичного юношу, а датива — в образе бородатого<br />
старика, сидящего с опущенным взглядом и грустным видом в новелле «Сельское гуляние».<br />
И наряду с этим, выраженное патетическим тоном оправдание в стиле бурлеска<br />
того, что посредством этого изобретения для исчерпавшего свое вдохновение в античной,<br />
северной и христианской мифологии пластического искусства, возникает совершенно новое<br />
поле проявления. Какое будущее открывается, когда и княжеский инфинитив и независимый<br />
императив будут воспеваться в произведениях скульпторами и художниками!<br />
Этот патетический дискурс представляет собой подлинный тур бурлескной мощи и рафинированности.<br />
Поль де Кок считается фривольным автором. Так оно и есть, но, в отличие<br />
от многих известных писателей, он не так опасен, поскольку умеет быть комичным благодаря<br />
тому, что, прежде всего, он умеет применять гротеск и бурлеск. К примеру, в одном<br />
из своих романов писатель предоставляет возможность одному из героев надеяться<br />
на будущую встречу с возлюбленной в павильоне сада. Он действительно приходит в павильон,<br />
но ошибается дверью и вынужден присутствовать при нежностях двух молодоженов,<br />
а позже, когда они засыпают, выбирается наружу и, наконец-то, находит нужную<br />
комнату, в которой его ожидает возлюбленная. Но только он улегся к ней, возгорается<br />
пожар. Буза, нужно бежать, но в спешке он берет одежду возлюбленной, выпрыгивает<br />
в окно и, счастливый от того, что спасся, убегает через садовый кустарник. Хочет одеться<br />
и в ужасе созерцает женскую одежду. Вынужденный обстоятельствами, он все же надевает<br />
ее и в этом гротескном одеянии, на протяжении короткого пути до Парижа, проходит<br />
через тысячу приключений. Не произвол, а случайность являются здесь бурлескными.<br />
в. Лишенное становления (das rohe) 1 . Вульгарность как таковая является унижением<br />
свободы посредством ее подчинения чужой необходимости. Как отсутствие становления<br />
она представляет собой регрессию в такую зависимость от природы, которая аннулирует<br />
свободу — это порождение насилия и подавление свободы или издевательство над фундаментальным<br />
абсолютом, на котором зиждется любая свобода как вера в Бога. Возвышенное<br />
также может впасть в страдание, но только в случае своих конечных и смертных<br />
аспектов, которыми оно платит дань внешнему принуждению, в то время как в-себе оно<br />
утверждается свободно, тем энергичнее усиливая именно благодаря страданию свое неординарное<br />
качество способа действия, как прекрасно это выразил Ф. Рюкерт:<br />
Грязная волна не способна омрачить чистоту жемчуга<br />
Даже если ее пена сердито разбивается об его оболочку.<br />
Во введении говорилось уже, что, когда свобода проявляет себя частично, она еще<br />
не противоречит себе. В соотношении с последней и самой высокой ступенью возможности<br />
развития, первичные образования, которые не прошли эволюцию, могут казаться лишенными<br />
красоты и столько времени, сколько импульс становления неистово присутствует<br />
в них, они могут иметь неотшлифованную форму. В данной ипостаси бытие реально,<br />
еще не соответствуя полностью своей сущности, но это еще несоответствие ни в коем<br />
случае не представляет противоречие, а является лишь моментом на пути к подлинному<br />
совпадению его сущности и явления. Неразвитость, которую здесь мы должны констатировать,<br />
ни в коем случае не является уродством как противоположность прекрасному.<br />
Существуют первоначальные стадии, которые часто невозможно обойти и через которые<br />
бытию необходимо пройти для того, чтобы успешно реализовать свой определяющий<br />
смысл. Неразвитое образование представляет собой первоначальное состояние, которое<br />
положительным образом не исключает красоту, и которого мы противопоставляем лишь<br />
состоянию равновесия и завершения, полной шлифовки. В этом смысле, сколько времени<br />
в неразвитом проявляется излишек продуктивной силы, лишенное становления может<br />
представляться даже истиной некоторой будущей способности. Возвышенное содержание<br />
некоторой теории может проявиться под видом выразительного тезиса, в первоначальном<br />
состоянии которого можно заметить его будущую красоту, присутствующую<br />
уже в этом первичном, неразвитом состоянии. Наброски скульпторов и художников, планы<br />
архитектурных конструкций, наброски драмы могут, несмотря на их эмбриональное<br />
состояние, заставить интуитивно увидеть бесконечность и многостороннюю полноту<br />
1 Roh — прямой перевод с немецкого означает сырой, необработанный, грубый, жестокий. В контексте данного<br />
подраздела эти понятия обладают содержанием феномена, не прошедшего через становление.<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
150<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть третья<br />
151
подлинного искусства. В ранних произведениях национальных искусств, одновременно<br />
с первичными формами их реализаций, можно заметить видения красоты, борьба которой<br />
с несовершенством формальной конкретизации может быть глубоко волнующей. Несомненно,<br />
в этом смысле можно говорить даже о неразвитом величии, поскольку возможно,<br />
что, будучи вполне очевидными в устремлении свободной и независимой от материальной<br />
конкретизации мысли, его возвышенность и сила требовали бы более тонкой обработки.<br />
Таким образом, этот тип неразвитости относится к свободе формы и реализации детальных<br />
аспектов. Он не должен отождествляться с тем образом отсутствия эволюции,<br />
который содержит в себе противоречие свободы с собой, в первую очередь, из-за того,<br />
что она зависит от чувственного, которое должно подчиняться ей в качестве средства.<br />
Мышление должно наслаждаться чувственным, но не теряться полностью в этом удовольствии,<br />
жертвуя своим господством над ним. Уродливость жадности, пьянства и распущенности<br />
насильственна по отношению к свободе и противоречит ее природе. Как естественная<br />
необходимость прием пищи и размножение не безобразны. Они становятся<br />
таковыми только в той степени, в какой порабощают свободу духа. Поэтому в мире животных<br />
опосредованная нравственными идеями форма уродства невозможна. Животное<br />
лишено свободы сознания, способности сравнивать свое экзистенциальное состояние<br />
с императивом своей родовой сущности. Но если на наше понимание свободы будет распространяться<br />
свобода животного мира, как это встречается в баснях, то из-за такой подмены<br />
безобразным может показаться и животное. К примеру, в своей жадности гиена<br />
предстанет омерзительной, поскольку она питается даже падалью. Таким образом, здесь<br />
возникает момент, который влияет на наше понимание. Поскольку же принятие пищи<br />
и размножение являются необходимыми природными актами, именно в них комическое<br />
может найти особенные средства выражения, потому что когда, попадая в зависимость<br />
чувственных наслаждений, человек отдаляется от строгих закономерностей свободы,<br />
обвиняя в этом природу, которой платит дань как простое хомунчио, как это выражено<br />
в духе французов: c’est plus fort que moi 1 . Но без воображения такое невозможно. Все<br />
застольные песни остаются безобразными, поскольку они не проникнуты духом воображения.<br />
Комическое может играть природными инстинктами ироническим способом.<br />
К примеру, оно может забавно утрировать склонность к чувственному наслаждению таким<br />
образом, как будто для людей и даже богов не существовало бы ничего выше и значимей.<br />
Так античные комики с любовью изображали Геркулеса в образе вечно голодного<br />
бродяги. Аристофан издевался над этим шутовством, но в «Лягушках», к примеру, сохранил<br />
эту манеру. Из сатирических комедий только в «Циклопе» Еврипида представлена<br />
колоссальная грубость и тупость Полифема. В «Грагантюа и Пантагрюэле» ученый<br />
и практикующий врач Ф. Рабле представил парижанам зеркало их безнравственности,<br />
выдвинув пьянство и обжорство в качестве серьезного предмета университетского курса,<br />
1 Это сильнее меня (франц.). 1 Что позволительно быку, то непозволительно Юпитеру (лат.).<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
152<br />
который страстно-воодушевленно изучается его героями. Для комической трактовки сексуального<br />
инстинкта особенно подходит такое отношение, которое полностью отступает<br />
от культурной необходимости, противопоставляя последней ложный энтузиазм воображаемого<br />
освобождения от природы, чтобы впоследствии полунасильственным образом<br />
быть вынужденным признать ее мощь. Эта комическая схема может быть найдена уже<br />
в древних индийских сказках о королях-отшельниках, которые угрожали богам своей мощью<br />
и к которым боги отправляли особенно соблазнительные существа, чтобы искусить<br />
их в смиренном одиночестве. Эта же комическая схема оживляет многие средневековые<br />
повести, в которых особенно тонко обрисовывается свойственный ей контраст. К примеру,<br />
в повести такого рода Александр отправляет Аристотелю кокетку, которая заставляет<br />
философа покинуть высоты абстракций и под властью ее очарования позволить ей<br />
сесть к себе на спину и выгуливать на четвереньках; Аристотель сильно развеселил Александра,<br />
поймавшего философа за этим невиданным и приятным занятием. Сколько непристойных<br />
рассказов можно найти у Боккаччо и Виланда, хорошо известно.<br />
Хотя инстинкт голода и размножения становятся эстетическими только в моральном<br />
или комическом аспектах, все же интересно проследить, каким образом с естественными<br />
последствиями их удовлетворения могут быть связаны ситуации, которые с эстетической<br />
точки зрения могут показаться еще грубее. К примеру, как и животных, природа заставляет<br />
людей выделять пищевые излишки или отходы, причем настойчивее, чем заставляет<br />
их есть и пить. Таким образом организм освобождается от того, что не смог использовать<br />
для своей жизни, от того, что относительно к себе самому, является условно мертвым,<br />
от того, что представляет собой неорганическую, произведенную организмом субстанцию,<br />
убитую жизнью форму бытия. Какими необходимыми бы они не были, эти выделения<br />
безобразны, поскольку представляют человека в самой мерзкой из своих зависимостей<br />
от природы. Поэтому человек и старается, насколько может, скрыть осуществление<br />
этих нужд. В этом отношении животное ничем не озабочено и только ухаживающая за собой<br />
чистюля кошка закапывает свои отходы. Следовательно, изображение подобных<br />
нужд при любых обстоятельствах является неэстетичным и только комический аспект делает<br />
его терпимым. Паттер нарисовал мочившуюся корову, которая впоследствии была<br />
продана в Петербурге за баснословную сумму, но если бы Паттер не был таким хорошим<br />
изобразителем животных, то в таком случае даже точная копия коровы в этом аспекте не<br />
смогла бы увеличить художественную ценность картины. Признаемся в том, что мы вполне<br />
могли бы обойтись без созерцания мочащейся коровы и что оно не доставляет никакого<br />
эстетического удовольствия. Но нельзя присвоить животному систему мер человека<br />
и это является причиной того, что «мочащаяся корова» нас не оскорбляет. Здесь имеет<br />
место абсолютно противоположное: quod licet bovi, non licet Iovi 1 . Хорошо известен<br />
брюссельский фонтан, мимо которого ежедневно движется поток местных жителей и тукарл<br />
розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть третья<br />
153
ристов, и который называется Mannekenpiss, потому что изображает писающего в него<br />
мальчика. Но этот юмор вряд ли комичен, так как вода должна быть чистой, то есть быть<br />
водой, а потому присутствует нечто отталкивающее в том, чтобы использовать или пить<br />
воду такого происхождения. Напротив, когда Рембрандт написал Ганимеда поднятым высоко<br />
в небе орлом, от страха и неожиданности он по-детски непроизвольно мочится и эффект<br />
получился действительно комическим. Краснощекий юноша еще держит в левой руке<br />
гроздь винограда, которого ел, когда, приняв образ птицы, Зевс схватил его и, вцепившись<br />
когтями в низ его рубашки, оголил упитанные ягодицы. Способ, каким Аристофан<br />
сценически изобразил сидение на горшке, упоминался выше в другом контексте. В «Легенде<br />
об Уленшпигеле» встречается множество грубых шуток подобного рода. <br />
Безмерное удовлетворение инстинкта голода породит пузатое, дряблое и поэтому<br />
безобразное тело — деформацию, которую эксплуатирует комедия с целью получить безопасные<br />
эффекты, даже если Аристофан их осуждает, утверждая, что для того, чтобы<br />
вызвать смех, комедианты прибегали к минимальным средствам, приделывая себе фальшивые<br />
животы. Порождающий столько неудобств выпирающий живот, из-за которого<br />
его обладатели не видят собственных ног, мешает поэтам выглядеть возвышенными, а попам<br />
— духовными; раздутый живот, которого нужно терпеть перед глазами, и который,<br />
на повороте, появляется раньше его обладателя — один из излюбленных мотивов вульгарного<br />
комического. Лишенная мысли, юмора, иронии шутка по поводу такого живота<br />
в любом случае анемична, но в случае Фальстафа она становится источником неисчерпаемых<br />
шуток и комических ситуаций.<br />
Пьянство может казаться смешным и приемлемым до тех пор, пока оно усиливает свободу<br />
человека, устраняя границы и препятствия, которые обычно сковывают его. Но само<br />
по себе пьянство может изуродовать внешний облик, как в случае праздничного<br />
воодушевления вакханок с устремленным в небо взглядом. Правда, вакхический огонь настолько<br />
отнял у Силеноса способность держаться на ногах, что ему помогли оседлать<br />
осла, но его умная улыбка предоставляет возможность увидеть, что божественное пьянство<br />
только подчеркнуло, а не аннулировало его ум. Переход пъяницы из состояния нетрезвости<br />
в состояние бессознательности является источником буффонады и даже более<br />
рафинированного комического, когда кто-либо изображается «нетрезвым». Но если оно<br />
достигает степени, когда человек теряет контроль над сознанием, пьянство с необходимостью<br />
становится уродливым. Во многих эстетических концепциях пьяный человек<br />
считается непосредственно комичным. Но это ни в коей мере не является истинным, поскольку<br />
приближающее человека к животному аннулирование индивидуальной свободы<br />
может быть только уродливым. Комичным это состояние может быть постольку,<br />
поскольку оно представляет безуспешную борьбу свободы с природой, и в той степени,<br />
в какой созерцание такой борьбы абстрагируется от суждений нравственного характера.<br />
Заплетающиеся язык и походка пьяного человека, неуправляемые, выдающие его секреты<br />
монологи, диалоги с отсутствующими собеседниками постольку комичны, поскольку<br />
1 Собачье приветствие (франц.).<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
154<br />
выдают отсутствие самоконтроля. Пьянство выводит человека за пределы, в которых еще<br />
можно противостоять случайности и произволу, но он уже не хочет им противостоять и,<br />
угасая в отсутствии сознания, видимость этой свободы комична. Благодаря характеру мимики<br />
и нюансов тональностей их выражений, только пантомима и театр смогли успешно<br />
использовать эти человеческие проявления, и столь часто, что примеры излишни.<br />
Метеоризм безобразен при любых обстоятельствах. Поскольку, вопреки желанию<br />
и свободы человека, он проявляет себя непроизвольно, поскольку, к ужасу, непроизвольно<br />
выходя из-под контроля при быстром движении, подобно неуправляемому бесенку, он<br />
настигает в самых неподходящих местах, тем создает <strong>проблем</strong>ы sans gene [на пустом месте].<br />
Поэтому при создании бурлеска и гротеска, авторы комедий постоянно пользовались<br />
такими ситуациями, по меньшей мере, в форме аллюзий. Посредством этих «звуковых неприличностей»<br />
можно создавать очень веселые сцены, среди которых самым известным<br />
и смешным является анекдот о леснике и его собаке. Карл Фогт рассказывает его в «Сценах<br />
из жизни животных» [46]. Поскольку, как сильно бы не отличались по возрасту,<br />
воспитанию, состоятельности и социальному положению, в этой непроизвольной мелочи<br />
нашей природы люди похожи друг на друга, аллюзии к ней всегда вызовут улыбку.<br />
Поэтому вульгарное комическое очень увлекается соответствующими такой ситуации пошлостью<br />
и нелепостью. Даже самые лучшие цирки умножают их при помощи клоунов.<br />
Лишенные потешности, изобретательности, они особенно плоски, низменны, отталкивающи<br />
и откровенно отвратительны. Безусловно, бенгальская вспышка юмора способна<br />
воодушевить и цинизм. Один парижский парикмахер повесил у входа в парикмахерскую<br />
картину с двумя обнюхивающими друг друга собаками. Но внизу были написаны слова:<br />
Au bon jour des chiens! 1 , чем удалось насмешить всех.<br />
Грубый характер пошлости отличается от таких природных случаев, которые, невзирая<br />
на самые тщательные предосторожности, могут произойти с человеком. Стыдливость<br />
священна и прекрасна, потому что выражает соответствующее ее сущности стремление<br />
духа преодолеть природу. Дух не лишен характера природы, но должен быть свободным<br />
от ее насилия. Природе незнаком стыд и животное не стыдится, но, осознавая свое отличие<br />
от природы, стыдится человек. Непристойность заключается в намеренном оскорблении<br />
чувства стыда. Даже случайное и непроизвольное обнажение тела провоцирует стеснительность,<br />
возможно, и тягостное комическое, но не является пошлым. Купающиеся<br />
голыми дети, прекрасные статуи и картины, на которых изображено обнаженное человеческое<br />
тело, не будут восприниматься как пошлые, потому что природа обладает божественным<br />
происхождением и так называемые постыдные части являются такими же естественными<br />
органами, как нос или рот. Прикрывающий постыдные части статуй виноградный<br />
лист провоцирует, скорее, пошлый эффект, поскольку привлекает к ним внимание<br />
и выделяет их из общего контекста. Безусловно, все вышесказанное не должно пониматькарл<br />
розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть третья<br />
155
ся в том смысле, что искусство не должно быть стыдливым, но следует обратить внимание<br />
на то, что застенчивость не равна стыдливости. Пошлость возникает уже вместе с половыми<br />
отношениями, поскольку сексуальное возбуждение придает мужскому половому<br />
органу уродливую форму, нарушающую гармоническое отношение к телу.<br />
Все образные и вербальные изображения половых органов и отношений, которые<br />
не имеют научной и этической цели, а осуществляются из похотливости, пошлы и безобразны,<br />
поскольку представляют собой профанацию священных тайн природы. Несмотря<br />
на его божественные значения в некоторых религиях, любой фаллический аспект с эстетической<br />
точки зрения все же безобразен. Все фаллические боги уродливы. Подчеркиванием<br />
прямой линии возбужденного фаллоса Приап безобразен. Античные маски и уличные<br />
мохабаззины или комедианты современных арабов, которые в пошлом танце публично<br />
обнажают тело, или даже римские карлики Саньо, Марион, Дриллопс с их огромными<br />
половыми органами безобразны [47]. Но если выпячивание половых органов безобразно<br />
уже в самом себе, уродство возрастает еще больше, когда изображается половой акт, как<br />
в случае индийского бога Лингам , что, безусловно, в индийской культуре носит религиозное<br />
значение. Насколько воображение масс озабочено фаллическими образами<br />
можно увидеть в любом городе самой Европы, в которой достаточно всего лишь закрасить<br />
свежей краской находящиеся в более потаенных местах стену или дверь, чтобы<br />
на следующий день найти их разрисованными такими же пошлостями. На протяжении<br />
определенного времени в средние века фаллический характер придавался фрескам. Независимо<br />
от усилий воображения, юмора и виртуозности, с которой они были реализованы,<br />
все картины, романы и стихи такого рода безобразны. Исследование истории романа такого<br />
направления предлагает нам «История романа» Д. Л. Б. Вольф [48]. Изображавшие<br />
разные позы Афродиты порнографы возникли уже во времена Александра. В современном<br />
мире основы таких изображений были заложены в картинах Пьетро д’Ареццо или<br />
фигурами, написанные Джулио Романо и вырезанные М. Раймонди. Основа пошлых<br />
и распущенных рассказов такого рода была заложена Петронием в его «Сатириконе»,<br />
причем с отсутствующем у его последователей величием. Ничего более характерного для<br />
этого гнусного литературного вида нет, как то, что маркиз де Сад, так называемый король<br />
рабских галер, стал его самым представительным классиком. Чудовищные удовольствия<br />
развратников, которые испытали все человеческие удовольствия и опыты, еще возбуждаются<br />
от изображения таких изощренностей. Печальным опытом нашего времени является<br />
то, что такие пошлые изображения и повествования получают все большее распространение,<br />
и, как рассказывает турист Коль, на улицах Лондона они попадают даже в руки<br />
подростков. Наш современный балет также инфицирован подобными элементами, деградируя<br />
с эстетической точки зрения настолько, что уже не пытается изобразить любовную<br />
страсть символически, а изображает только спазмы сексуального сладострастия. Здесь<br />
нельзя уже встретить идеальную грацию и красоту, а можно встретить только вульгарную<br />
возбужденность. В танце современных поколений канкан представляет собой необратимария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
156<br />
мое следствие определенного развития, которое может быть преодолено только голыми<br />
или полуголыми телами непотопляемых картин Квирина Мюллера. До недавнего времени<br />
француз Шикар считался вершиной этого пошлого направления. В «Двух месяцах в Париже»<br />
(1851, т. 2, стр. 155) А. Стах описывает это таким образом: «Не осталось и следа<br />
от опъянения чувств и крови, от носящего в самом себе собственное оправдание бреда<br />
страсти, ничего от свойственной молодости живости, которая отражается в диких ритмах<br />
и движениях тела. Нет, здесь ничего не было, кроме холодной, сознательной и расчетливой<br />
рафинированности уродства и низости. Этот Шикард был гением самоиронии<br />
полицейской морали. Приближенные к нему защитники нравственности исполняли роль<br />
усиления блеска его триумфа. Потому что весь интерес публики основывался, по сути, на<br />
постижение предела, до которого он дойдет в изображении разрушения и двусмысленности<br />
до того момента, как стражники нравственности прекратят художественную повинность<br />
и удалят его со сцены такого торжества. Это было одетое в вооруженную форму<br />
морали издевательство над моралью, и вокруг этого танца поляризовался весь интерес. Шикард<br />
позволил себе все и вышел победителем». Это пикантное воспоминание все же очень<br />
односторонне. Сравним его с исчерпывающим описанием Тариле Деляром спектакля Шикарда<br />
в исследовании «Французы, как они изображают самих себя» (т. 2, стр. 361–376) [49].<br />
Греки с их глубоким и подлинным художественным вкусом умели преодолевать пошлое<br />
посредством того, что они, как правило, приписывали его получеловеческим существам,<br />
наподобие сатиров и фаунов. Но если в дальнейшем существа, нижняя часть которых завершалась<br />
козлиными копытами, вели себя, как козлы, то это уже не могло удивить.<br />
На многих из помпейских картин изображены сатиры, наблюдающие в лесу за нимфой,<br />
возлежащей во всем блеске прекрасного белого тела на зеленом ковре из мха. Красавица<br />
изображена со спины, лежащей на боку, часто укрыта прозрачной тканью, которую<br />
похотливый сатир отодвигает в сторону. С возбужденными от страсти конечностями,<br />
забывшееся в опьянении чувственности, впавшее в животное состояние уродство стоит<br />
перед полуспящей красотой. Как отличается впечатление, рождающееся при созерцании<br />
этих чувственных, откровенно пошлых сцен, от эротических сцен из прибежищ Венеры<br />
помпейских домов, в которых изображены любовники, отдающиеся страсти в самых разных<br />
позах, как правило, в присутствии приносящего им напиток Афродиты раба.<br />
С целью ослабления пошлости дух прибегает к искусству двусмысленности, то есть<br />
к более или менее скрытой аллюзии относительно неизбежно циничных ситуаций или<br />
половых отношений между людьми. Двусмысленность предстает опосредованным созерцанием<br />
того, что порождает стыд. Она сама вытекает из этой застенчивости, поскольку,<br />
хотя и опровергает ее относительно половых отношений, одновременно приглушает отсутствие<br />
стыда посредством форм, которым вначале придается иной смысл, но которые<br />
все же легко принимают другое значение. Так, игра воображения здесь может представлять<br />
себя в очень смешных аналогиях. Если вспомним слова Шопенгауэра об отношениях<br />
между полами [50], поймем, почему во всех культурах и во все времена сексуальная двукарл<br />
розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть третья<br />
157
ских писем» Монтескье, сатирой в адрес мрачной распущенности и политической коррупции<br />
времени, нравственным осуждением пороков и бесчестия общества, обрисованные<br />
со всем талантом, на который был способен Дидро, но нельзя отрицать, что эта социальная<br />
фреска свободна от игривого оттенка удовольствия, с которым описываются эротические<br />
сцены. В образах султана Монгога и его фаворитки Минзозы Дидро с большим<br />
тактом противопоставил самые тонкие любовные отношения самому экстравагантному<br />
цинизму. Он четко разделил любовь и нежность от распущенности и вульгарности, он никогда<br />
не переступает определенную черту, а останавливается там, где другой, заинтересованный<br />
в возбуждении чувственности автор только начинал бы разворачиваться. Вся книга<br />
Дидро пронизана горьким привкусом опыта, которого султан обобщает в словах: «Que<br />
d’horreurs! Un epous deshonoree, l’etat trahi? Des citoyens sacrifies, ces forfaits ignores, recompenses<br />
mem comm des vertus: et tot cela a propos d’un bijou» 1 . И все же книга оставила неприятное<br />
впечатление, потому что обнажение порочных страстей человека безобразно.<br />
К особенному направлению безобразного относятся изображения, которые постыдны<br />
не в аспекте сладострастия или двусмысленности, но все же глубоко оскорбляет чувство<br />
стыда, поскольку пытаются поэтизировать некоторое историческое содержание, к которому<br />
необходимо относиться со всей серьезностью. Возникает явление испорченности,<br />
трансформирующееся в инверсированную вину. Нельзя предъявлять претензии некоторым<br />
явлениям в том, что они рафинированнее производили сладострастие именно потому,<br />
что прикрывали его аллюзиями или же, напротив, с целью развращения наших чувств,<br />
использовали широкую гамму эффектов. Жесткость в изображении физического и духовного<br />
падения, анатомия тягостной тривиальной точности не позволяют упрекать их<br />
в том, что им удалось привлечь нас скрытыми эффектами и провокациями, или в том, что<br />
мы попали под власть кокетливых грубостей, но эффект этих произведений омерзительнее<br />
именно потому, что это непростительно. Когда Светоний и Тацит внушают нам то же<br />
самое из-за объективной любви к правде, мы содрогаемся от грубости, в которой может<br />
утонуть человечество, но когда такие мерзости претендуют на поэтичность, в этическом<br />
и эстетическом отношении они глубоко оскорбительны. Как и Д. Лоэнштейн в своих драмах,<br />
Бюмон и Флетчер часто допускали такую ошибку. Это ошибка многих произведений<br />
современного французского гиперромантизма, как, например, находим точное с точки<br />
зрения медицины описывание любви фюренс в драме «Дама с камелиями» Ал. Дюма-сына<br />
или во многих главах «Парижских тайн» Э. Сю. Никакой фантазии не хватит, чтобы<br />
скрыть ужасающе прозаический характер, свойственный этим темам. В «Монахине» Дидро<br />
также присутствует это отталкивающее явление. Вне всякого сомнения, в культурноисторическом<br />
аспекте эта книга является одним из наиболее важных памятников XVIII века,<br />
потому как в том, что касается раскрытию ужасных тайн женских монастырей, она<br />
1 «Какой ужас! Обесчещенный муж, преданное государство, граждане, которыми пожертвовали — все эти подлости<br />
игнорированы и даже считаются подвигом, и все это из-за дешевой безделушки» (франц.).<br />
смысленность как двоякость par excelence была предпочтительным занятием человечества.<br />
Одновременно с цивилизацией, удовольствие от него возросло до тех пор, пока из нее<br />
не родилась высшая, чистая, идеальная культура. В своих пошлых элементах религии лишены<br />
всякой ценности половых отношений, и Фаллос, Лингам, Приап могут быть изображены<br />
исключительно символически. Религии видят в них священную, божественную силу<br />
природы и посредством их обнажения отбивают охоту играться с ними. В античных рисунках,<br />
рельефах и античных геммах [51], изображающих жертвы, которые молодые<br />
женщины приносили богу Приапу, найдем не только сладострастие, но и очень строгую<br />
выправку. Скульптура и живопись могут, конечно, стать похотливыми и пошлыми, но они<br />
уязвимы для пошлости намного меньше пантомимы и поэзии. Музыка совершенно неспособна<br />
на двусмысленность. В то же время двусмысленность не перегружает воображение<br />
и мышление и, благодаря своим аллюзиям, все же отличается от свинской пошлости, которая<br />
в том, что касается ее саму, способна также быть двусмысленной, в то время как<br />
конкретная двусмысленность не обязательно должна быть непристойностью. Непристойность<br />
(die Zote) характерна такой грубостью, бесстыдством и тупостью, от которой двусмысленность<br />
дистанцируется при помощи шутки. Как один из главных элементов так<br />
званой комической вульгарности, cальность предпочитает жонглировать явлениями естественных<br />
потребностей. Она насмехается над людьми, которые, какими бы привилегированными<br />
не были, также должны справлять свои естественные нужды. Какая смесь непристойности<br />
встречается у Рабле и как редко он прибегает к двусмысленности! Но какое<br />
богатство аллюзий и двусмысленностей у Шекспира и как редко у него можно встретить<br />
пошлость и грязную шутку!<br />
Сальная непристойность может использоваться сатирой против аффектированной<br />
стыдливости с целью напоминания высокомерным особам, что их аффектированная святость<br />
лжива. Когда североамериканская пресность пуританской строгости запрещает<br />
произносить в присутствии женщин слова «рубашка» или «панталоны», выражение inexpressibles<br />
лучше всего подчеркивало то, что хорошо известно, что собой представляют<br />
панталоны. Из-за названия «Панталоны господина фон Бредерлова» романа В. Алексиса<br />
в Америке его перестали бы принимать в обществе. Это зависит от способа, каким искусство<br />
изображает пошлость, в использовании которого был непревзойденным Гейне.<br />
Вспомним его полемику против Платена в работе «Воспоминания господина Шнебеловопски»,<br />
или конец произведения «Германия — зимняя сказка», в которых толстая<br />
Амония приказывает главному персонажу открыть ночной горшок Фридриха Великого.<br />
Двусмысленность разворачивается особенно в пространстве более или менее скрытых<br />
сексуальных аллюзий. XVII и XVIII столетия перенасыщены этим видом двусмысленности.<br />
К этому времени относятся Ронсар, Вольтер, Эредиа, Крессе и др. Кульминационной<br />
точкой двусмысленности французской литературы этого периода выступает «Нескромные<br />
украшения». <br />
В содержательном плане «Нескромные украшения» являются продолжением «Персидмария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
158<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть третья<br />
159
тественна, но страстная зависимость Джулии от нравственного урода, превращающего ее<br />
в средство заработка и самым низким образом ей изменяющий, возмутительна [53].<br />
Эта область сексуальной тривиальности может эстетически освободиться посредством<br />
комического. При условии сохранения реального, присутствующего в данной ситуации<br />
противоречия этический аспект в этом случае должен игнорироваться. Комическое<br />
должно заботиться ситуацией как таковой, потому что любое, более глубокое ее толкование<br />
отклонило бы комическое от своей природы. Бирон в своем «Дон Жуане» практиковал<br />
этот тип комического в особенно пикантных сценах, которые вызывают смех,<br />
не возмущая. Толстая испанка Джулия прячет Дон Жуана под одеяло и встречает входящего<br />
вместе с Алгуазилом мужа гневной проповедью о бесстыдстве такого проникновения<br />
в ее спальню. В это же время комнату обыскивают, заглядывают даже под кровать,<br />
но ничего подозрительного не находят, в то время как виновник покрывается потом под<br />
одеялом. Или вспомним сцену, когда в Константинополе переодетый в девушку Дон Жуан<br />
куплен султаншей в качестве раба и, поскольку для него еще не было кровати, отправлен<br />
с одной из одалисок переночевать в гареме. Одалиске снится такой реальный сон, что<br />
ее крик будит всех. Как уже говорилось, комическое во всех этих случаях должно абстрагироваться<br />
от какой-либо моральной критики, но возможность такого абстрагирования<br />
должна быть включена во весь комплекс обстоятельств — как и в последнем случае, поскольку<br />
переодетый в девушку Дон Жуан попал в гарем соседом по кровати с одалиской<br />
помимо его воли и то, что он забыл об этических принципах, не будет удивительным. Байрон<br />
в «Дон Жуане» никогда не прибегает к сладострастным сценам, как это делает Вилланд,<br />
которому свойственно изображать чувственность. Из более современных писателей,<br />
эта манера представлена, прежде всего, Полем де Коком, который придал ей такую<br />
свободу и свежесть, без которых она была бы отталкивающей. Чувствуется, что автора<br />
занимал, прежде всего, комизм ситуации, и что чувственность трактуется как сладострастие,<br />
но без подтекста. Так, он представляет нам старую деву, преследуемую мыслью, что<br />
сексуальная безнравственность порождается тем, что многие женщины не носят панталоны.<br />
По этой причине она не впускает в свой дом ни одной особи женского рода, которая<br />
таковые не носит. Когда нанимает служанку, последняя должна обещать, что она будет<br />
носить панталоны. Входя в дом, она должна поднять юбки и продемонстрировать, что<br />
с нравственной благочестивостью носит их. Прежде всего, она должна носить calencons,<br />
потому что ношение кальсон благородной дамой идентифицируется с хорошим поведением<br />
и нравственностью и она обстоятельно объясняет своей племяннице важность этого<br />
этического принципа. Одного дня племянница сидит на скамейке в саду рядом со своим<br />
двоюродным братом. Скамейка опрокидывается вместе с ними и брат обнаруживает, что<br />
его двоюродная сестра носит симпатичные панталончики. Это неожиданное открытие<br />
имело печальные, абсолютно противоположные высоким намерениям умного педагога<br />
последствия. Уже упоминалось, что именно благодаря комическому, при помощи которого<br />
он стремится к гротеску и бурлеску, Поль де Кок не так вреден, как другие авторы. Эту<br />
сильнее даже «Черной монахини» канадского Монреаля. И какое простое, захватывающее<br />
описание! Но в эстетическом аспекте эта повесть особенно уязвима, потому что склоняющая<br />
молоденьких монашек к лесбийским грехам толстая и похотливая стареющая<br />
монахиня представляет собой уродство, лишенное какой-либо поэзии. Безусловно, Дидро<br />
мог бы сказать, что он не стремился писать роман, художественное произведение. Но,<br />
как сообщает Ж. А. Нежон [51], позже он убедился в опасном характере своего повествования<br />
и даже захотел его уничтожить, но этому помешала болезнь и последовавшая<br />
за нею смерть. Некоторое оправдание пикантностей, о которых пишет Дидро, присутствует<br />
также и в «Жаке-фаталисте» [52].<br />
Имея свои корни в средних веках, романтическая литература страдает некоторой<br />
склонностью к непристойности, сладострастности, двусмысленности, в contes и fabliaus,<br />
в галантных приключениях кавалеров короля Артура, вплоть до «Песен» Беранже — автора,<br />
которого, если вспомнить его «Фретильона», нельзя отделить от свойственного<br />
французам удовольствия изображения распущенной чувственности, под влиянием которого<br />
написаны такие безобразные стихи. Тема некоторого фатализма любви, которую<br />
найдем и в превращенной в трагедию легенде о Тристане, и в нравственной смерти<br />
в «Избирательном сродстве» Гёте, была превращена французами в неубедительное<br />
оправдание совершенно двусмысленных изображений. «Манон Леско» Прево остается<br />
одним из самых любимых образов французов. Двое влюбленных магически связаны и, вопреки<br />
превратностям судьбы, остаются верными друг другу до самой смерти. Но каким<br />
образом? Когда материальные трудности начинают их отягощать, прекрасная и любящая<br />
Манон, с согласия своего возлюбленного, находит выход в том, чтобы отдаться какомулибо<br />
состоятельному мужчине за деньги, и этими, добытыми проституцией средствами,<br />
обеспечивает безбедность совместного существования с любимым. Манон остается верной<br />
любимому, настолько верной, что от любви к нему занимается проституцией! А ее кавалер,<br />
господин Дегрие? Он зарабатывает, мошенничая в картах. Несомненно, эти ситуации<br />
пикантны, и, как подтверждают многочисленные и повторяющиеся издания «Манон<br />
Леско», соответствуют вкусу французов. Но бесспорно и то, что с этической и эстетической<br />
точки зрения эти ситуации низки и тривиальны. То, что, в конце концов, влюбленные<br />
уезжают в Америку, где становятся добродетельными гражданами, эмоционально завершая<br />
свою жизнь (здесь чувствуется модель «Аталлы» Ф. Р. Шатобриана), не может быть<br />
правдивым, а в этическом и эстетическом аспекте представляет собой ошибку, поскольку,<br />
оказавшись на американской земле, эта Манон и этот Дегрие уже не те персонажи. В «Леоне<br />
Леони» Жорж Санд не могла отказать себе в упреке в адрес Манон, в отличие от которой<br />
Джулия целомудренна и понятия не имеет о виражах Леони, который также передергивает<br />
в картах! Но эта история совсем уродлива, ибо то, что вследствие открытой<br />
и взаимной договоренности возлюбленных составляет у Прево некоторую инверсированную<br />
вину из-за вероломства и принуждения Леони Джулии, которую он самым грубым<br />
образом продает одному англичанину, становится здесь невыносимым. Верная Манон есмария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
160<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть третья<br />
161
1 Cкользящий парус (франц.).<br />
веселую склонность с большим успехом он изобразил в романе «Касабланка». С целью<br />
обоснования нашего тезиса, расскажем только об одной из многочисленных ситуаций<br />
этого подлинно комического романа. Выскочка Робино покупает дворец в провинции<br />
и хочет отпраздновать это событие деревенским праздником. Среди разных предложенных<br />
гостям развлечений есть и «Mat de cocagne» 1 . Но все состязающиеся ради выигрыша<br />
юноши падают со скользкого столба и создается впечатление, что уже никому не удастся<br />
достичь верха и получить награду. В это время появляется кругленькая кухарка, решительным<br />
движением собирает свои юбки, насколько невинно, настолько и эффективно<br />
карабкается на столб, хватает приз и начинает соскальзывать вниз. В это время подол ее<br />
юбок зацепился за верх столба и во время скольжения вниз поднимается над ее головой,<br />
так что присутствующие видят непокрытые панталончиками мощные ягодицы победительницы.<br />
Эта очень смешная ситуация придумана де Коком с большой естественностью.<br />
Рассмотренные до сих пор понятия как формы неразвитого характеризуются зависимостью<br />
свободы от чувственности. В стороне от них стоит грубость, находящая удовлетворение<br />
в ущемлении и насилии свободы других. Величественное поведение тоже может<br />
причинять страдание другим, но только если это относится к справедливому требованию,<br />
но еще возвышеннее выглядит величие, когда его терпение может быть искупительным.<br />
Низость же, напротив, выражает свою жестокость тем, что для удовлетворения своего<br />
эгоизма, причиняет другим страдание. Слово грубость (неотесанность) характеризуется<br />
уже своим этимологическим происхождением, хотя животное, поскольку оно животное,<br />
не может быть грубым. Грубым может быть только человек, поскольку из свободы он может<br />
деградировать до состояния приобретающего животный характер насилия. Когда<br />
кот или кабан съедают своих детей, это неестественно, но не грубо, потому что животное<br />
неспособно на благочестие. Отсутствие щепетильности в проявлении животного<br />
инстинкта составляет сущность грубости — животное проявляет его безразлично,<br />
но человек должен подчинить его своей воле. Грубость жестока, потому что действует<br />
против свободы с ужасающим произволом, и поэтому варварски, поскольку она наслаждается<br />
этим произволом. В грубости жестокость становится удовольствием, а удовольствие<br />
— жестокостью.<br />
Чем нарочитее сила жестокости, чем рафинированнее наслаждение распущенной жестокостью,<br />
тем они грубее, и тем безобразнее с эстетической точки зрения, поскольку<br />
извинение некоторой зависимости от аффекта становится в таком случае совершенно невыносимым,<br />
постольку в случае проявления свободной, уверенной в себе воли грубость<br />
представляется преобладающей. Грубость пользуется силой сильного по отношению<br />
к слабому, мужчины против женщины, взрослого против ребенка, здорового против<br />
больного, свободного человека против пленника, вооруженного против безоружного,<br />
господина против раба, виноватого против невиновного. Насилие, которое в своем эгоизмария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
162<br />
ме осуществляет грубость по отношению к слабым, составляет самый возмутительный аспект<br />
грубости.<br />
По форме грубость может быть более жесткой или более утонченной. Более жесткой,<br />
когда провоцированное ею страдание принимает, как в случае драк животных, матадорства,<br />
избиений, пыток и т. д. непосредственно созерцаемую форму; более рафинированной,<br />
когда страдание причиняется психологическим насилием. Первая форма преобладает<br />
в криминальных драмах, рыцарских романах, в описывающих жизнь пролетариата<br />
новеллах, в рассказах о рабах. Сколько грубостей этого жесткого вида накопилось в произведениях<br />
иммитаторов после того, как Эжен Сю написал «Парижские тайны»! Э. Сю<br />
обладает особенным талантом изображения грубости: он часто пронзительно жесток,<br />
но в то же время и подлинно пластичен. Его мистическая повесть о Гринголете и Купен-<br />
Дуре является подлинным сокровищем. Этот Купен-Дур изображен полностью в манере<br />
синей Бороды — родившегося в эпоху феодализма мрачного и жестокого типа. Он собрал<br />
себе обслугу из беззащитных детей, которых днем отправляет просить милостыню — одного<br />
с ящерицей, другого с обезьяной, и горе им, если вечером принесут мало денег, —<br />
в таком случае их ожидают самая страшная ругань, избиения и голод.<br />
Психологическое насилие как более рафинированная форма грубости получило самое<br />
выразительное осуществление в драме Кальдерона. Здесь диалектика веры, любви и чести<br />
провоцируют у других самые невозможные страдания, поскольку мука, которую человек<br />
может причинить самому себе, не может быть названа грубостью даже тогда, когда<br />
она, в качестве самоистязания, заключалась бы в ношении пояса с направленными вовнутрь<br />
иголками, или сном на деревянном кресте. Богатое воображение испанского писателя<br />
и связанный с ним католически-религиозный интерес мощно затушевывали в его<br />
произведениях узнавание и выделение грубых элементов. Но существует все же произведение,<br />
в котором предпринята попытка показать возмутительную бесчеловечность множества<br />
драм Кальдерона, отражающие деградацию веры, любви и чести. Имеется в виду<br />
«История романтизма в эпоху реформ и революции» (1848, т. 1, стр. 244–302) Юлиана<br />
Шмидта. Из выводов его дотошных доводов приведем только тот, что на страницах 290–<br />
291 относится к нашей теме. Юлиан Шмидт пишет: «За этими мифологемами о чести, вере<br />
и любви, за этой расцветшей мечте фантазии прячется абстрактный, холодный, расчетливый<br />
эгоизм. Формализм этой надуманной попытки оставляет нетронутыми силы природы,<br />
а мрачный соблазн предрассудка приводит к тому, что жизнь переносится в пространство<br />
дикого противостояния злых духов. Кто восхищается бодрой творческой фантазией<br />
Кальдерона, не должен забывать, что в ней сокрыта тайна падения Испании. Этот язык<br />
с таким же блеском фиксировал фанатичные действия инквизиции, своим сладким шепотом<br />
— стоны и крики горящих на костре еретиков, как аромат арабского ладана он обволакивал<br />
недостойные алтари жертв фанатизма. Сущность фанатизма заключается в его<br />
овнешнении посредством абстракции, которая очерчивает себя абсолютным отрицанием<br />
каждого конкретного элемента. Таким образом, жизнь предстает привидевшимся абсткарл<br />
розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть третья<br />
163
рактному существу сном в самом прямом значении слова. Реальность отдана на суд эфемерности<br />
момента, поскольку не признана абсолютом. Поэтому она не им ограничена —<br />
ей неведома мера. Вырываясь из мрачного источника неблаговейного чувства, природа<br />
бездумно и безудержно растворяется в огне страстей и сегодня разрушает то, чем увлекалась<br />
вчера. Ничего устойчивого нет, кроме потустороннего мира. Эта сосредоточенная<br />
на саму себя страсть, эта еще непобедимая абстрактной святостью субъективность проявляет<br />
себя во всех формах — индивид непобежден в ненависти, в любви, в великодушии,<br />
как и во зле; тем беспричинней пожирает внутренний мир человека огонь лишенной субстанциальности<br />
жизни. Оправдание человека заключается в том, что он абстрагируется<br />
от себя и от реальности, он испил до дна чашу земных удовольствий и на крыльях абстракции<br />
чудесным образом возвышается до небесного благоденствия. Поскольку освободительный<br />
эффект этих слепых сил проявляется внешним, лишенным внутреннего эха образом,<br />
не раздумывая и бессознательно, в своей обнаженной природной дикости человек<br />
направляется к этому хаотическому концу. С одной стороны, тигриная жажда крови,<br />
ярость и неосознанное бешенство; а с другой — абсолютно абстрагированная от мира, существующая<br />
в чистой трансценденции святость. Все эти фигуры являются абстракциями,<br />
так как лишены какой-либо противоречивости и развития; они возвышают чувства, поскольку<br />
животное и чудесное противостоят разуму. Если человек стремится к познанию<br />
абсолюта, он обращается к магии; если имеет место воскресение, то оно относится к чуду».<br />
Шмидт называет абстракцией то, что мы определяли у Кальдерона как психологическое<br />
насилие, потому что мотивация действия всегда происходит из расчета — ставится ли<br />
жизнь впереди любви, любовь перед честью, честь выше веры. Когда в произведении «Возлюбленная<br />
Гомеса Ариаса», вопреки ужасающим издевательствам, которым подвергает<br />
ее муж, продавший даже в рабство маврам, женщина все же прощает его, то здесь именно<br />
сила любви как абсолютная страсть позволяет женщине покорить свою честь. Когда<br />
в хорошо известной пьесе «Врач своей чести», из-за подозрения в неверности и любовной<br />
связи с князем, дон Гутьер убивает жену самым жутким способом, и когда, узнав о беспочвенности<br />
своего подозрения, все же сохраняет спокойствие и даже женится на другой,<br />
здесь страсть мужа к чести заставляет его пожертвовать ради нее любовью. Когда<br />
в «Верном князе» пленный инфант Фернандо, благодаря любви дочери мароканского короля<br />
имеет возможность вернуть себе свободу предательством Сенто, он предпочитает<br />
терпеть самую страшную нищету и унижение, вплоть до гибели, то в этом случае именно<br />
вера заставляет его как христианина пожертвовать своей любовью, свободой и жизнью<br />
во имя защиты короля. В контексте этой диалектики грубость бесчестия, убийства, истязания,<br />
смерти имеет свой метод.<br />
Поэтому рафинированной грубостью психологического насилия пронизаны и некоторые<br />
более современные трагедии, как, например, «Гризельда» Вернера Хольма [55]. Ее<br />
сравнение со способом, каким эта тема была раскрыта Шекспиром в «Цимбелине», позволяет<br />
констатировать, что ни в случае Парсифаля, ни в случае Гризельды нет подлинной<br />
любви, поскольку иначе Парсифаль не мог бы истязать в таких грубых формах супругу,<br />
а Гризельда не пала бы настолько, уступив вплоть до их полного приятия, такой недостойной<br />
покорности. Волшебство культивированного языка и накопление испытаний, которым<br />
экзальтированный Парсифаль подвергает веру своей жены, способны овладеть нами,<br />
но не возвысить.<br />
Когда жестокость силы издевается над невинностью, тогда грубость притеснения становится<br />
уродливее невинного, не носящего вину за собственные поступки ребенка, еще не<br />
познавшего заблуждений, которые повсевместно отмечены печатью греха истории, или<br />
же благородства осознанной нравственности, которая отошла от общей деградации.<br />
К первой категории относится, к примеру, тема избиения младенцев в Вифлееме, создавшего<br />
полюбившийся художникам сюжет и которому Марини посвятил поэму. Подобная<br />
ситуация может быть представлена и под видом рафинированной грубости, как, к примеру,<br />
в «Матильде», где Э. Сю изображает пакостные муки, которым, под предлогом заботливого,<br />
строгого воспитания девица де Маран систематически подвергает маленькую Матильду.<br />
Как бесконечно груба чудовищность в сцене, когда, лежа в кровати, она стрижет<br />
чудесные волосы малышки! В Шюэтте из «Парижских тайн» Э. Сю представил образец<br />
грубо вырисованной карикатуры этого дьявольского эгоизма.<br />
Контраст между величием самосознающейся свободы и грубостью в искусстве придается<br />
особенно изображением страстей Христа. В античном искусстве этот контраст еще<br />
не был очевидным. Ниоба, Дирка, Лаокоон были грешны гордыней; Эдип и Орест — неосознанно-осознанным<br />
поведением. Виноватый перед богами из-за той же гордыни Марс<br />
может вызывать жалость из-за особенностей его наказания — то, что оправданный своим<br />
гневом Зевс наказывает своего побежденного противника, разрисовывая его кожу<br />
крестообразными порезами ножа, противоречит нашим сегодняшним чувствам. Поэтому<br />
античные рельефные образы приглушают это грубое изображение тем, что представляют<br />
Аполлона только приближающимся с ножом к привязанному к дереву Марсу. Но в страстях<br />
Христа проглядывает диаметральная противоположность между невинностью и грубостью<br />
в рафинированных или жестких формах последней. Живопись изначально отразила<br />
этот контраст и старая немецкая школа особенно заботилась о том, чтобы придавать<br />
фарисеям, книжникам и наемникам грубо-дьявольское обличье [56]. Начиная с истории<br />
Христа, этот контраст был всесторонне развит в истории святых и мучеников. Тысячами<br />
нюансами повторялось издевательство над Христом наемниками, которые бичевали его<br />
кнутом, увенчали шипами и заставили нести крест. Пытки каленым железом, распятие<br />
на кресте, в случае Петра даже головой вниз, сдирание кожи, вскрытие внутренних органов,<br />
отрубление головы, вырывание членов на столах пыток, погребение живого, кипячение<br />
в горящем масле и т. п. — это грубости, которые должны быть осуждены как с этической,<br />
так и эстетической точки зрения. Сколько бы ни пытался талант художников согласовать<br />
эти сюжеты с принципами прекрасного, им редко это удавалось. Не хотим сказать,<br />
что картина большой битвы не отражает картину смерти и агонии умирающих в самых<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
164<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть третья<br />
165
мен, потому что они порождали пронзительные контрасты, но достигали определенную<br />
критическую границу, часто деградируя в безобразное. Так много художников прошлого<br />
исказили вифлеемский мотив детоубийства посредством изображения отвратительной<br />
бойни! Сколь многие из них изображали Иродиаду, носящую в руке голову мученика, подобно<br />
букету цветов, или как будто в сосуде предлагалось аппетитное яство! В допущении<br />
того, чтобы юность, красота, жажда жизни с такой бесчувственностью относились к безропотности,<br />
самопожертвованию, терпению Средние века почувствовали некую неистинность,<br />
и поэтому выдумали историю любви обесчещенной пророком танцовщицы, которая<br />
хочет отомстить за себя его смертью.<br />
Наиболее адекватным средством приглушения самых вопиющих аспектов проявления<br />
грубости остается взаимопроникновение насилия и правды, поскольку оно устраняет<br />
идею простого произвола и случайности. Выше обращалось внимание на способ, при помощи<br />
которого античное искусство удерживало в таких ситуациях черную нить вины.<br />
В знаментой группе быка, находящейся в римском дворце Фарнезе (сегодня это произведение<br />
принадлежит Музею Неаполя) скульпторы Аполоний Тралесский и Тавриск применили<br />
способ, которым Амфион и Зевс наказывают Дирку, привязав ее к рогам готовящегося<br />
к бешеному разбегу быка. Как прекрасна эта женщина! Но ее чары не трогают мускулистых<br />
юношей. Они не испытывают удовольствия и от своих грубых действий, а, в соответствии<br />
с античными принципами, отомстив за замученную Диркой мать Антиопу,<br />
только исполняют свой долг. Убивая всех двенадцати детей Ниобы, они поступают также,<br />
как Аполлон и Артемида. Поэтому отсутствие так званой поэтической правды чувствуется<br />
нами как безответственная грубость. Современная французская трагедия с ее главным<br />
принципом: le laid c’est le beau [уродливое является красивым] часто грешит и этим.<br />
Такую ошибку допустил Виктор Гюго в трагедии «Развлечение короля». Величию красивого<br />
кавалера Франциска через Триболе противопоставляется безобразный и горбатый<br />
буффон. Но образ короля деградирует до ничтожества, гоняющегося за любой юбкой и в<br />
переодетом виде посещающего самые мерзкие трактиры, чтобы ухаживать за кокетками<br />
самого низкого пошиба. Такой король не является королем, потому что, начиная с оргии,<br />
на которой он вначале появляется перед нами, и, заканчивая желудочно-кишечными<br />
приключениями на пустыре, где будет убит, в нем невозможно обнаружить ни следа благородного<br />
человека. Но сам Триболе, никому не прощающий ядовитых импровизаций,<br />
дающий всем плохие советы и издевающийся над Св. Белье по поводу его обесчещенной<br />
королем дочери, пытается в то же время стать нежным отцом, который, несмотря на свое,<br />
оказывающееся лишь маской сумасшествие, обладает подлинно человеческим и благостным<br />
сознанием. К несчастью, у него есть прекрасная дочь, которая нравится королю.<br />
Встретив ее в церкви, король не знает, что Бланка — дочь своего дворцового буффона и,<br />
маскируясь, преследует ее. Оскорбленные сарказмами Триболе, слуги нападают на его<br />
дочь, связывают и отводят к королю, который ведет плачущую и молящую об освобождении<br />
девушку в свой кабинет, замыкает двери и обесчещивает ее con amore, в то время как<br />
различных формах. Но в битве сила противостоит силе, воин борется с другим воином,<br />
атакуемый одновременно и атакует. Вместе с тем, художник будет сдержаннее с ужасами<br />
войны, он изобразит раненых и мертвых, но некоторые уродства скроет от нашего взгляда.<br />
Античная живопись также отражала ужасающие аспекты жизни, но только самые необходимые,<br />
о которых, созерцая картины Филострата, Гёте говорил, что они самые допустимые.<br />
Он так высказывался относительно истязания Абдероса: «В этих картинах самое<br />
важное никогда не обходится вниманием, а, напротив, представлено зрителю со всей силой.<br />
Так изображены головы и черепа, которые гангстеры повесили на ветки старого дерева<br />
как трофеи, а также головы, выставленные по поводу праздника Гипподамии<br />
во дворце его отца; не забудем и кровь, которая, смешиваясь с пылью, проливается на<br />
стольких картинах. Поэтому можно по праву утверждать, что самым высоким принципом<br />
античности была значительность (das Bedeutende) как таковая, самый высокий и одновременно<br />
прекрасный результат счастливой трактовки. Не происходит ли с нами и сегодня<br />
то же самое? Потому что, куда бы мы не бросили взгляд в церквях и галереях, не относящиеся<br />
к великим мастера заставляют нас с благоговением и усладой созерцать ужасные<br />
страдания». Грубость, с которой беспомощным святым причинялись изощренные муки,<br />
может стать эстетическим объектом только в той мере, в какой образ изображает победу<br />
внутренней свободы над внешним насилием. Поэтому, в полном соответствии с их омерзительным<br />
занятием, палачи должны обладать мускулистыми телами, лишенными аффективности<br />
и жестоко ухмыляющимися лицами, в то время как осанка и облик святых должны<br />
привлекать внимание благородством и красотой. Бессилие грубости перед свободой<br />
должно стать очевидным из открытой одухотворенности облика и благородства выдержки<br />
подвижников. Уверенное величие веры должно проявлять превосходство перед страданиями<br />
и кандалами, перед смертью и издевательством, и одержать победу через испытание<br />
всеми муками. Перед таким возвышенным спокойствием ужасающий характер<br />
грубых поступков должен исчезнуть как несущественный. Без этого растворения ужасного<br />
в величии и чудесную силу этоса зрелище истязания становится невыносимым и воспроизведением<br />
такого ужаса мучают нас художники и скульпторы, которые изображают<br />
Христа, апостолов и святых наподобие развлекающихся ирокезов, противопоставляя<br />
мукам, которыми враги испытывают их выдержку, некоторому абстрактному бесчувствию.<br />
В стремлении жертвовать собой во имя абсолютной истины незыблемый характер<br />
духа должен стоически выдержать жестокость. И все же, благодаря контрастам эффекта<br />
такие сцены больше подходят пластическим искусствам, чем поэзии, потому что картина<br />
или скульптурный ансамбль непосредственно предоставляют созерцанию то, что в протяженности<br />
и длительности вербального описания может показаться более отталкивающим.<br />
Казалось бы, это опровергает канон Лессинга, но каждый, кому известны средневековые<br />
легенды, в которых истязание святых описано с протокольной дотошностью,<br />
согласится с нами — с трудом можно представить себе более утомляющего уродства.<br />
Некоторые сюжеты этого порядка особенно привлекали художников прошлых времария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
166<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть третья<br />
167
двери сторожат слуги, останавливающие желающего войти и ничего не ведающего Трибулета.<br />
Можно ли представить себе более грубую ситуацию? Узнав правду, буффон платит<br />
цыгану Салтабадилу двадцать золотых монет за то, чтобы тот убил короля. По ошибке<br />
цыган убивает дочь Триболе, которая любит короля, хотя тот ее обесчестил. Салтабадил<br />
прячет ее тело в мешок; полагая, что в мешке находится труп короля, Триболе намеревается<br />
выбросить его в Сену. Но, чтобы насладиться созерцанием мести, хочет еще раз<br />
посмотреть на убитого. В черной как смоль ночи это было бы невозможно, но автор легко<br />
вызывает грозу, пронизывающую ночь своими молниями. Триболе разрезает мешок<br />
ножом и узнает свою дочь, которая еще жива и наполовину высвободившись из мешка,<br />
успевает произнести эмоциональную речь, полную сентиментальной страсти к королю,<br />
который должен был быть убит на пустыре, но не оказавшегося там из-за того, что отправился<br />
провести ночь с Магелон, сестрой цыгана. После этого дочь Триболе умирает. Вызванный<br />
хирург с профессиональной невозмутимостью объясняет отцу, что его дочь действительно<br />
мертва, но при этом известии Триболе не сводит счеты с жизнью, а только<br />
сходит с ума, в то время как спасенный от смерти благодаря Магелон король, не ведая о<br />
случившемся, появляется припеваючи и отдохнувший после хорошего сна! Вне всякого<br />
сомнения, отмена наказания главного виновника является самой страшной грубостью<br />
этой драмы, которая может считаться настоящей моделью грубостей и низостей! Мы пошли<br />
бы еще дальше, если бы проанализировали и другие драмы этого писателя, поэтому<br />
удовлетворимся замечанием, что после Виктора Гюго нарушение поэтической правды перестало<br />
быть редкостью. Одна из самых блестящих ролей выдающейся актрисы Рэчел это<br />
роль «Адрианы Лекувре», которую Скриб написал специально для нее. Адриана — актриса,<br />
за которой ухаживает саксонский маршал, получает от его ревнивой возлюбленной —<br />
замужней герцогини букет убивающих ее ядовитых цветов, в то время как госпожа герцогиня<br />
беспрепятственно уходит. Так званый изыск этой пьесы заключается не столько в этом<br />
диссонансе, сколько в изображении патологической суровости смерти несчастной актрисы.<br />
Все разворачивающиеся фазы действия отравления представлены с педантической точностью,<br />
вплоть до последнего выдоха жертвы. И в «Даме с камелиями» Дюма-сына детальная<br />
передача смерти Лоретты стала для публики самой интересной грубостью.<br />
Хотя наша задача заключается в анализе понятия безобразного, необходимо признать,<br />
что вопреки любому научному дерзанию, сложно углубиться в такую форму грубости,<br />
которая рождается из сращивания жестокости и сладострастия, а также из извращенных<br />
форм последнего. К сожалению, анналы истории искусства перенасыщены такими<br />
произведениями. В аспекте немецкой литературы ограничимся лишь напоминанием<br />
«Агриппины» Д. К. Лоэнштейна [57]. Принуждение — более грубое или рафинированное<br />
— наиболее излюбленное в этой области.<br />
Грубость также может превращаться в комическое. Самая распространенная форма<br />
этого превращения будет пародия, причем пародия встречающаяся в последнее время<br />
в многотомных мюнхенских сочинениях, а также в маленьких трагикомических сценах или<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
168<br />
в лондонских и парижских театрах марионеток [58] тонко высмеивающая грубость баллад<br />
трубадуров и которые с основанным на такого рода пародиях юмором издеваются над непосредственным<br />
характером ситуаций и фальшивым пафосом современные трагедии.<br />
И все же, трансформация грубого в комическое возможна и без пародии, но в связи с обыгрыванием<br />
первоначального отношение между полами, здесь ужас и страх ослаблены. Поэтому<br />
художники и скульпторы с удовольствием изображали этот случай, находя в нем<br />
повод для приукрашивания напуганных фигур посредством выражения сладкого испуга<br />
и с целью противостояния стыдливости импульса неосознанного самопожертвования.<br />
В конце концов, быть похищенной бравыми римлянами не так уж неприятно. Эту ситуацию<br />
обнаруживаем и в случае похищения Европы и т. д. Когда Рейнеке на глазах Исегринина<br />
насилует его жену на льду, факт, без сомнения груб, но при определенных обстоятельствах<br />
он может стать комичным [59]. Существуют и действия, которые насильственны,<br />
не будучи грубыми — они могут стать объектом искусства лишь тогда, когда комичны.<br />
К этой категории относятся картины голландской живописи, на которых изображены ограниченные<br />
сельские стоматологи, склонившиеся над орущими молодыми балбесами, или<br />
крестьяне, ожидающие свою очередь с несчастным видом осужденных на смерть.<br />
До сих пор речь шла о непристойности и грубости как формах того, что не прошло становление<br />
— неопытном (Rohheit), но необходимо проанализировать еще одну форму —<br />
игривость (легкомыслие), которая посредством абсолютной произвольности противоречит<br />
возвышенному в той степени, в какой оно является чудесным, унижая тем самым самое<br />
глубокое основание мира. Природа и история приобретают смысл исключительно<br />
в условиях нравственности и истинности чудесного. Легкомыслие не отрицает существование<br />
этой истины из-за того, что она для него не убедительна, а представляет собой то,<br />
что в основании некоторой поверхностной свободы издевается над верой в дивную красоту.<br />
Становящийся атеистом скептик не обязательно легкомысленен, но легкомысленен<br />
эгоист, для которого религиозность является только позой, поскольку истина религии<br />
ему не подходит. Произвол грешит сарказмом по адресу существа, которое является<br />
основанием любой свободы и необходимости, в то время как возникающему вследствие<br />
сильных страданий атеизму при определенных условиях может приписаться печать некоторой<br />
религиозной безнадежности. Легкомыслие безобразно, поскольку оно представляет<br />
обезъяничание величия чудесного, на котором основывается любое величие природы<br />
и истории. Легкомыслие претендует на то, что оно само есть абсолют. Поэтому в природе<br />
эта форма безобразного невозможна, поскольку, не обладая сознанием, она не способна<br />
высмеять собственную необходимость. Из всех видов искусства наиболее способна<br />
изобразить легкомыслие поэзия, поскольку при помощи языка она способна углубиться<br />
в мышление. Легкомыслие смеется над священным как таком, что лишено ценности.<br />
Супружеская верность, дружба, любовь к родине, религия кажутся ему слабостью и ограниченностью,<br />
над которыми сильный дух возвышается как над предрассудками. Но эта<br />
сила духа есть чистый произвол, который по велению субъективного нрава трактует чукарл<br />
розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть третья<br />
169
лости трактуется как легкомысленное именно подлостью. Естественно, что это противостояние<br />
не всегда отмечено меланхолией бесконечного страдания, провоцированного<br />
моральным и духовным несчастьем человечества — будучи человеческой, она не сможет<br />
отказать себе в том, чтобы улыбкой или сатирой встретить высокомерие и надутость ее<br />
противников, и эти улыбка и сатира будут квалифицироваться как игривые. Следовательно,<br />
здесь выражены границы каждого случая в отдельности, потому что через склонность<br />
к шутке серьезное противостояние легко может прогрессировать к проявлениям, уже<br />
содержащих в себе игривый нюанс. Уничижительный гнев Аристофана питается одновременно<br />
наслаждением, которое он испытывает при унижении своих противников, и этот<br />
комический элемент порождает выражения, выдающие с точки зрения античности едкое<br />
легкомыслие [60]. Смех, долженствующий удостоверить безнравственность и неверие его<br />
противников, непроизвольно распространяется на мораль и религию в целом. Гейне часто<br />
становится тривиальным именно потому, что не может преодолеть склонность без разбора<br />
жертвовать во имя шутки самой религиозностью, становясь, таким образом, легкомысленным.<br />
Истина легкомыслия характеризуется некоторой грубостью, посредством которой<br />
оно разрушает то, что отдельным народом или человеком считается священным и наслаждается<br />
спровоцированным регрессом религиозности в нелепую карикатуру. Поэтому,<br />
рассматриваемая в общих чертах сущность игривости строго детерминирована, но, как<br />
видим из установленных закономерностей ее реализации, при конкретных обстоятельствах<br />
легкомысленность относительна. То, что с узкой точки зрения и будучи по праву<br />
санкционировано в этом контексте еще может восприниматься как легкомыслие, способно<br />
утратить это значение в более широком и высоком контексте. Здесь необходимо проанализировать<br />
только эстетическую сторону вопроса, основывающуюся на том, что подлинная<br />
красота не может состояться вне единства с подлинным добром и поэтому оспаривающее<br />
эту аксиому эстетическое произведение не может быть истинно прекрасным,<br />
а в той или иной степени безобразно. Если определенная мораль или вера могут показаться<br />
смешными в другом аспекте, это не характеризует их как легкомыслие. Только при желании<br />
унизить приверженцев определенного типа морали, или доверчивость приверженцев<br />
определенной веры, мы будем легкомысленными [61]. Выше упоминалось, что в Дахомее<br />
и Бенине каждый получающий подарок от короля — будь он министр или генерал —<br />
должен публично перед ним танцевать. Какими смешными не казались бы эти обычаи<br />
французскому уполномоченному Бонэ, он над ними не смеялся. Когда русские куртизанки<br />
отдаются любовникам, они прикрывают икону Св. Николая, потому что стыдятся его.<br />
Кто бы посмел смеяться над этим выражением религиозной стыдливости, каким бы смешным<br />
оно ни казалось? В таких деликатных областях никогда не помешает осторожность<br />
проявления чувств. Но мы отдаем себе отчет в том, что если захотим отказать комическому<br />
в праве осуждать мораль других наций или прошедших эпох, религиозные проявления<br />
других народов как устаревшие формы воспитания, как смешные противоречия истины<br />
десное как пустоту простого воображения, а как тривиальное и общее то, что обладает<br />
объективной правомерностью считаться народом как нечто достойное и великое.<br />
Необходимо отличить веру людей в существование абсолюта от возникающих по этому<br />
поводу их заблуждений, поскольку люди свободные существа и противоречат чудесному<br />
как такому, что извне навязывает человеку веру в себя. В принципе, люди ни в коем<br />
случае не будут иметь всегда содержанием веры истинный абсолют — они будут отождествлять<br />
истину с собственными заблуждениями, даже обожествляя последние и превращая<br />
их в объект ложной религии. В целом религии обладают различным содержанием, но<br />
их объединяет статус религии вообще и включенность индивида в отношение к абсолюту<br />
— истинный буддист, еврей, магометанин с такой же радостью отдает свою жизнь во имя<br />
веры как и истинный католик, лютеранин, ортодокс и др. Народы отличаются и тем, что<br />
касается особенностей их нравов, но для каждого из них священна собственная мораль.<br />
С точки зрения своей морали дикарь считает себя обязанным предложить гостю дочь или<br />
жену, что с точки зрения других народов считалось бы бесчестием. Нравы одного и того<br />
же народа отличаются также и в разные эпохи и совсем недавно — в XVIII веке — попытка<br />
детей относиться к родителям на равных у нас считалась легкомысленным ущемлением<br />
авторитета последних, но сегодня это явление встречается даже между членами<br />
королевских семей. Поскольку мораль — это форма, в которую облекается воля определенного<br />
народа в его обычаях, в ней народы уважают самих себя и какой бы различной<br />
она ни была у разных наций, обоснованно считается легкомысленным унижение отдельного<br />
индивида только потому, что он родился и вырос в уважении к ее общей необходимости.<br />
Можно также хорошо представить себе конфликт с моралью, с верой определенного<br />
народа, который ни в коей мере не должен быть легкомысленным — напротив,<br />
он может рождаться из самой глубокой нравственности и религиозности, подобно феномену<br />
великих реформаторов. Легкомысленной становится лишь несерьезность, которая<br />
с удовольствием разыгрывает уважение к морали, веру в чудо трактует глупостью, ошибкой<br />
и самообманом.<br />
Игривость (легкомыслие) не представляет собой священную борьбу высокого скептицизма,<br />
рождающегося из самой глубокой искренности души — она представляет собой<br />
нечистоплотное наслаждение деградацией духа, который отдалился от абсолюта, будто<br />
от глупого фантома, максимально удовлетворяясь тем, что случайное и произвольное<br />
предоставляют ему эфемерную жизнь наслаждений. Поэтому с эстетической точки зрения<br />
легкомысленность характеризуется насилием жестокости, при помощи которой она<br />
развлекается в процессе уничтожении толкуемой как ограниченность веры и толкуемой<br />
как заблуждение морали.<br />
Но в перспективе конкретных проявлений признание чего-то легкомысленным будет<br />
нередко усложнено, поскольку в истории духа признание истины в противостоянии ложному<br />
и применение добродетели в конфликте с привилегированными пороками может<br />
породить игривость. Оправданное противостояние добра и истины тривиальности и подмария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
170<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть третья<br />
171
и свободы духа, не только искусство, но и наука должны будут приспособиться к аскетической<br />
жизни монаха. Шуткой часто злоупотребляют низкие лицемеры и изображающие<br />
благочестие глупцы, потому что их тупость видит в живости шутки лишь опасное покушение<br />
на добрые намерения и истинную веру. Если бы все было так, люди бы задохнулись<br />
в застое самой нудной прозы. В этом смысле ничто не приносило столько зла, особенно<br />
признанию поэтическим произведениям искусства, чем отрывочное применение шутки<br />
в отдельных фрагментах текста или использование отрывочных слов. История поэзии<br />
сохранила много примеров, относящиеся к подобным конфликтам, начиная с процессов,<br />
которые были возбуждены Беранже во времена реставрации и в которых Маршан и Шампане<br />
поддерживают обвинение с таким же блеском мысли, с каким, приводя особенно интересные<br />
факты из французской истории баллад, отвечают Дюпэн, Барт и Бервилль. Если<br />
бы перед нами не стояла задача анализа понятия легкомысленности, мы бы рассмотрели это<br />
более глубоко, но оно является лишь моментом некоторой более важной тотальности [62].<br />
Б. ОТВРАТИТЕЛЬНОЕ<br />
ответствии с которой должна была бы выразить себя, форма может быть неправильной,<br />
но не отвратительной. Можно не замечать большие неточности, если они связаны с явлениями<br />
прекрасного в другом аспекте. Неправильное становится отвратительным только<br />
тогда, когда расщепляет тотальность целого, когда обнаруживает тотальное отсутствие<br />
таланта, претензии которого, когда они кажутся невыносимыми, возмущают. Ординарное<br />
становится уродливым, потому что в ничтожности, слабости и низости представляет<br />
отсутствие свободы, которая могла бы преодолеть свои границы, но вместо этого в самодостаточности<br />
бессилия, ничтожности чувственного и грубого смешивается с тривиальностью<br />
случайного и произвольного. Ординарное некрасиво, но это еще не означает, что оно<br />
отвратительно, а его игривость даже пытается покорить посредством очарования чувственного<br />
и при помощи формальной вежливости вынудить высмеивать божественное.<br />
Отвратительное рождается из приятной красоты как негативная реакция на нее. В качестве<br />
позитивного контраста, приятное представляет ту незначительность, которая<br />
может быть обойдена вниманием и составные части которой грациозно реализуются.<br />
В немецком языке ее можно назвать термином niedlich [милый]. То, что незначительно<br />
само по себе — маленький дом, маленькое дерево, короткое стихотворение и т. п., являет<br />
собой не миловидность (niedlich), а такую малость, которая содержит в своих составляющих<br />
грациозность, тонкость и чистоту конфигурации. Какими восхитительными создала<br />
природа некоторые раковины улиток и ракушек! Как приятны цветы и листья некоторых<br />
растений, потому что их малый размер представлен тонкими и красочными формами. Как<br />
милы некоторые попугаи, канарейки, золотистые пескари, болонки, грифы и другие тем,<br />
что эти маленькие существа так по-разному созданы и особенно грациозны в своих составляющих.<br />
В качестве позитивного контраста движения величественного, приятное предстает воплощением<br />
игривого. Как сила величественное проявляет свою бесконечность в созидании<br />
и разрушении больших объектов и можно по праву утверждать, что в абсолютной свободе<br />
своих действий оно играется с собственной силой таким же образом, как теологи и поэты<br />
описывали сотворение мира игрой божественной любви. Величественное в-себе серьезно<br />
и выражение «игра» должно охарактеризовать только абсолютное отсутствие усилия<br />
божественного творения. Игре как простой игре соответствует определенная, лишенная<br />
серьезности цели мобильность, наподобие той, с которой ветер играет тучами, волнами<br />
и цветами. Беспокойство изменения проявляет себя игрой переходом от одной формы<br />
к другой исключительно ради самого изменения. Это всего лишь акцидентальное движение,<br />
которое ничего, по сути, не меняет. Оно предоставляет ногам ленивое удовольствие<br />
передвижения по поверхности бытия, в то время как бытие остается неизменным. Поэтому<br />
процесс игры должен исключать из себя опасность — гнущая и ломающая огромные деревья<br />
в лесу буря включает в свою игру ужасающую серьезность, в то время как теплое<br />
движение воздуха только ласково обволакивает цветы. Огромные волны бушующего моря,<br />
поднимающие корабли до облаков для того, чтобы через следующее мгновение опустить<br />
В связи с изложением последних категориальных детерминаций ординарного, мы были<br />
вынуждены напомнить и о понятии отвратительного как более уродливой по сравнению<br />
с ординарным эстетической формы. Позитивный контраст величественной красоты представлен<br />
приятной красотой. Величественное стремится к бесконечности, в то время как<br />
приятное модулируется в границах конечного. Первое величаво, мощно, возвышенно,<br />
последнее — грациозно, живо, притягательно. Негативный контраст величественному<br />
представлен ординарным, высокому противопоставляется ничтожное, силе — слабость,<br />
а возвышенному — низость. Негативный контраст приятной красоты — это отвратительное,<br />
потому что оно противопоставляет грации — грубость, живости — гнилое и мертвое,<br />
приятному — противное. Случайно встреченная, привлекая всеми осознанно выпяченными<br />
чувственными аспектами, приятная красота призывает к ее созерцанию. Недоступность<br />
величественного поднимает нас над границами обычного и преисполняет восторгом и преклонением.<br />
Очарование приятного побуждает наслаждаться им и нежит чувства. Отвратительное<br />
же отталкивает, поскольку своей грубостью провоцирует неудовольствие, через<br />
умерщвление внушает ужас, а через гнусность — гадливость. Отсутствие меры формы,<br />
симметрического разделения или гармонического ритма некрасиво, но еще не отвратительно.<br />
К примеру, статуя может быть изувечена, а потом отреставрирована. Если же реставрация<br />
не будет удачной, если она внесет в изначальную структуру чуждый элемент,<br />
если размеры частей уже не будут пропорциональными относительно первоначального<br />
произведения, если отреставрированные части слишком сильно будут отличаться от частей<br />
оригинала, в таком случае несоразмерность уже не будет красивой, но может быть<br />
и далекой от того, чтобы быть отвратительной. Она станет таковой только в случае, если<br />
реставрация уничтожит первоначальную идею. Находясь в противоречии с нормой, в сомария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
172<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть третья<br />
173
их в пенящуюся бездну, так же играются с ними, в то время как тихо шепчущая волна пляжа<br />
играется с золотистым песком. Лишенная цели и опасности игра приятна, она кокетничает<br />
с изменением, потому что, производя изменение, сразу же забирает его назад,<br />
с легкостью, как будто ничего и не было. Даже тогда, когда пугает, она производит только<br />
веселье или смех, особенно в таких гротескных маскировках, которые цивилизованные народы<br />
любят не меньше первобытных. Игривость красива, потому что изменением раскрывает<br />
различные аспекты бытия, активность которого не меняет его сущность.<br />
И, наконец, позитивным контрастом величественного возвышенного в контексте приятной<br />
красоты является притягательное (das Reizende). Разумеется, и привлекательное,<br />
и игривое могут быть приятными, но привлекательное как таковое заключается в единстве<br />
грациозности формы и незамутненной игры движения. Можно удивляться тому, с каким<br />
множеством предрассудков настроены многие эстетики против привлекательного.<br />
Часто они относятся к нему с презрением, поскольку из-за своей чувственности привлекательное<br />
могло бы внести в эстетическую составляющую практическое подстрекательство.<br />
Этот упрек несправедлив, поскольку циничной, нечистой душе самая идеальная красота<br />
— даже сама Мадонна — могут казаться подстрекательно привлекательными. Даже<br />
в отношении к природе величественное приглушает чувственное в условиях своей безграничности,<br />
в то время как привлекательное с соблазнительной грациозностью выставляет<br />
чувственную сторону красоты. Но разве это очарование (Reiz) не невинно? Разве чувственное<br />
обязательно тождественно злу? Разве не существует безвредное предвкушение<br />
чувственной красоты? Думается, многие не могут представить себе привлекательное иначе,<br />
чем оно было представлено Делакруа изображением прекрасной обнаженной женщины,<br />
расчесывающей пышные волосы перед туалетным зеркалом, в то время как за ее спиной,<br />
под видом богатого, украшенного роскошными рогами рантье, складывая золотые<br />
монеты, стоит на страже дьявол. Как мерзко отравил художник картину этой сценой! Если<br />
бы он изобразил только красоту этой женщины во всем великолепии обнаженной красоты,<br />
тогда чистые и благородные формы очаровали бы. Но из-за расположенной в глубине<br />
гротескной фигуры, считающейся посредственным вкусом французов виртуозной<br />
аллегорией, он заставляет думать о сладострастном желании, о развращенной невинности<br />
и т. д. Великие художники и скульпторы без каких-либо ограничений изобразили очарование<br />
обнаженных тел, сохранив при этом непорочными. Но в то же время они сумели<br />
так изобразить чувственное, что очевидность превосходства духа сохранялась. К примеру,<br />
Тициан Вечелло написал Филиппа II и его возлюбленную отдыхающими на диване обнаженными.<br />
Филипп II нарисован со спины, сидящим на краю дивана, и вся сцена направлена<br />
вглубь к красивому пейзажу. Но как художник изобразил влюбленных? Музыцирующий<br />
король играет на гитаре, нежно оглядываясь на свою возлюбленную, чтобы она<br />
вступила, в то время как, роняя на подушку ноты, его любимая поднимает флейту. Эта<br />
картина бесконечно привлекательна, но ее свободное, открытое очарование не внушает<br />
ни одного плотского желания, потому что изображенная здесь так благородно чувственмария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
174<br />
ная сторона красоты остается все же подчиненной душе и чувствам влюбленных. Если в<br />
стремлении подчинить наше восприятие чувственность становится преобладающей тенденцией,<br />
простота привлекательности аннулируется, и некоторые произведения, особенно<br />
в современной французской живописи, заставляют опасаться озабоченности такой<br />
тенденцией. К примеру, картиной такого рода является знаменитая «Одалиска» Ж. О. Д.<br />
Энгра. Красота тела отличается такой же неподражаемостью, как и ее художественная<br />
реализация, но вся ситуация дышит чувственностью. Закрытое, узкое помещение, подушки<br />
и шелковые занавески, никакой внешней, обращенной к свободной природе перспективы.<br />
На ковре, возле софы, на которой лениво вытянулась красавица с гибким телом и нежной<br />
кожей, поднесены слойки, печенье, бокалы; напротив — к стене прислонена опиумная<br />
люлька. Гаремная Венера курила! Ингрес может сказать, что он это все нарисовал,<br />
дотошно соблюдая восточные нравы. Безусловно, но это не спасает от впечатления давления<br />
и тяжести, порожденное тем, что на картине изображена рабыня, а не свободная<br />
красота. Эта одалиска всего лишь плененная красивая дикость — если она что-то делает<br />
(потому что обычно она ничего не делает), так ест, пьет и курит. Как прекрасна и одухотворена<br />
флейта в руке возлюбленной Филиппа на фоне этой опиумной люльки!<br />
Как одна из необходимых форм прекрасного привлекательность переплетается с остальными<br />
формами и развивается разными степенями — причина, по которой расширяется<br />
использование слова грации (Reiz), а также миловидности и игривости (reizend). Но,<br />
выражаясь точнее, привлекательность узнается только там, где чувственный фактор красоты<br />
преобладает, то есть в противоположном значении случая, когда возвышенный<br />
характер величия усиливается тем больше, чем больше обращается к глубинам души, к абсолютной<br />
свободе, что является причиной того, почему мы считаем весну, молодость,<br />
женщину привлекательнее осени, старости и мужчины. Привлекательность стремится<br />
к усилению чувственной энергии, разнообразия и особенно контраста, как в случае<br />
статуи из белого мрамора, которая особенно привлекательна на фоне зеленого сада. Поэтому<br />
и укрытие некоторой формы прозрачной тканью способно усилить привлекательность<br />
в той мере, в какой фактом укрытия пробуждает особый интерес к предмету. Древние<br />
романские поэты замечали в своих поэмах, что убегающая от нас красавица выглядит<br />
намного привлекательней.<br />
Негативным контрастом приятной красоты является безвкусие, а именно: 1) как отрицание<br />
миловидности под видом грубости; 2) как отрицание игривости и живости под<br />
видом пустого и мертвого; 3) как отрицание привлекательности — противным, отталкивающим.<br />
Грубое предстает отсутствием некоторой органической целостности, ее недостаточной<br />
развитостью, частичной красотой; мертвое (das Todte) — отсутствием движения<br />
и саморазличения существования; противное — успешным уничтожением жизни через<br />
уродливую форму отрицания. В аспекте возвышенного грубое противоположно величественному;<br />
мертвое и пустое противостоит силе, а противное — высокому. Благородство<br />
возвышенного исключает все, что является ординарным, в то время как в безвкусице оркарл<br />
розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть третья<br />
175
динарное реализует себя. Возвышенное преобразовывает конечное в идеальность своей<br />
бесконечности, в то время как безвкусица утопает в грязи конечного; своей божественной<br />
силой возвышенное укрепляет нас до героизма, в то время как своей деформированностью<br />
и слабостью безвкусие истощает до состояния ипохондрии.<br />
I. Грубое<br />
который элемент дает возможность увидеть, каким образом разворачивается в нем тонкость<br />
формы, легкость и даже элегантность движения, тем более отталкивающими покажутся<br />
грубость и неотесанность, которые займут их место. Это случай смешного и забавного.<br />
Грубая шутка, издевательство уродливы, потому что самому их принципу игры души<br />
не свойственна легкость. К примеру, посредством такой грубости проявляет себя ординарный<br />
характер Морлофа.<br />
Грубость часто называют и «деревенщиной». Но было бы большой ошибкой, если бы<br />
мы отождествляли их. Феномен «деревенского» может быть мощным, жестким, но не<br />
обязательно неотесанным явлением. На лестнице социальной иерархии аристократия любого<br />
уровня будет считать манеры подчиненных социальных слоев грубыми и неловкими.<br />
Но в своем генезисе крестьянин равен сельскому аристократу. Там, где мы встречаем его<br />
как свободного собственника земли, в своих привычках и манерах он проявляет себя<br />
мощно, как сила природы, но ни в коей мере грубым — напротив, осознающим свою силу,<br />
свое богатство, преисполненный естественным благородством, как это можно заметить<br />
по крестьянам Норвегии, Северной Германии, Балтийских стран, Вестфалии или Швеции.<br />
А также крестьян из Холстейна, как их написал Босс в своих идиллиях, или из Вестфалии,<br />
как их представляет Иммерман в «Мюнхгаузене». Оказывающий сопротивление даже<br />
сабле Карла Великого, провинциальный бургомистр Иммермана преисполнен мужским<br />
благородством, а его дочь Лисбет воплощает полноту грациозности и скромной тонкости<br />
сельской девушки, которая, несмотря на то, что умеет работать с граблями, доить корову,<br />
шить, прясть и готовить пищу, не разрушает этими формами труда благородство своего<br />
характера и тонкость поведения. Писатель правомерно подчеркивает, что бургомистр<br />
хочет сделать все в согласии «с манерами», то есть, соблюдая единство вытекающих<br />
из природы вещей нравственных принципов и ритма хорошего поведения. Жорж Санд<br />
очень точно описала характер поведения и образа жизни крестьян в таких произведениях<br />
как «Meunier d’Angibault», «Жан», «Грех господина Антония» и др. Неотесанность<br />
есть игнорирование манер. В контрасте с горожанином с его оборотистой гибкостью,<br />
с изощренностью городского образа жизни крестьянин может быть назван деревенщиной,<br />
грубым. Но с эстетической точки зрения его образ стал восприниматься как<br />
отталкивающий только тогда, когда феодальная аристократия подвергла его крайней<br />
эксплуатации, всасывая из него кровь посредством утрированных способов, когда своим<br />
жестоким и грубым поведением она выработала у крестьян жесткость и грубость, а своими<br />
высокомерием и снобизмом отдалила их от себя. Так сформировалось упрямство<br />
крестьянина, осмеянного как ограниченный и неловкий, деревенский, а благородное имя<br />
крестьянина как человека, который засевает руками землю Бога и этим благородным занятием<br />
создает основу гражданского общества, стало ругательным, особенно в лексиконе<br />
дворян с мезонином и в устах финансовой аристократии. Таким образом, в той степени,<br />
в какой понятие «крестьянин» связывается с понятием ординарного, необходимо<br />
обращаться к его первоначальному значению.<br />
В силу своей малости, миловидное нравится благодаря своей деликатности; грубость —<br />
это то, что не нравится из-за неоформленности своей объемности. Поскольку миловидное<br />
является тонким в каждой своей части, мы называем его и изысканным (Fine) и точно так<br />
же как грубое, по причине отсутствия развития разнообразия, называется неотесанностью<br />
(das Grobe). Таким образом, грубое не лишено формы, но оно обладает неудачной<br />
формой, в которой преобладает масса. Оно может двигаться, но его движения тяжеловесны<br />
и неловки. Толстый кряж ивы с кривыми и лишенными четкой структуры ветвями, выглядит<br />
грубо. Крокодил, гиппопотам, морской лев, ленивец и др. являются животными,<br />
движения которых грубы, поскольку их масса не обладает разнообразием и эластичностью.<br />
Но не величина массы и не простота формы являются причиной аспекта грубости,<br />
а пропорция и деформация. Египетская пирамида представляет собой большую массу<br />
с предельно простой формой, но в ней отсутствует какой-либо грубый аспект — напротив,<br />
по причине конструкции, иммитирующей земной шар и тяжеловесных пропорций азиатские<br />
дагопы (или ступы) являются грубыми. Кабириены божества с их раздутыми животами,<br />
короткими и толстыми ногами, отсутствием шеи и скрюченными позами грубы. Силе<br />
здесь угрожает опасность стать грубой через проявления собственной энергии, как это<br />
случилось в пластическом искусстве с Геркулесом и Силеном. Тираничное, напористое<br />
(das Derbe) пребывают в границах грубого, как это часто встречается у Рубенса. На фоне<br />
внушительных статуй его героев необходимо было, чтобы и женским силуэтам придавалось<br />
нечто фламандское — широкая спина, большая грудь, широкие бедра, полные плечи<br />
и руки, сохраняя во всем этом избытке форм некоторую откровенность жизни, структурированность,<br />
грациозность и нервное давление, не позволяющие грубости четко проявить<br />
себя. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнения с Мартином де Босом, в изображенных<br />
телах которого выпяченная избыточность телесности настолько скрывает какую-либо<br />
артикуляцию, что пропорции предстают раздавленными и тяжеловесными.<br />
Как форма движения грубость зависит прежде всего от своей тяжеловесной формы.<br />
Со стороны крокодила, гиппопотама, северного медведя и просто неотесанного дурачка<br />
можно ожидать только неуклюжие грубые движения. Но даже прекрасная, грациозная<br />
в себе целостность может породить грубое движение, которое тем безобразнее покажется,<br />
чем больше противоречит этой целостности; и. напротив, как грациозное движение<br />
определенной грубой массы, например, танцующего на веревке слона, с необходимостью<br />
должно растворить впечатление, порожденное этим грубым существом. Чем больше немария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
176<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть третья<br />
177
В этом смысле уже констатировалось, в какой степени отсутствие манер становится<br />
смешным как бурлеск и гротеск. Грубость представляет собой важное звено низменного<br />
комического, и все же, для того, чтобы неловкость большого тела и несогласованность<br />
его движений оставались комическими, они должны сохраняться в определенных пределах,<br />
то есть не должны становиться грубыми. Наши дети впервые познают комический<br />
контраст между легкостью и тяжеловесностью на улице, созерцая контраст обезьяны<br />
и медведя. Как смешно ребенку, когда, поднимаясь на передние лапы, огромный дикий<br />
зверь катается на палке, как это делают и они сами, или когда, наподобие слуг, медведь<br />
несет ведра с водой на ужасном коромысле! И, в качестве контраста, какой умной и деликатной<br />
кажется одетая в красную жилетку обезьяна, бьющая дробь на спине медведя, чистящая<br />
орехи или стреляющая из игрушечного ружья! Комики всегда пользовались контрастами<br />
грубого и грациозного. В контексте переходных общественных периодов они<br />
постоянно противопоставляли провинциала или маленького горожанина жителю столицы<br />
или больших городов, мелкого буржуа — крупному, новобранца — опытному солдату,<br />
подчиненного служащего — его начальникам и т. п. По меньшей мере, из-за концентрации<br />
всей их культуры в Париже, у французов провинциал играет роль стереотипной комической<br />
фигуры всевозможных вариантов. В своих комедиях Аристофан еще сильнее<br />
подчеркнул грубость трибарцев и лаконцев 1 , заставляя их разговаривать на диалекте, который<br />
сильно контрастировал с рафинированностью атического языка. Опирающиеся на<br />
выразительность мимики типы искусства находят в грубости средство, обеспечивающее<br />
эффект. В «Ифигении в Тавриде» К. В. Глюка танец скифов представлен по сравнению<br />
с греками несравнимо эффектней. Как в мелодии, так и в оркестрованной части этого танца<br />
Глюк гениально представил беспокойный, внушительный, неопределенный характер<br />
мощной естественной энергии этого варварского народа. Цирковые акробаты и наездники<br />
часто прибегают к грубости в роли гротескной маски для того, чтобы, посредством<br />
вносимого ею легкости движения, неожиданность была бы еще большей. Профессиональные<br />
наездники вначале изображают неловкость, неспособность овладеть искусством<br />
езды на коне. Но, очутившись на спине лошади, они демонстрируют эталоны смелости<br />
и акробатической ловкости.<br />
II. Мертвое и пустое (Das Todte und Leere)<br />
Жизни противостоит смерть и в аспекте проявлений жизни ясность игры контрастирует<br />
с серьезностью деятельности. С эстетической точки зрения бесконечной живости<br />
игривости противостоит мертвое и пустое как выражение отсутствия жизни и свободного<br />
движения.<br />
То, что мертво еще не безобразно, — даже напротив, смерть может придать умершему<br />
1 Лакония — древняя область на юго-востоке Пелопоннеса.<br />
человеку красоту черт. Сквозь наложенные страданием морщины на лице, сквозь следы<br />
борьбы еще раз проглянут детские черты лица умершего. Даже последний выдох, хотя он<br />
являет собой переход к смерти, еще не безобразен. В своей работе «Как древние греки<br />
изображали смерть» Лессинг справедливо замечал: «Быть мертвым не страшно, и в той<br />
степени, в какой умереть означает лишь делать шаг в смерть, умирание не может быть<br />
страшным. Только конкретная смерть, только сейчас, этим образом, не знаю по чьей воле,<br />
может стать и становится ужасной. Но разве смерть как таковая, сам факт умирания<br />
не является в этом случае тем, что спровоцировало ужас? Ни в коей мере — смерть является<br />
лишь желанным концом и освобождением от всех этих страхов, и только бедность<br />
языка виновата, если мы называем эти состояния, то, что непосредственно приводит<br />
к смерти и саму смерть одним и тем же словом». Как дальше показывает Лессинг, греки<br />
различали печальную необходимость умереть и саму смерть. Первая изображалась ужасной<br />
женщиной, с изъеденными зубами и костлявыми когтистыми руками, вторая — дерзким<br />
гением, сестрой сна, гасящей почти догоревшую свечу. Но они изобразили застывший<br />
взгляд смерти и при помощи отрубленной головы мыслящей Медузы. Выше, в другом контексте,<br />
мы относили медузу к формам, при помощи которых греки трансформировали<br />
ужасное как таковое в самую благородную красоту. Эта внушительная голова с мощно<br />
выделенными, содрогающимися от спазмов губами, с твердым подбородком, с напоминающим<br />
лоб Зевса, только чуть зауженным лбом, с клубком змей вместо волос, — эта<br />
мертвая голова источает жажду уничтожения и убийства. Более поздний образ медузы<br />
удачно сочетает силу черт со странной меланхолией. В одном из своих изображений,<br />
во второй тетради каталога фресок В. Тернайт воспроизвел Медузу, с точностью соблюдя<br />
ее первоначальный цвет, серые, зеленые тона, когда внушительность мертвой головы<br />
производит самое сильное впечатление; при соблюдении полноты психологической правды<br />
и масштабности характера концепции, ужасное все же приглушается, вплоть до превращения<br />
в радостное.<br />
В этом направлении христианское искусство пошло еще дальше, поскольку оно понимает<br />
подлинную жизнь как такую, что оправдана смертью. Человек как творение Бога,<br />
возрождающийся через смерть к вечной жизни, становится центральной фигурой. Несмотря<br />
на подлинность смерти, тело Христа излучает бессмертную душу, которая одухотворяет<br />
и в будущем возродит его. Эти закрытые глаза откроются вновь, эти бледные,<br />
мягкие губы оживут, эти окаменевшие руки снова поднимутся в жесте благословения<br />
и надломят жизненные хлеба. Художник, скульптор должны сделать воспринимаемой<br />
эту возможность, но не как заключенную в неодушевленном теле жизнь, поскольку в таком<br />
случае имело бы место только видимая смерть, а как чудо, которое существует исключительно<br />
в этом мертвом теле; несомненно, это самая сложная из задач пластического<br />
искусства в целом, которую способны реализовать только наиболее великие. Безусловно,<br />
вера не имеет ничего общего с этими эстетическими постулатами и на более низком<br />
уровне культуры она может удовлетвориться даже откровенно грубым выражением<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
178<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть третья<br />
179
смерти Христа; именно через этот ужасающий аспект и через противоречие, содержащееся<br />
в идее познания Бога в этом образе — изуродованное, покрытое ранами и отмеченное<br />
страданием тело — в эмоциональном отношении он массами будет восприниматься сильнее.<br />
Как известно, чудодейственными считаются не эстетически совершенные произведения<br />
искусства, а совершенно примитивные, откровенно безобразные, но, благодаря своим<br />
кричащим формам, обладающие магической силой притяжения страдающих от предрассудков<br />
обывателей. Типология умирающего и мертвого Христа была, конечно, распространена<br />
и на изображение Марии и остальных святых. Рождающаяся из смерти жизнь<br />
всегда является центральной идеей, в точности противоположной мертвому взгляду<br />
Медузы, которую, как видно на многих помпейских фресках, Персей посмел показать<br />
Андромеде только в зеркале воды.<br />
Впрочем, персонификация смерти как скелета с безжалостно косой — это христианская<br />
метаморфоза старого Кроноса и она не является уродливой. Человеческий скелет<br />
красив. Лишь сопровождающие изображения неизбежности смерти, мрака могилы, гниения,<br />
судилища придают ей традиционное веяние ужаса. Скелет кажется безобразным<br />
только в сравнении с цветением жизни. Поэтому на картинах с тематикой Танцев мертвых<br />
при помощи особенно живой индивидуализации художники изображали и смерть<br />
как разрушающую жизнь силу. Пафос разрушения соединяет голые кости с той непобедимой<br />
силой, которая, вынуждая ее к смерти [63], пронизывает жизнь на всех ее стадиях,<br />
во всех возрастах и во всех ситуациях. Эта идея не позволяет смерти возникать самостоятельно,<br />
а только в противопоставлении себя разнообразию жизни, в борьбе с которой<br />
она достигает ужасающую красоту.<br />
Во всех этих случаях речь идет не о той смерти и пустоте, имеющиеся здесь в виду в той<br />
степени, в которой они воплощают абстрактное отрицание жизни, и в игре которых отсутствует<br />
всякая жизненная необходимость. Во всем том, что является становлением,<br />
в любом превращении, во всякой борьбе присутствует нечто притягательное. Но только<br />
тогда, когда жизнь начинается во всей своей радостности и отсутствии инстинктивной<br />
цели, проглядывает жизнедеятельная, плотоядно самолюбивая смерть. Когда задорная<br />
вода катится по камням, когда свой аромат распространяют в тишине цветы, а бабочки<br />
кружатся вокруг колыхаемых ветром чашечек, когда ласточка дает о себе весть с конька<br />
крыши, когда голуби без устали описывают четкие круги в голубом небе, когда собаки<br />
весело резвятся на зеленой поляне, когда девочки бросают мячик, а мальчики меряются<br />
силами в борьбе, когда девы и юноши выражают восторженность в песне или танце — тогда<br />
жизнь созерцает саму себя в буйстве светлой игры. И, как контраст, какими печальными<br />
и уродливым предстают высыхающие речки, болото застывшей воды, запыленная,<br />
опаленная солнцем равнина, серое небо, немая пустыня, механический труд фабричных<br />
рабочих или, нарушаемая только стонами больных, тишина больницы!<br />
В своем безобразном аспекте смерть заключается в отсутствии самодетерминации, которая<br />
разворачивается через большую вариативность разнообразных форм. И это может<br />
происходить по-разному. Иногда посредством того, что план некоторого произведения<br />
может соответствовать ему, но его конкретная реализация плоска и безжизненна, как это<br />
случается, когда великий гений начал произведение, а впоследствии оно было закончено<br />
менее талантливым художником. Здесь общий план верен, но его воплощение не соответствует<br />
великому замыслу и не трогает, как в случае пьесы Шиллера «Деметра» в ее завершении<br />
Малтицем. Или же сама концепция устарела, пытаясь при этом скрыть свою внутреннюю<br />
нищету внешним блеском осуществления. Контраст мертвого, безжизненного характера<br />
первоначального замысла и лоска внешнего приукрашивания только усиливает<br />
впечатление пустоты, как в случае деформации Бернини придуманной Палладио архитектурной<br />
колонны, когда выпячивание орнамента не смогло скрыть утрату первоначальной<br />
архитектонической идеи. Или вспомним бесконечные когорты эпопей, которые бормочут<br />
в гекзаметрах, изображенные в плоских или нибелунгических строфах самые дурацкие<br />
события, наподобие «Генриха-льва» Кунце [64] или «Наоиды» Бюдмера, в которой комета<br />
пролетает так близко от земли, что приводит к подъему водного океана. Как много воды,<br />
как много разных несчастий, какое накопление глупых гекзаметров — и какая перенасыщенность<br />
поэтического вида! Или подумаем о множестве веселых песен, которые<br />
до бесконечности повторяют призыв пить и петь, петь и пить; о тривиальных, полных<br />
несообразностей мелодрамах, нищенствующий пафос которых прекратился бы сразу, если<br />
можно было бросить несчастным со сцены десять талеров; о лишенных соли комедиях,<br />
в которых пустяковая идея повторяется до полного изнеможения зрителей. Как они все<br />
мертвы и пусты!<br />
И, наконец, омертвение (Nekrose) может заключаться как в аморфности, так и в отсутствии<br />
содержания. Или, точнее говоря, мертвый характер концепции в отвратительной<br />
гармонии может слиться с мертвым характером реализации. Это случай многих аллегорических<br />
произведений, пытающиеся восполнить отсутствие оригинальной поэтической<br />
концепции посредством персонификации пороков и достоинств, искусств и наук — посредством<br />
вымученной символики, к которой, за исключением отдельных фрагментов, относится,<br />
в частности, такой любимый в средневековой Франции Роман о розе [65]. К этой<br />
категории относятся также и многочисленные произведения, превращающие искусство<br />
в средство выражения только определенной тенденции. Мы ни в коей мере не осуждаем<br />
тенденцию как таковую, потому что художник не может отклониться от современных ему<br />
направлений — направления содержат в себе идеи, но они не должны отождествляться<br />
с мертвой догмой отдельной партии. К примеру, современная тенденция посредством<br />
соответствующего воспитания устанавливать изнутри контраст между аристократией<br />
и демократией во всех свойственных им формах породили два самых удачных романа:<br />
«Ангелочек» Пруста и «Рыцари духа» Гейста и Гуцкова. Но эти авторы обрели громкий<br />
успех только потому, что смогли подняться от тенденции к идеалу. Если же тенденция деградирует<br />
до уровня исключительной частности, то ее прозаическая цель в таком случае<br />
уничтожает всякую поэзию. В этом узком смысле тенденция имеет те же последствия, что<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
180<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть третья<br />
181
и мания употребления аллегорий. Еще в начале замысла форма отдана в жертву идее, которая<br />
должна одержать победу, или, напротив, должна была быть побежденной впоследствии.<br />
Как в случае многих скульптур или картин, мертворожденные форма или содержание<br />
могут еще быть следствием академического склероза, насильственного присвоения<br />
исчерпанных моделей. Поэтому, вместо того, чтобы стать произведениями искусства, они<br />
остаются простыми изделиями. Выражения таких академических форм производят впечатление<br />
простых имитаций. Но и музыка, и поэзия дают повод для подобных замечаний,<br />
когда посредственно-эпигонические, бессильные в-себе силы, проституируют свое бессилие<br />
в бесплодных повторах внутренне пустой и внешне неудачно представленной идеи.<br />
То, что вначале было игрой свежести жизни, в копии имитатора становится мертвым,<br />
голым и внушающим скуку стерильно-эклектическим изделием. Живое вдохновение рождается<br />
из волшебного источника и развивается подобно веселому гомону горного ручья,<br />
а имитация молчалива как вода, растекающаяся по разветвленным водостокам. Изобретатель<br />
вдохновляется откровением идеи, имитатор — только энтузиазмом. Если имитатор<br />
при этом еще и дилетант, то в таком случае актуализируются феномены, о которых<br />
шла речь при анализе точности. Творческий гений вдохновляется мощью идеи с такой<br />
свободой, которая тождественна необходимости и во имя которой посредством новизны,<br />
величины и дерзости своей композиции он противостоит эмпирической нормальности и<br />
правилам техники. Удовлетворяющийся своим произведением, которое становится для<br />
имитатора эмпирическим идеалом, суррогатом идеи, не способен вдохновляться подлинным<br />
созидающим пафосом, даже если заблуждается относительно его наличия. При отсутствии<br />
индивидуальности имитация преувеличивает не только ошибки оригинала,<br />
но и его качества, из-за отсутствия меры последние снова превращает в ошибки. Именно<br />
по этим причинам окончательно истребляется даже остаток жизни, которая еще проглядывала<br />
из первоначального изображения.<br />
Таким же образом, каким, в зависимости от ее различных аспектов, мы по-разному определяем<br />
жизнь, для определения мертвого используются различные имена: пустое, гнилое,<br />
бесплодное, сухое, опустошенное, ледяное, холодное, жесткое, дешевое, бесчувственное,<br />
апатичное, сочетая эти синонимы в характеристике отвратительного.<br />
Мертвое может трансформироваться в комическое через скучное. По причине отсутствия<br />
их свободного саморазличения и спонтанного развития мертвое, пустое, холодное<br />
становятся неинтересными, скучными. Скучное безобразно, или, точнее говоря, уродство<br />
мертвых, пустых, тавтологичных существованию аспектов вызывают чувство скуки. Прекрасное<br />
вынуждает забывать о времени, поскольку, благодаря своей самодостаточной<br />
бесконечности, переводит и нас в вечность и переполняет счастьем. Если опустошенность<br />
некоторого созерцания становится настолько объемлющей, что время привлекает к себе<br />
внимание как время, тогда мы воспринимаем отсутствие содержания чистого времени,<br />
и это составляет чувство скуки. Само по себе, это явление отнюдь не комично, а является<br />
только переходным моментом к комическому — к примеру, тогда, когда тавтологическое<br />
и скучное производятся как пародия и ирония на себя самих. Одна из таких ужасающих<br />
баллад сочинена только из следующих строк:<br />
Эдуард и Кюнигунд,<br />
Кюнигунд, Эдуард;<br />
Эдуард и Кюнигунд,<br />
Кюнигунд, Эдуард!<br />
III. Гнусное<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
182<br />
Если прекрасное сочетает притягательность тонкой формы с грациозной игрой движения,<br />
оно становится очаровательным. Нет необходимости в том, чтобы эта игра была<br />
бурной — она может быть абсолютно спокойной, но должна передавать одухотворенное<br />
выражение свободы жизни. Вспомним как изображали в античности или Тацианом,<br />
К. Нетшером, Рубенсом заснувших нимф — их сон совершенно иное, чем смерть. Полнота<br />
жизни вибрирует в нежной коже и дрожащих ресницах даже спящей нимфы. В этой<br />
игре жизни грациозная форма становится очаровательной. Если прекратить эту игру,<br />
мертвая форма не перестанет быть грациозной, потому что вначале ее пропорции не изменятся,<br />
но также нельзя уже будет утверждать, что она привлекательна. Декамп написал<br />
лежащее на диване в мансарде мертвое тело красивой молодой женщины, она укрыта<br />
только прозрачной тканью, через которую видны ее благородные формы. Никто в этом<br />
случае не будет говорить об очаровании, потому что оно свойственно лишь живым формам.<br />
Или же, если предположить, что форма безобразна, то в таком случае ее также нельзя<br />
считать притягательной. Старая женщина, anus libidinosa, как говорит Гораций, также<br />
дышит во сне, также ритмически движется ее старая грудь и т.п., но тем уродливее от этого<br />
она будут выглядеть. Но притягательное предполагает и грацию формы, потому что<br />
если представить себе возвышенную красоту, тогда сила ее составляющих и строгость<br />
форм будут обладать скорее чем-то холодным, чем чарующим, что в античности было выражено<br />
мифом о Гере, которая, с целью внушить Зевсу любовь, должна была одолжить<br />
у Афродиты излучающий грацию пояс.<br />
Притягательному противостоит отталкивающее как деформация, которая в своем<br />
уродливом движении снова и снова производит новые деформации и диссонансы. Противное<br />
не держит нас на определенной дистанции, наподобие возвышенному, а вызывает<br />
отвращение. Не приносит удовольствие через абсолютное единение в глубине нашей<br />
души, наподобие совершенной красоте, а, напротив, вызывает самый глубокий разрыв.<br />
Противное относится к тому уродству, от которого искусство никоим образом не может<br />
избавиться, поскольку оно не может отказаться от изображения зла и не может двигаться<br />
в аспекте определенной трактовки ограниченного и ускользающего мира, целью которого<br />
было бы исключительное стремление к приятному развлечению. Таким образом,<br />
противное это: 1) идеальный способ проявления нелепости (das Abgeschmackte), отрицакарл<br />
розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть третья<br />
183
ние идеи посредством отсутствия какого-либо смысла; 2) реальная модальность отвратительного,<br />
отрицание красоты как чувственного явления идеи; 3) идеальная модальность<br />
зла, отрицание как содержания идеи истины и добра, так и реальности этого содержания,<br />
материализованного в красоте явления. Как позитивное, абсолютное отсутствие идеи зло<br />
является кульминацией гнусности. Искусство может использовать все эти формы безобразного,<br />
но только при определенных условиях. Общие условия были описаны во введении<br />
— без них изображение безобразного непозволительно ни в коей мере. Таким образом,<br />
гнусное (противное, отталкивающее) никогда не может быть самоцелью и не может<br />
быть изолировано, а его подчеркивание возможно в соответствии с требованиями необходимости<br />
изображения свободы в ее тотальности и в конечном итоге должно также<br />
перетерпеть момент идеализации, как, в общем-то, и любой феномен. Рассмотрим все же,<br />
в чем заключаются особенные условия его эстетических возможностей.<br />
а. Абсурд, нелепость (das Abgeschmackte). Гнусное как таковое противостоит разуму<br />
и свободе. В своем абсурдном значении оно облекает это противоречие в форму, которая<br />
посредством немотивированного отрицания, прежде всего закона и воображения,<br />
изначально оскорбляет разум отсутствием требуемой последовательности. Пресность,<br />
абсурд, несообразность, парадоксальность, бессмысленность, тупость, экстравагантность<br />
или, как бы мы его не называли, представляют идеальную сторону противного, теоретический<br />
субстрат, абстракция его внутреннего эстетического дуализма. Абсурдно<br />
не противоречие вообще, поскольку, как видно было из раскрытия природы контраста,<br />
оно может быть обоснованным. Добро по праву противостоит злу, истина — лжи, красота<br />
— уродству. Но абсурд выражает себя посредством самоотрицания противоречия<br />
in adjecto. Логика различает противоречие (Widerspruch) и противоположное (Widerstreit),<br />
запирательство (Widerstreit) таким образом, что противоречие должно быть лишь<br />
простым, необусловленным отрицанием предикатом субъекта суждения, а оппозиция,<br />
напротив, предстает положительным отрицанием некоторого предиката посредством того,<br />
что противоречит его имманентной природе. Такое противоречие и такая оппозиция<br />
не являются абсурдными, а представляют собой только такой тип противоречия, в котором<br />
сам субъект отрицается его предикатом, как, например, когда утверждается, что<br />
белое — черное, зло является добром и т.д. Во всяком случае, это само по себе справедливое<br />
требование разума не является абсолютным, потому что крайности могут иногда<br />
переходить друг в друга, как в случае, когда хозяйка плачется, что домашнее белье потемнело;<br />
как и в случае, когда из-за абстрактного упрямства в выражении добра юстиция<br />
становится жестокой и поэтому злой; подобно тому, как посредством соответствующей<br />
трактовки в контексте некоторой эстетической целостности безобразное может получить<br />
значение красоты — не уродливой красоты, а уродства, которое стало красотой, и т. п.<br />
Согласно общему мнению, многие вещи абсурдны, в то время как они скорее выражают<br />
здравомыслие. Чтобы с точностью понимать границы абсурда и его сращивание с комическим,<br />
необходимо быть внимательными к этой диалектике конечного.<br />
Уже из сказанного вытекает, что тотальный, лишенный глубокой мотивированности<br />
нонсенс, что чистый хаос случайных контрастов совершенно недопустим в искусстве. Кого,<br />
кроме психиатра, это может еще интересовать? И все же нельзя отрицать факт, что<br />
большая часть поэтической литературы нашего столетия попадает именно под эту категорию,<br />
будучи ближе к психиатрии, чем к эстетике. Как вследствие реакции с ее предрассудками<br />
и ограниченностью, так и вследствие революции с ее атеизмом и вольностями в<br />
Англии, Франции и Германии появилось немало произведений, в том числе и романов, которые<br />
не заслуживают считаться произведениями искусства, а, как симптомы эпохи, могут<br />
рассматриваться исключительно в перспективе политики и психологии. Разрывая логическую<br />
последовательность и торжество идей неуравновешенность восставших душ<br />
привела к конфузу, так что Могер не постеснялся ввести в своей «Истории современной<br />
французской литературы» (1839, т. 2, стр. 374) понятие безумных романов.<br />
Вот почему нельзя отождествлять абсолютную непостижимость этого логореического<br />
абсурда с противоречием, которое в аспекте фантастического противоречит разуму только<br />
потому, что в своей игре с границами конечного оно все же должно изображать содержание<br />
идеи. К этой категории относится чудо, отрицающее закон объективной причинности<br />
с целью выразить в фантастической форме высокую идею свободы духа от природы.<br />
Подлинное чудо отличается своим бесконечным этико-религиозным характером, в то<br />
время как ложное чудо абсолютизирует бессмысленность как таковую, абсурдность саму<br />
по себе. Примеры этих особенностей находим в античной и индийской мифологии. Тауматические<br />
1 моменты античных мифов всегда связаны с самыми глубокими идеями, настолько,<br />
что стали самыми красивыми и универсальными символами человечества, в то<br />
время как индийские мифы выражают себя посредством образов, перегруженных абсурдными<br />
цепляющимися растениями, для того, чтобы смысл, сколько он существует в некотором<br />
воображении, мог бы еще постигаться. Такое же различие существует и между<br />
чудесами, о которых узнаем из канонических и апокрифических евангелий и которые<br />
более или менее абсурдны. Эту двойную направленность можно встретить и в легендах.<br />
Чудо из поэзии сказок совершенно теряется в чудесном и приключенческом, достигая<br />
в своих деталях даже тотальность абсурда, но столько времени, сколько оно еще содержит<br />
в себе подлинное поэтическое содержание, столько времени сохранит за собой и элемент<br />
чуда как символическую правду, которую в главе о неточности приходилось причислять<br />
к нему. Это символическое отражение идеи в детской фантазии подлинной сказкой<br />
сохраняется в немодифицированном единстве с великими силами природы и нравственности,<br />
в то время как состряпанные современными дидактическими писателями сказки<br />
отдаляются от этих сил, находя их в инфантилизме. Чем абсурднее, считают эти разрушители<br />
вкуса молодых, тем поэтичнее. Из этой безграничной фантазии, которую каллогофманское<br />
направление довело до крайности, исчез даже след истинной причинности,<br />
1 От Thautmathologie — теория чудес.<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
184<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть третья<br />
185
разом, чтобы в бессвязном бормотании безумца отражалась подавленность мощных противоречий,<br />
которым подчинен человек. Ужасает не только неуравновешенность, которую<br />
созерцаем в проявлениях безумства, а и породившие ее силы. Лессинг говорил, что тот,<br />
кто при определенных обстоятельствах не теряет разум, не имел что терять. Но он говорил<br />
не о разуме (Vernunft), но дал понять, что предельно закономерно, будто при определенных<br />
обстоятельствах можно потерять рассудок (Verstand) и, соответственно, распадается<br />
интеллект, неспособный постичь ужас, превосходящий способность понимания.<br />
Небытие разума в конкретном случае проявляет себя так, что именно разум как отсутствие<br />
разума, как нонсенс (Unvernuft) стремит интеллект к безумию. «Определенные обстоятельства»<br />
— что иного мог понимать Лессинг под этой формулировкой, кроме существования<br />
противоречий, которые в явлении разрушают даже реальность идеи? Только<br />
в видимости, потому что искусство должно последовательно придерживаться истинности<br />
идеи и даже в разорванном бормотании безумца представлять ее положительное основание<br />
— то, что Шекспир называет методом безумия. Оно должно выделять родство безумства<br />
и гения, с такой точностью описанное Шопенгауэром [66]. Следовательно, с эстетической<br />
точки зрения необходимо приложить усилия, чтобы в диких проявлениях<br />
сумасшедшего просачивалась хотя бы малость идеи — чтобы в неоконченных, лишенных<br />
смысла и порядка фразах, в эллиптических междометиях или в странном поведении безумия<br />
разум еще раскрывал себя собственной карикатурой, оставаясь атрибутом даже<br />
отчужденного несчастного. Абсурд безумия, который обусловлен соматическим, апоплексическим,<br />
церебральным или другими расстройствами не может стать объектом эстетической<br />
интерпретации, поскольку он лишен рационального ингредиента. Так же мало<br />
может стать эстетическим объектом приступ бешеной ярости, разворачивающаяся вследствие<br />
низменных причин или вульгарных страстей. Обе эти ситуации просто безобразны.<br />
Но когда противоречие трудной судьбы, или когда, наказывая за преступные деяния, Немезида<br />
1 бросает человека в объятия безумия, из его бессмысленных действий и путаных<br />
слов все же постоянно будет просвечиваться, подобно короткой молнии, пламя разума.<br />
Если существует в мире разум, если Бог не умер, как же возможно ужасное, неестественное,<br />
сатанинское, как можно, чтобы невинновность была унижена виноватым, правда —<br />
ложью, а подлость возведена в святость? Подлинный поэт заставляет своего несчастного,<br />
терзаемого постижением ужасающих реальностей героя произносить проклятия в адрес<br />
людей и Бога. То, что обычно человек скрывает, что, обусловленное благоговением, моралью,<br />
законом или верой, он подавляет в себе как грех, что в отношении с определенным<br />
данным и принятым социальным порядком представляет собой недоумение и глупость,<br />
с идиотской тупостью открыто высказывается анархией растерзанного сознания. Трагическое<br />
безумие опрокидывает порядок мира, потому что, в соотношение с тем, что с ним<br />
1 Немезида — одна из инфернальных чудес греческой мифологии, персонифицирующая чудесную месть,<br />
которая преследует и наказывает смертных за совершенные преступления.<br />
когда даже обычная мебель начинает мыслить и разговаривать. И все же, гоффманская<br />
манера находит такой сильный отзвук, потому что посредством определенной лапидарной<br />
поэзии и наивной фрески она изображает самую кричащую бессмысленность, иронизируя,<br />
таким образом, по поводу психологии утонченных и лишенных вдохновения авторов<br />
сказок. Этим объясняется странная причина, по которой взрослые с таким же<br />
удовольствием что и дети читали маленькие истории с «Struwelpeter» (вихрастики), пока<br />
эта манера не деградировала до самоограничения инфантилизмом. Но, оставляя в стороне<br />
эту отвлеченность и возвращаясь к сущности абсурда, необходимо заметить, что<br />
в безобразном как и в сказке источник абсурда представляет чародейство как иррациональная<br />
в себе реализация абсолютной случайности фантазии. Колдовство представляет<br />
собой абсурдную деятельность, поскольку она достигает эффектов посредством<br />
абсолютно бессвязных причин. Колдун вращает кольцо и сразу возникает дух, чтобы выполнить<br />
его указания; он касается разгневанного тигра прутиком и тот сразу же превращается<br />
в статую; произносит совершенно бессмысленное слово, значение которого и сам<br />
не понимает, и сверкающий дворец возникает из-под земли. Таким образом, поскольку<br />
в магии каузальность устраняется, естественно, что и процессы, ее выражения, спевы<br />
и жесты лишены всякого смысла. Не в меньшей степени здесь присутствует двойственная<br />
ориентация, которая выделялась выше в качестве отличия между подлинным чудом и миражем,<br />
истинной сказкой и извращенным произведением безумной фантазии. Если колдовство<br />
берется открывать человеку образ высшего мира души, если хочет открыть ворота<br />
потустороннего мира, то на пороге такого мира будет переживаться некоторая дрожь<br />
значительности и ужаса, поскольку в таком дерзновении присутствует некоторое высшее<br />
мужество. Но если целью колдовства становится искусственное, коварное, эгоистическое,<br />
тупое и даже безнравственное, тогда суть вещей, как и средства, которыми оно пользуется,<br />
являются дурацкими, полоумными и гротескными. Когда гётевский Фауст призывает<br />
дух земли, имеет место момент возвышенного, которому соответствует возвышенный характер<br />
соответствующей идеи. Но если тот же Фауст соглашается, чтобы колдунья приготовила<br />
ему снадобье, при помощи которого он видит в каждой женщине Елену, в этом<br />
казане колдовства сразу же чувствуется абсурд, который тотчас отталкивает философа.<br />
Несогласованность мыслей, грубость представлений, бессмысленность действий<br />
в безумии становятся печальной реальностью. Живопись и музыка могут отражать это<br />
состояние только относительно. К примеру, в своем произведении «Анна Болейн»<br />
Гаэтано Доницетти попытался передать приступ безумия героини при помощи дрожащих<br />
стонов, высоких, внезапно возникающих и угасающих в низких нотах тонов. Только поэзия<br />
может стремиться к полноте передачи такого явления. Но она сможет превратить<br />
абсурд только в средство для символического изображения распада духа. Рождающиеся<br />
из распада разума смешанные комбинации, перескакивания сами по себе ужасны. Содрогаясь<br />
от отвращения, мы отворачиваемся от пропасти, из глубины которой ухмыляется<br />
абсурд. Поэзия должна представить сумасшествие как итог страшной судьбы, таким обмария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
186<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть третья<br />
187
случается, трон полагается абсурду. Друг предает друга, соблазняет его жену; влюбленные<br />
нарушают свою клятву, жена отравляет мужа, отец презираем сыновьями, которым<br />
он пожертвовал все и т. д. Разве такие, темные как ночь поступки не сотрясают вечные<br />
законы универсума? И все же — вот они во всей остроте, обнаженности и упрямстве их<br />
реальности, казалось бы, издевающиеся и считающие сумасшедшим каждого, кто все же<br />
достаточно слаб, чтобы верить в святость добра, в силу разума. Искусство не должно<br />
оставлять за безумием последнее слово. Безумие оно должно представлять как проклятие<br />
богини Немезиды, или должно включить его в возвышенную тотальность. Романтизм<br />
выбрал опасный путь развития иронического противопоставления ясности и интеллигибельности,<br />
а именно, что безумие, мечта, экстравагантность представлялись им первоначальной<br />
истиной мира — сама по себе эта концепция безумна, и из нее могли вытекать<br />
лишь уродливые произведения. Безумец обладает привилегией излагать мысли с неудержимой<br />
смелостью, которые разве что в перспективе философского скептицизма не были<br />
бы преступными, или же пронизывали только бред как революционные проявления напуганной<br />
души. Но для того, чтобы быть красивым, все перемешивающее и переворачивающее<br />
безумие должно обладать индивидуализированным эстетическим ядром, которое не<br />
позволяет, чтобы напряжение эксцентричных идей растрачивалось абсолютно впустую.<br />
Поэт должен предоставить сумасшедшему как субъекту сведенного к абсурду многообразия<br />
общезначимую тему. Так в безумии заключенной в тюрьму Греты такое ядро находит<br />
свое оправдание в мысли о подчинении любви к мужчине любви к матери и детям, как и<br />
безумии Лира — в униженном авторитете короля и отца и т. п. Поэтому художественное<br />
изображение безумия бесконечно сложно и удается только самым великим мастерам, наподобие<br />
Шекспира, Гёте, Жорж Санд и др. Из того, что произвел нового совершенно<br />
не церемонящийся с созданием дисгармоний французский театр, необходимо выделить<br />
пьесу Э. Скриба и А. Мелесвилля. «Она сумасшедшая» не только из-за ее особенной психологической<br />
точности, а и потому, что безумие снова аннулировано. Муж преследуем<br />
идеей безумия жены, но он сам безумен, потому что воображает себя кем-то убитым<br />
и выброшенным в море. Но если эту трудную задачу изображения безумия ставит перед<br />
собой ремесленник, в таком случае выходит на поверхность весь ужас бессмыслицы, которая<br />
обычно, посредством используемые в его передаче множества знаков восклицания<br />
и тире настолько дурно, что не вызывает даже смех, но завставляет чувствовать всю его<br />
глупость.<br />
Можно сказать, что трагическое имеет дело с расщеплением, разрывом разума<br />
(Vernunft), а комическое с противоречиями интеллекта (Verstand). Поэтому последнее<br />
может использовать абсурд с особенно плодотворными положительными результатами.<br />
Глупость, экстравагантность, сумасшествие, ненормальное никогда не будут для него достаточно<br />
абсурдными. Конечно, абсурд в-себе не является комичным — он становится таковым<br />
только тем, что при определенных обстоятельствах самоаннигилируется как невозможный<br />
в-себе абсурд и все же являющийся реально. Безумство в-себе иногда может<br />
быть возвышенным, подобно безумию Дон Кихота, но становящееся в своем развитии<br />
комическим. Но безумие может быть особенно комическим в-себе как бессмысленная<br />
метушня, рассеянность или глупая самовлюбленность. Сумасшедшие пользуются привилегиями<br />
комедий — рассудочность интеллекта может играться и с абсурдом. К этой категории<br />
относятся шутки о провинциалах, евреях, глупости базарных маскарадов, особенно<br />
те, в которые рядом с чудо-доктором появлялся Турлупин. На парижских ярмарках<br />
он занимал главное место [67].<br />
Французские гасконады являются такими же веселыми абсурдностями, какими находим<br />
их в старом, но с постоянным удовольствием созерцаемом фарсе «Лжец и его сын».<br />
Отец и сын соревнуются в самых глупых выдумках. Господин Эрак, к примеру, посадил<br />
«рожающее детей дерево» (Punschbaum), привив рисовое растение лимонной ветке и поливая<br />
ее ромом; сын рассказывает, что приобрел ружье, из которого может стрелять<br />
наперекрест из-за угла, и др. У нас подобного рода фарсы собраны, прежде всего, в «Тиле<br />
Уленшпигеле», а позже в «Мюнхгаузене» Бергера и Лихтенберга. Мюнхгаузен хочет взобраться<br />
на луну при помощи стебля фасоли или вытащить себя за волосы из болота.<br />
Половина его лошади отрывается створками ворот, передняя часть туловища спокойно<br />
и бесконечно пьет воду из колонки, поскольку вода выливается со стороны отсутствующей<br />
части. Охотничья собака стерла себе лапы от беготни, превратившись в своеобразного<br />
Текела. Оленя застрелили не пулей, а косточкой черешни. Через год у него на голове<br />
выросло зеленое дерево и т. п. «Глупости»! — обычно говорим мы, когда читаем охотничьи<br />
рассказы подобного рода, но это сильно забавляет. В своем «Мюнхгаузене» Иммерман<br />
пародировал охотничьи рассказы, присвоив барону величину универсальной мифомании<br />
в духе, или точнее, в соответствии с демонизмом нашего времени.<br />
Безусловно, комедия низкого пошиба пользуется абсурдом необычным способом<br />
и именно когда воспроизводит бормотание, ошибки произношения, корявость иностранного<br />
языка и особенно выдумывание колдовских абсурдов. В этом смысле Кашпар<br />
из варианта кукольного театра Фауста является одной из самых смешных фигур. Он<br />
зубоскалит по поводу некромании и магии, не поддается чертям и, более того, дразнит их<br />
особенно смешным образом.<br />
б. Омерзительное (тошнотворное). Абсурдная пресность представляет собой<br />
идеальную сторону гнусности, отрицание интеллекта (Verstand). Омерзительное представляет<br />
собой реальную сторону, отрицание прекрасной формы некоторого феномена<br />
посредством деформации, возникающей из материального или нравственного разложения.<br />
Согласно старому правилу a potiori fit denominatio [профессионализм следует из названия],<br />
cамые низкие уровни безвкусицы и ординарного мы назовем омерзительными,<br />
потому что все, что посредством распада формы оскорбляет эстетическое чувство, внушает<br />
нам гадливость. В узкий смысл понятия отвратительного необходимо ввести и условие<br />
гниения, разложения, поскольку оно содержит ту фазу становления смерти, которая<br />
представляет собой не только увядание и исчерпывание, а более того — распад того, что<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
188<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть третья<br />
189
уже мертво. Наличие видимости жизни в том, что уже мертво, представляет собой бесконечно<br />
отвратительный аспект омерзительности. До тех пор, пока не превращается в комическое,<br />
абсурд в своей логической бесвязности также вызывает отвращение, но из-за<br />
своей интеллектуальной величины его эффект шокирует меньше, чем мерзкое, предоставляющее<br />
нашим чувствам наслаждение соответствующими ему формами бытия, что является<br />
уже чувственным абсурдом. К абсурду, даже если он представлен грудой обломков<br />
интеллекта, можно еще испытывать определенный критический интерес, в то время как<br />
мерзкое возмущает наши чувства и отталкивает от себя. Как произведенное природой<br />
в виде пота, флегмы, испражнений, абсцессов и т. п. отвратительное представляет собой<br />
нечто мертвое, что, отдавая в жертву гниению, организм отдаляет от себя. И неорганическая<br />
природа может стать относительно отвратительной, но только относительно,<br />
и именно через аналогию, или в связи с органической природой. Но само по себе понимание<br />
отвратительного неприменимо к неорганической природе и поэтому ни в коем случае<br />
не будут считаться отвратительными камни, металлы, минералы, соли, воду, облака, газы<br />
или цвета. Они могут считаться таковыми только относительно, в контексте наших зрительных<br />
или вкусовых органов. Вулкан грязи как прямая противоположность величественного<br />
спектакля, представляющего извергающей в небо огонь гору, будет выглядеть<br />
отвратительно, поскольку через аналогию извержение грязных потоков напоминает о воде,<br />
в то время как в первом случае вместо нее перед взором предстает жидкая, блеклая<br />
масса как состояние разлагающейся земли, к которой примешаны останки гниющей<br />
рыбы. Такой взрыв грязи описан в «Созерцание Кордильер» А. фон Гумбольдта. Особенно<br />
отвратительны образованные в пригородных ямах болота, в которых в ужасной смеси<br />
присутствуют остатки различных растений и животных. Если когда-либо можно было бы<br />
опрокинуть такой большой город как Париж, чтобы вышли на поверхность его сокрытые<br />
под землей стороны — не только запахи клоак, а и живущие в подземном мраке животные,<br />
это было бы отвратительное зрелище. В этом отношении наше обоняние особенно<br />
тонко. Неприятный запах испражнений делает их еще отвратительней, чем они выглядят<br />
по форме. Среди прекрасных фресок пизанского Кампо Санто есть одна, на которой изображена<br />
группа закрывших себе нос охотников, в то время как они обходят яму, в которой<br />
находится разлагающийся труп. Мы видим эту сцену, но запаха не чувствуем. Струящийся<br />
по лбу и лицу пот во время работы достоин всякого уважения, но он не эстетичен.<br />
Если же пот включен в момент удовольствия, тогда его эффект отвратителен, как в случае,<br />
когда Гейне, к примеру, поет на свадьбе молодоженам:<br />
Пусть защитит нас Бог от разгорячения<br />
И слишком сильного биения сердца,<br />
От чрезмерной потливости<br />
И перенасыщенных желудков.<br />
С эстетической точки зрения грязь и испражнения омерзительны. Когда умирающий<br />
император Клавдий восклицает: Vae! puta concacavi me! [«Ай-яй! Кажись, несчастье<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
190<br />
со мною случилось!»] все его императорское величие аннулируется. Когда в «Демиурге»<br />
(1852, стр. 237) Вильгельм Йордан мотивирует расставание Генриха и Елены тем, что тот<br />
увидел ее справляющей нужду, этот факт настолько омерзителен, ординарен, бесстыден,<br />
что трудно понять, как писатель такого глубокого и всестороннего воспитания может<br />
быть настолько лишенным вкуса, даже если он заставляет Люцифера сильно веселиться<br />
по поводу этой «тонкой» деликатности. Грубость народного языка характерна особой<br />
предпочтительностью к ругани как последнего аргумента, особенно когда она хочет подчеркнуть<br />
абсолютную ничтожность чего-то и выразить максимум отвращения, например,<br />
способом, каким Гёте оправдывает в «Ксении» игнорирование противников<br />
Скажи, почему противников ты игнорировала?<br />
Ты разве наступаешь, если встретится на дороге, в кучу дерьма?<br />
Но, за исключением комического гротеска, поэзия не может пользоваться такими модальностями.<br />
О гниении можно сказать, что благодаря христианской религии оно все же стало положительным<br />
объектом искусства в той мере, в какой живопись развивало эту тему, как<br />
в случае с «Воскрешением Лазаря», о котором даже в Библии написано, что он уже начал<br />
дурно пахнуть. Но живопись не воспроизводит этот запах и мы должны думать только<br />
о стадии первоначального, быстрого разложения. То, что здесь является положительным<br />
— это художественное видение, тот образ, каким смерть преодолена, побеждена исходящей<br />
от Христа божественной жизнью. Подымающийся из открытой могилы Лазарь<br />
самым пластическим образом контрастирует окружившей могилу группе живых. Во всяком<br />
случае, через свой, в некоторой степени фантомный облик и бледность черт, Лазарь<br />
должен отражать, что он был уже среди мертвых, но одновременно и демонстрировать,<br />
что в нем жизнь снова победила смерть.<br />
О болезни уже говорилось во введении. Сама по себе она не отталкивающая и не отвратительна.<br />
Такой она становится только тогда, когда через разложение разрушает<br />
организм и в особенности, когда причиной болезни является порок. В одном из атласов<br />
анатомии и патологии в научных целях представлены самые ужасающие аспекты болезни,<br />
но для искусства изображение болезни в ее отвратительных аспектах оправдано только<br />
через уравновешивание с этическими или религиозными идеями. Покрытый фурункулами<br />
Хиоб попадает под влияние богини Теоды. «Бедный Генрих» Гартмана является,<br />
конечно же, почти грубым персонажем, усложняющий наше понимание того, почему немцы<br />
так часто его репродуцировали, предлагая это молодежи в тысячах экземплярах, как<br />
в оригинале, так и переработанных формах. Вместе с тем, даже при крайне отталкивающих<br />
обстоятельствах мы находим в нем идею добровольной жертвы. Как ужасное изображение<br />
человеческого одиночества картина «Прокаженные острова д’Акоста» Ксавьера<br />
де Майстре опирается на идее абсолютного самопожертвования. Ужаленный змеей<br />
в качестве наказания за то, что показал грекам алтарь Ясона в Лемносе, древний грек Филоклет<br />
страдает от боли в ноге. Порожденные безнравственной причиной отвратителькарл<br />
розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть третья<br />
191
ные болезни должны быть исключены из искусства. Литература проституируется, когда<br />
пытается изобразить их, как это, к примеру, делал Э. Сю в «Парижских тайнах», с медицинской<br />
точностью описывая больницу Св. Лазаря, или немецкая романистка Джулия<br />
Бюров, которая в книге «Без женщин» описывает салон сифилитиков в лазарете. Это заблуждения<br />
эпохи, которая из-за своего патологического интереса к порокам, находит поэтической<br />
нравственную нищету. Но и болезни, которые, проявляясь под видом деформаций<br />
и необычных наростов, не являются гнусными, а носят скорее характер странности, не составляют<br />
эстетический объект, как, например, слоновая болезнь, приводящая к увеличению<br />
руки или ноги до такой степени, что полностью утрачивается изначальная форма человека.<br />
Но искусство может изображать те болезни, которые, подобно элементарной силы<br />
природы, кажутся воплощением судьбы или божьей кары и уносят много человеческих<br />
жизней. В этом случае болезнь, даже если предполагает собой омерзительные формы,<br />
может получить ужасающе возвышенный характер. Множество больных производят впечатление<br />
необычного и в этой необычности возникают выразительно-живописные контрасты<br />
между полами, возрастами и общественными слоями. Но с эстетической точки<br />
зрения для всех сцен подобного рода воскресение Лазаря должно покинуть канонический<br />
тип и противопоставить смерти всепобеждающую жизнь, ее вечную силу. Как можно<br />
увидеть на картине Д. О. М. Раффета, рисующий эпидемию тифа в республиканской<br />
французской армии в Майнце, в пропорции массовой смерти образ смерти может внушить<br />
депрессию, но рождающийся из божественной свободы луч жизни помогает преодолеть<br />
болезнь и муки бытия. Таким способом художники изображали евреев как они,<br />
одоленные болезнями в пустыне, смотрят вверх на бронзовую змею с посоха, по приказу<br />
Иегова поднятого Моисеем в молитве за их выздоровление. Здесь болезнь являет собой<br />
наказание за их ропот против Господа и Моисея, точно также как исцеление от укусов огненных<br />
змей является милостью за их покаяние. На картине Рубенса, где изображен<br />
св. Рокус, исцеляющий чумных больных, переход от смерти к жизни составляет поэзию,<br />
отдаляющую кошмар этой ужасающей болезни от отвратительного. Картиной из этой же<br />
области является и «Чумные из Жаффы» Гроса. Как ужасны эти больные с их абсцессами,<br />
с покрывшей их мертвенной бледностью, с серо-голубыми и фиолетовыми пигментами<br />
кожи, с сухими, горящими от высокой температуры глазами, с искаженными отчаянием<br />
чертами! И Наполеон — их душа, появляется между ними без страха перед опасностью<br />
злобной и ужасной смерти — он делит эту опасность с ними, точно также как во время<br />
битвы вместе с ними встречал град пуль и снарядов. Эта идея воодушевляет солдат,<br />
выдерживающие удар судьбы. Апатичные, лишенные жизни лица поднимаются в луче надежды,<br />
почти угасшие или горящие от высокой температуры глаза обращаются к нему,<br />
обессиленные руки в волнении тянутся, чтобы прикоснуться к нему, как отражение этих<br />
счастливых мгновений на их губах появляется счастливая улыбка, и посреди этих ужасных<br />
фигур возвышается фигура сверхчеловека Боннапарте — преисполненного сострадания,<br />
опустившего руку на абсцесс одного из полуобнаженных больных, пытающийся<br />
встать на ноги перед своим идолом. Как прекрасна пластическая композиция Гросса,<br />
позволяющая взгляду через дугу свода лазарета прорваться к свободе, к городу, к горе<br />
и небу — перспектива, освобождающая нас от напряжения чумного лагеря. Точно также,<br />
как в финале трагедии Шекспира «Гамлет», когда отравленные разлагающиеся трупы,<br />
свернувшись, валяются на сцене, а в это время слышно мощное и свежее звучание горна,<br />
с которым как символ начала жизни появляется ясный образ юного Фортинбраса. Больницы,<br />
в которых страдают только больные, не обладают ничем из отвратительного характера<br />
таких сцен, поэтому они часто и без сложностей изображаются.<br />
Выше шла речь и о рвоте. Несмотря на то, что это невинный симптом патологического<br />
аффекта или результат кулинарного эксцесса, она всегда особенно отвратительна. И все<br />
же она изображается как в литературе, так и в живописи. Живопись может представить ее<br />
через простое положение кого-то, хотя в «Танце мертвых» Холбейн не постеснялся поместить<br />
на первый план освобождающего желудок от недавно употребленных вкусностей<br />
гурмана. Фламандские художники также не постеснялись изобразить ее на своих картинах<br />
с ярмарками и трактирами. Допустимость таких отвратительных явлений в большой<br />
степени зависит от стиля других аспектов композиции, потому что здесь возможен и комический<br />
оборот, как в случае картины У. Хогарта «Пьющие пунш», или в сцене, изображенной<br />
на античной амфоре, где растянутый на ложе из подушек Гомер освобождает желудок<br />
в расположенный на полу сосуд. Женский силуэт поэзии поддерживает его прекрасный<br />
лоб. Вокруг сосуда изображено несколько поглощающих содержимое сосуда<br />
карликов. […] Если литература идет так далеко, что не только описывает акт рвоты,<br />
но и перемещает его на сцену, то в этом случае мы имеем дело с таким нарушением эстетической<br />
меры, которая не способна стать даже комической. Это явление было использовано<br />
Геббелем 1 в своем «Бриллианте». Поглотивший бриллиант еврей выводит его на сцене<br />
посредством рвоты, причем всовывая себе пальцы в горло. Это отвратительно! Как необходимый<br />
естественный акт рождение не обладает ничем отвратительным, даже если не получает<br />
комического нюанса, как это происходит в «Резне сумасшедших» Ганса Сакса 2 .<br />
Омерзительное становится эстетически невыносимым и тогда, когда ассоциируется<br />
с неестественным. Пресыщенные эпохи отдельных народов и индивидов стремятся возбуждать<br />
свои истощенные нервы, прибегая к самым шокирующим и нередко омерзительным<br />
средствам. Как ужасно одно из самых современных развлечений лондонских гуляк,<br />
наслаждающихся соревнованием крыс! Можно ли представить себе что-либо отвратительнее<br />
кучи крыс, которые, охваченные страхом смерти, защищаются от бешеной собаки?<br />
Те, кто поставил на собаку или крыс, те, кто держат хронометр в руке или стоят<br />
1 Геббель Фридрих (1813–1863) — немецкий поэт, автор драм с этической и психологической тематикой, как,<br />
например, «Жудита» (1841), «Женовева» (1843), «<strong>Мария</strong> Магдалена» (1844), «Нибелунги» (1862) и др.<br />
2 Сакс Ганс (1494–1576) — немецкий поэт. В «Виттенбергском соловье» (1523) и в прозаическом произведении<br />
«Диспут артиста и сапожника» (1524) становится на позиции Мартина Лютера.<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
192<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть третья<br />
193
вокруг огороженных ям, в которых разворачивается драка, ответили бы утвердительно.<br />
И все же в первой серии своих «Писем мертвеца» Г. фон Пюклер-Мускау 1 рассказывает<br />
нечто еще отвратительнее, описывая, как на парижском бульваре Монпарнас он увидел,<br />
как ротозеи стреляли в привязанную к наклоненной доске крысу, которая металась в узком<br />
пространстве. Стрелять ради развлечения в привязанную крысу! Бездна мерзости.<br />
Петроний обладает определенной, родственной жестокости Ювенала откровенностью,<br />
при помощи которой он придает мрачное очарование пресыщенному уродству. Одна<br />
из сцен «Пира Тримальхиона» некоторым символическим образом изображает глубоко<br />
извращенную душу такого мира. Свинья, которую сначала показали гостям в живом виде,<br />
подается через короткое время к столу в качестве блюда. Но из нее не были извлечены<br />
кишки. Разгневанный хозяин зовет повара и за такую страшную подачу, за оскорбление<br />
гостей приказывает отрубить ему голову. Но перед этим, на знак хозяина, повар разрезает<br />
брюхо свиньи, и что оказалось? Сидящие за столом обнаруживают вместо отвратительных<br />
кишок самые вкусные колбасы, которым была придана форма естественных<br />
потрохов. Все в восторге. Хозяину высказываются комплименты за то, что имеет такого<br />
искусного повара, а последний не только остается живым, но и награждается серебряной<br />
короной и получает в подарок бронзовый сосуд. Превращай разделку свиньи в гастрономическое<br />
правонарушение и для такой убого-омерзительной эпохи станешь великим<br />
человеком! Будешь увенчан лаврами! [69]. Цинизм сексуальных отношений позволяет<br />
проявляться игривости соотношения естественного и неестественного, о которой здесь<br />
говорить не будем [70]. Даже комедия, если, переходя в форму непристойности, в гаму<br />
бурлеска, пытается пользоваться такими темами, не способна исключить из них безобразное.<br />
Среди других — и случай особенно комической сцены из «Лисистрата» Аристофана,<br />
в которой Миррина до крайности возбуждает желания Кинесиаса, оставив его<br />
ни с чем [71]. Если подобные ситуации и эксперименты применяются вкупе с пожилым<br />
возрастом протагонистов, то аспект омерзительного усиливается. Гораций изобразил такую<br />
ситуацию в одном из своих эпосов [72]. Превращенность как извращение естественного<br />
закона посредством свободы, или, точнее говоря, посредством дерзости человеской<br />
воли, совершено отвратительна. Содомия, педерастия, рафинировано сладострастные<br />
модальности сексуального совокупления и т. д. омерзительны. Порнографы изображали<br />
названные libidines [похоть] или spinthria эротические сцены, о которых можно прочитать<br />
в сведущих и тонких объяснениях Рауля Роше в «Тайном музее в Геркулануме» и в<br />
«Помпее» Айни и Барри (Париж, 1840). Согласно замечаниям Плиния, Тиберий, к примеру,<br />
купил за астрономическую цену картину Паррасия, чтобы повесить ее у себя в спальне.<br />
На ней изображена Атланта, неестественным способом удовлетворявшая Мелагера. Видеть<br />
1 Пюклер-Мускау Герман фон (1785–1871) — немецкий писатель и садовод, осуществил много длительных путешествий<br />
по Европе, о которых с особенным литературным блеском рассказал в «Письмах мертвеца» (1830)<br />
и «Дневники и письма» (изданные посмертно в 1873–1876 гг.).<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
194<br />
в этом, вместе с Панофка [73], всего лишь пародию представляется возмутительным.<br />
в. Зло. Абсурд — это теоретическая гнусность; омерзительное — гнусность чувственная,<br />
которая, как можно было увидеть, в своих крайних формах взаимопроникается<br />
с практическим отвратительным — со злом. Злая воля — это этическое уродство. Как воля<br />
в-себе зло предстает сугубо «внутренним». Но, чтобы стать возможным с эстетической<br />
точки зрения, оно изнутри должно символически отражаться в безобразности формы,<br />
а с другой стороны, чтобы стать преступлением, должно проявляться как поступок, как<br />
действие. Уже Гомер изобразил Терсея таким образом, что его склочная и подлая натура<br />
материализовалась соответствующим образом:<br />
Только Терсит меж безмолвными каркал один, празднословный.<br />
В мыслях имея всегда непристойные многие речи<br />
Вечно искал он царей оскорблять, презирая пристойность<br />
Все позволяя себе, что казалось смешно для народа.<br />
Муж безобразнейший он меж Данаев пришел к Илиону:<br />
Был косоглаз, хромоног; совершенно горбатые сзади<br />
Плечи на персях сходились; глава у него подымалась<br />
Вверх острием и была лишь редким усеяна пухом.<br />
Илиада, II 212–266, пер. Н. И. Гнедича<br />
Наше исследование может быть успешным при условии, что эстетическая сторона ставится<br />
перед этической. Поэтому здесь не следует ожидать исследование феномена зла —<br />
оно относится к этике. Эстетика предполагает, что такой феномен уже прояснен и должна<br />
заниматься лишь совместимыми с законами прекрасного формами его проявления —<br />
в той степени, в которой они конвертируют уродливое содержание морали в соответствующую<br />
эстетическую модальность. Речь идет о понятиях беззакония (Verbrecherisch), фантомного<br />
(призрачного) (Gesperenstisch) и адского (дьявольского). Беззаконие является<br />
эмпирической реальностью злой воли. Но по сравнению с идеей благоволия, эта реальность<br />
является отрицанием, ирреальностью ее сути. Как конкретное проявление, сущность<br />
беззакония заключается в негативности и ничтожности зловредного поведения.<br />
Истина поступающей таким образом ничтожности заключается в ее злом сознании. Осознание<br />
того, что одновременно с оскорблением идеи добра, было реализовано нечто лишенное<br />
ценности, не может быть изолировано от виновности зла, и это видимое бытие зла<br />
представляет его фантомный характер. Представление преступного извлекает из его<br />
виновности образ существа зловещего, темного, странного, мстительного. Если, в итоге,<br />
воля осознает себя как главное зло, которое ведет себя подобно создателю никчемного<br />
мира, находя в этом отвратительное удовольствие, тогда она становится дьявольской.<br />
В своей негативности такая воля становится демонической, и этот демонический характер<br />
формы ее проявления становится фантомным.<br />
1. Беззаконие (преступное). Утверждение, что в самом своем глубоком значении прекрасное<br />
идентифицируется с добром, отражает не только идиосинкразию риторика Плакарл<br />
розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть третья<br />
195
тона, а подлинную истину. Таким же истинным является то, что зло в-себе и для-себя<br />
идентифицируется со злом, в той степени, в какой зло является радикальной и абсолютной<br />
формой этического и религиозного безобразного. Если же расширить до предела такую<br />
идентичность, когда безобразное вообще происходит из зла, то в таком случае будет<br />
преувеличено его содержание, что с необходимостью приведет к ложным и вынужденным<br />
абстракциям, потому что, как уже показывалось во введении, безобразное может рождаться<br />
и из других форм свободных проявлений бытия как такового. Безобразное как таковое<br />
отождествляется с крайней модальностью собственного проявления, которая в любом<br />
случае может состояться именно через опосредствование злом, потому что именно<br />
зло представляет самое глубокое противоречие идеи с самой собой. Как изначальная<br />
ложь (Urluge) духа, зло может быть интересно для мышления и воображения, но даже<br />
в этой форме оно с необходимостью будет порождать самое сильное отвращение. Посредством<br />
злого поступка злая воля принимает объективное бытие, а лишенный всякого<br />
основания произвол такого поступка разрывает необходимость абсолютной свободы, для<br />
которой и во имя которой существует мир вообще. Преступное деяние не может освободиться<br />
от своей связи с необходимой свободой, поскольку, через свое осознанное противостояние<br />
ей, оно становится преступным. Только через это соотношение преступность<br />
становится релевантной как объект и эстетическая тема, потому что одновременно с нею<br />
и с целью раскрытия в преступном деянии гнилого и лживого характера зла должна быть<br />
выделена имманентная оппозиция — подлинная свобода. Таким образом, оправдано часто<br />
повторенное Шиллером и после него замечание о том, что, для того, чтобы стать эстетическим,<br />
беззаконие должно стать обширным, потому что в этом случае оно предполагает<br />
смелость, хитрость, умение, силу и терпение — и все в необычной мере, включая в себя,<br />
таким образом, формальную сторону свободы.<br />
Начиная с «Поэтики» Аристотеля, а в последнее время благодаря Ф. Т. Фишеру, названные<br />
здесь понятия были так хорошо и строго раскрыты, как не представлен и раскрыт<br />
в современных исследованиях ни один из пунктов данного исследования. Поэтому ограничимся<br />
только некоторыми замечаниями.<br />
С точки зрения содержания не могут стать объектом эстетической интерпретации те<br />
преступные действия, которые, из-за их посредственного характера, незначительного<br />
и по причине минимального вторжения сознания и воли, необходимые для их осуществления,<br />
подчиняются категории ординарности банального. Пребывающий в их основании<br />
и питающий только полицейские дела исправительных тюрем ничтожный эгоизм слишком<br />
незначителен для интереса искусства. Его правонарушения с натяжкой могут быть<br />
названы действиями — настолько, что их происхождение часто может быть найдено в атмосфере<br />
тупости и бескультурья, лени и нищеты, из ставшей повседневностью гнусности.<br />
Коррелируя с более высокими мотивами как эпизод, как второстепенное звено в более<br />
существенных взаимосвязях, ординарное преступление уже эстетически возможно,<br />
потому что впоследствии, в контексте последующего развития, оно предстает моментом<br />
истории нравственности. Ненависть, жажда мести, ревность, азартные игры, спесивость<br />
более эстетичны, чем воровство, обман, неискренность, обычная распущенность, убийство,<br />
которые разворачиваются исключительно из потребности обладания и удовольствия.<br />
Поэтому, в контексте эпической и приключенческо-драматической литературы они занимают<br />
особенно обширное пространство. Беззаконие в-себе внушает ненависть и может<br />
вызвать более серьезный интерес не только через культурно-исторический, психологический<br />
и этический контексты, в которых оно представлено. Англичане всегда были непревзойденными<br />
мастерами в раскрытии тем такого рода. Уже в древних балладах можно<br />
встретить криминальный аспект преступления. Театр до и после эпохи Шекспира перенасыщен<br />
такого рода драмами, многие из которых, наподобие трагедии «Арден из Фавершама»<br />
[74], принадлежат неизвестным авторам и удержались долгое время. Впоследствии<br />
английский роман взял на себя эту миссию и первые авторы не постеснялись закрепить ее<br />
в почти неизвестном нашим классикам литературном направлении. «Поль Клифорд»,<br />
«Юджин Эрам», «Ночью и утром» и др. Э. Дж. Бульвер-Литтона или «Оливер Твист»<br />
Диккенса относятся к таким произведениям. В «Пелэм, или Приключения джентльмена»<br />
Булвер-Литтон ёмко изобразил самую рафинированную аристократию, но и крайнюю<br />
подлость воровских и гангстерских банд. Вслед за англичанами в эту тематику вписались<br />
и французы, но уже после июльской Революции. Блистающая тирания и окружение дворца,<br />
любовь и распутство — как в качестве рафинированной «галантереи», так и в качестве<br />
оргии — были темами, которым отдавалось предпочтение. Только вместе с осознанием<br />
роли и утверждения в истории пролетариата сначала в драме, а позже и в романе появился<br />
интерес к поэтической трактовке их преступных пороков и общественной природы.<br />
Казимир Делавинь, Альфред ди Виньи, Александр Дюма, Виктор Гюго и Эжен Сю стали<br />
классиками этого направления, к которому относят и многие другие драматургии второго<br />
и третьего разряда, множество драматургов, среди которых П. Дюмануар, Ж. Ж.<br />
Пийо, Меллесвиль и др. […]. Это ужасные пьесы, в которых на протяжении длительного<br />
времени на нервы зрителей давят самые пронизывающие контрасты. Бедность вплоть<br />
до голода, легко, хотя из самого холодного расчета совершающиеся преступления, мошенничество,<br />
различные формы убийства, вплоть до отравления и самоубийства, сибаритство,<br />
жестокость, инфантильное воровство, инцест, адъюльтерство, предательство,<br />
все ужасы вульгарной распущенности описываются в этих драмах, которые в большей<br />
степени переместились и в немецкий вариант. Но поскольку немцы не стали придавать<br />
ужасам из пьесы, подобной «Forfaits» [«Пакеты»], французскую обнаженность оригинала,<br />
обработки породили изделия еще неудачнее, потому что адская мотивация ужасных<br />
действий, которые в немецком варианте ограничены или совсем приглушены, придавала<br />
им все же психологическую мотивацию. Происходящие на сцене мерзости рождают исключительно<br />
нездоровый интерес, особенно к способу их осуществления. Современный<br />
французский, так называемый социальный роман, который под влиянием июльской династии<br />
взрастил столько ядовитых цветов, после нескольких прочитанных страниц часто<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
196<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть третья<br />
197
приходится откладывать, так что его достаточно только упомянуть. К счастью, не переведено<br />
на немецкий язык самое ужасное произведение такого рода — «Имя Семьи» Огюста<br />
Люше. Деградировавшее до скандального состояния великой нации детское увлечение<br />
немцев к переводу английских и французских романов сразу после их появления и до того,<br />
как состоялось какое-либо суждение по поводу их этической и эстетической ценности,<br />
объясняет, наверное, слабость, которую немцы проявляют в этой области. Только<br />
в рыцарских и приключенческих романах о преступниках с наивной оригинальностью<br />
и отсутствием вкуса нанизываем и мы самые возмутительные преступления, чтобы возбудить<br />
интерес англичан и французов и пробудить желание перевести такие творения [75].<br />
Если же абстрагироваться от области буржуазного общества, преступление снова<br />
приобретет более приемлемые для эстетического интереса значения из-за причин, относящихся<br />
к более высоким областям государства или религии, потому что такая фундаментальность<br />
выводит индивида из ограниченного круга меркантильно-эгоистических<br />
импульсов и вторичных случайностей. С материально-объективной точки зрения совершенные<br />
преступления обусловлены тем же, что и в буржуазной сфере: предательством,<br />
адюльтером, жестокостью, убийством. Но, поскольку они рождаются при более общих<br />
обстоятельствах, будучи вплетенными в жизнь более значимых личностей, особенно королевских,<br />
или связаны с большими преобразованиями государства и общества, то,<br />
вследствие этого, они оправданы некоторой необходимостью и наше переживание усиливается.<br />
По причине включения больших жизненных сил становятся возможными конфликты,<br />
за которые индивид виноват, будучи невиновным в значении преступления как<br />
такового. Здесь возможны три случая. Во-первых, возможно, чтобы преступление не было<br />
задумано как преступление — это случай непреднамеренной вины. Во-вторых, преступление<br />
может быть совершено с полным осознанием его злотворности. И, наконец,<br />
в третьем случае вина может заключаться в невиновности, ставшей жертвой грубости. Самым<br />
известным произведением, относящимся к первому случаю — это «Эдип» Софокла;<br />
«Ричард III» Шекспира отображает второй случай, а «Эмилия Галотти» Лессинга —<br />
последний. Таким образом, мы подошли к трагическому, сущность которого не требует<br />
специального анализа. В первом случае преступление достойно эстетической трактовке,<br />
потому что, хотя оно и является следствием индивидуальной свободы, не является все же<br />
преступным действием как таковым. Впрочем, оно совершено необходимостью конъюнктурной<br />
причинности и именно из-за этого преступное действие становится эстетически<br />
релевантным через противоречивость ситуации и, соответственно, через полноту вполне<br />
осознающей себя свободы. Безусловно, содержанием действий зло может вызывать только<br />
отвращение; но в конкретной форме таких действий мы созерцаем свободу в аспекте<br />
ее формальной стороны, соответственно — стороны самодетерминации в кульминации ее<br />
виртуозности. То, что при общей совокупности обстоятельств и, вопреки несправедливого<br />
действия, злодей может стать инструментом божественной истины, не делает его более<br />
приемлемым с эстетической точки зрения. Но его исключительное мышление и огромная<br />
мощь воли производят демоническое впечатление, поскольку виртуозность субъективной<br />
свободы в противоречии с ее негативным содержанием заставляет признать, что сама<br />
по себе она достойна подражания. Аннигиляция предполагаемого преступным действием<br />
безобразного в третьем случае зависит от того, что его жертвами становятся чистота, добродетель,<br />
невинность. Уродство преступного деяния в этом случае тем отвратительнее,<br />
чем безуспешнее его атака на свободу невинности. Всепобеждающая непреклонность невинности<br />
перед преступлением заставляет нас вздохнуть с облегчением даже при условии<br />
ее видимого поражения. Когда трагедия отражает такие ситуации, она исключает некоторые<br />
аспекты, которые еще позволяет себе эпическое повествование, поскольку последнее<br />
охватывает всю полноту условий, в то время как драма поступает эпитоматически 1<br />
и эпиграмматически. Приведем пример и к этому случаю. В трагедии «Ченчи» Перси<br />
Шелли продемонстрировала редкое, но несоответствующее драматической конструкции<br />
мастерство оригинальной поэтичности в раскрытии исключительно неприятной темы.<br />
Во время застолья старый Эйран Ченчи узнает о смерти двух из своих сыновей и публично<br />
благодарит за это небо. Окружающие в ужасе шарахаются от него. Потом он решает<br />
насиловать свою дочь, чтобы обновиться телом и душой. Беатрис и ее брат Джакомо, вместе<br />
с мачехой Лукрецией, сговариваются с преступниками, чтобы те убили старика. Сговор<br />
раскрыт и виновные наказаны. Вот в нескольких словах содержание этого жуткого<br />
рассказа. Этот сюжет неадекватен для драмы, и не только из-за монструозности запланированного<br />
дьявольским отцом инцеста, но и из-за того, что только рассказ может изображать<br />
все ужасы и посторонние обстоятельства, которые превратили ситуацию этой<br />
несчастной в исключительную, превратили муки, в которых старый Франческо убивал<br />
свою семью, в кромешный ад, привели к раскрытию заговора и заставили папу утвердить,<br />
вопреки вмешательство высокопоставленных римлян и кардиналов, смертный приговор<br />
Беатрисы, Джакомо и Лукреции. В этих моментах Шелли должна была удовлетвориться<br />
простым намеком, из-за чего третий акт, в котором объясняется решение Беатрисы прибегнуть<br />
к убийству, становится крайне невразумительным. По этой же причине живописи<br />
также непозволительно изображать преступление, передача которого была бы еще<br />
терпимой в эпосе. Художник Тимомах добился похвал у древних греков за то, что изобразил<br />
Аякса после кровавой вспышки его безумия, а Медею до того, как она убивает собственных<br />
детей, как можно увидеть на одной из картин из Геркуланум. Под руководством<br />
учителя дети сидят за столом и играются, в то время как, борясь с самой собой, Медея<br />
стоит в стороне с затуманенным взглядом, вцепившись руками в гибельный меч. Если художнику<br />
позволяется изобразить такой круговорот объясняющих друг друга событий,<br />
в таком случае он прибегает к определенной натяжке, как это имеет место на фресках<br />
Корнелия, находящиеся в холле старого берлинского Музея, или в серии гравюр Хогарта,<br />
изображающие сцены из жизни ленивого ученика. Они составляют подлинный роман<br />
1 От греч. еpitome — краткое извлечение из труда более обширного, составленное эпитоматором.<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
198<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть третья<br />
199
1 Ауэрбах Бертольд (1812–1882) — немецкий поэт и романист. После издания его первого романа «Спиноза»<br />
(1837) стал основателем серии томов так называемой «Истоири села», изданных под общим названием «Сельские<br />
рассказы из Черного Леса» (1843–1854 гг.).<br />
1 Бенедикс Юлий Родерих (1811–1873) — немецкий драматург, немецкий писатель, актёр, драматург, либреттист<br />
и театральный режиссёр, автор легких комедий, написанных в особенной драматургической технике.<br />
повседневной жизни, в которых отдельные моменты угадываются через ее связи. Согласно<br />
манере подчеркивания характерных черт, они не обошли отвратительны аспекты жизни<br />
этого ленивого люмпена, передав, к примеру, его убожество самым жестким колоритом,<br />
как в сцене, где в грязной комнате мансарды наш ленивый герой лежит с кокоткой<br />
в постели. Посреди комнаты и остатков ужина находится ночной горшок, наблюдающая<br />
за мышкой кошка спрыгнула на постель и напугала ленивца, в то время как глупо-самолюбивая<br />
кокотка разглядывает ворованные серьги.<br />
В эстетических трактатах теория трагического обычно дискутируется только в аспекте<br />
трагедии. Но необходимо принять во внимание и ее эпическое воплощение, которое<br />
было особенно распространено в балладах и романах. Точно также в случае трагического<br />
стала традиционной только определенная зона ужасного, в то время как, по сути, сфера<br />
его распространения намного шире и многообразнее. В том, что касается преступного<br />
деяния, мы сначала охватили его ординарные, совершенно прозаические аспекты,<br />
способные пробудить интерес только в перспективе разборчивой психологии, как это пытался<br />
демонстрировать в своих рассказах Ауербах 1 . Во втором случае мы выделили тип<br />
преступных деяний, которые порождаются противоречиями эгоистических страстей буржуазного<br />
общества. В третьем случае мы остановились на трагическое преступление,<br />
которое находит свое оправдание в социальных структурах общества, государства<br />
и церкви, и в котором нельзя отказать даже Ричарду III или леди Макбет. Чем глубже<br />
связано преступление с крупными интересами общества, государства и церкви, тем ужаснее<br />
оно становится из-за последствий для большего количества людей, но в то же время,<br />
когда вследствие такого пафоса принимает идеальный характер, оно становится менее<br />
уродливым. Таким образом, оно в меньшей степени предстает проявлением ограниченного<br />
эгоизма и в большей — результатом обмана, внушенного героям обстоятельствами, как<br />
в случае графа Фиеско, Альбрехта Валленштейна, Макбета, Емельяна Пугачёва и др. В реальном<br />
контексте высокотрагические преступления тождественны тем, которые используются<br />
в сфере буржуазной мелодрамы — речь также идет о воровстве, убийстве,<br />
предательстве, адюльтере. И все же почему они кажутся благородными? Или, если «благородными»<br />
слишком громко сказано, тогда, по меньшей мере, рафинированными? Почему<br />
кража короны — нечто иное, чем кража пары серебряных ложек? Очевидно, только<br />
из-за того, что природа сюжета порождает совсем иной пафос, и, предполагая борьбу<br />
на жизнь и на смерть, перемещает нас в контекст отношений, которые были бы недоступны<br />
в случае низменных частных страстей.<br />
Безнравственность преступного действия не может трансформироваться в комическое,<br />
если в большей или меньшей степени не имеет место абстрагирование от его этичесмария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
200<br />
кого значения и если его эволюция не представлена с других точек зрения. Необходимо<br />
выделить только интеллектуальный элемент, как, к примеру, в случае, когда ложь представлена<br />
как следствие безудержной фантазии и навязана необходимостью преувеличения<br />
или как чей-то розыгрыш, потому что в этом случае оно изначально аннулирована<br />
и мы наслаждаемся ею исключительно в качестве умственного развлечения. […] Ложь является<br />
и остается безнравственной, но когда в виде безвредного фарса мы ее встречаем<br />
у Фальстафа или Мюнхгаузена, она комична. Бенедикс 1 удачно построил свою комедию<br />
«Обман» на том, что фанатично преданный правде мужчина, который постоянно ловит<br />
свою жену на чисто женском обмане, решается испытать вкус лжи из простого каприза,<br />
солгав по очень незначительному поводу. Но эта незначительная ложь, а именно утверждение,<br />
что однажды вечером он гарцевал на лесной окраине, приводит к самым жестоким<br />
последствиям, вплоть до его ареста. Тогда он сознается в том, что выдумал эту историю<br />
с целью проверки — является ли ложь таким сложным искусством. Но поскольку он был<br />
известен как самый строгий защитник правды, сначала никто не хотел верить, что на этот<br />
раз он и в самом деле солгал. Когда кто-либо лжет из легкомыслия, не желая при этом кому-либо<br />
зла, тогда ложь предстает больше как естественная, чем как нравственная ошибка.<br />
Она превращается в то, что мы называем «ошибкой темперамента».<br />
Для того, чтобы предательство стало комическим, оно должно использовать и ложь,<br />
то есть, кажущееся предательство посредством которого кто-то разыгрывается. Интрига<br />
плетет ловушку для того, чтобы слабость и распущенность, фальшивая представительность<br />
и ее замыслы попали в собственные сети. Когда с целью убедить в фальшивости его<br />
протеже, мадам Оргон прячет супруга под кроватью, провоцируя и с видимой благосклонностью<br />
слушая пылкие признания лицемерного Тартюфа, раскрытие последнего вызывает<br />
живое этическое и эстетическое удовлетворение. Старые опекуны, заставлявщие<br />
своих юных и прекрасных племянниц выходить замуж за состояния, как доктор Бартоло<br />
из «Севильского цирюльника», как и наш герой достойны обмана — нам нравятся хитрости<br />
с целью помешать задумкам алчного старика.<br />
Подлинный адъюлтер может трактоваться не комически, а исключительно трагически<br />
[76]. В немецких фарсах адъюлтер был изображен исключительно в перспективе умения<br />
преодоления возникающих на пути влюбленных препятствий. Нравственный момент<br />
здесь полностью обходится и посредством такой абстракции становится возможной комическая<br />
интерпретация. Конечно, в пьесе «Мизантропия и раскаяние» А. фон Коцебу<br />
представил адюльтер в форме, которую нельзя считать ни трагической, ни комической.<br />
Как и в реальной жизни, это простительно по причине любви к детям. Мейно и Олал<br />
встречаются снова после четырех лет расставания. Их встреча заканчивается решением<br />
снова расстаться — на этот раз окончательно. Но в это время появляются дети — эти бракарл<br />
розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть третья<br />
201
вые герои Коцебу — и убеждают родителей остаться вместе. Таким образом, Коцебу<br />
выразил особенно грустную, но обычную ситуацию, а именно — что многие, изнутри расстроенные<br />
браки распались бы и внешне, если перспектива отравить благоговение детей<br />
открытым признанием греха не удерживало бы родителей в видимом браке. Это благоговение<br />
трагического самопожертвования в терпимой форме является, без сомнения, мотивом,<br />
из-за которого упомянутая пьеса имела такой ошеломительный успех во всей Европе,<br />
распространив, даже в дамской среде, моду еуланиянского шалаша.<br />
И, наконец, убийство может стать комичным исключительно через пародию. Посредством<br />
пародийной гиперболизации оно становится простым фарсом, как в последнее время<br />
демонстрируют ужасающие иллюстрации, встречающиеся в мюнхенских фольетонах,<br />
в дюссельдорфских ежегодниках и др. Если это название не было бы слишком для них хорошим,<br />
можно было бы их называть трагикомическими.<br />
2. Фантомное (мистическое). В соответствии со своей природой, жизнь боится<br />
смерти. О смерти уже шла речь выше. Она приобретает мистический характер, если, противореча<br />
своей природе, предстает как нечто ожившее. Противоречие, присутствующее<br />
в том, что нечто, будучи мертвым, кажется живым, объясняет ужас перед мистическим.<br />
Жизнь, перешедшая в смерть, не мистична. Можно спокойно смотреть на труп. Но если<br />
дуновение ветра приведет в движение волосы или если пламя свечи произведет впечатление<br />
движения черт, тогда простая идея жизни в мертвом теле, которое может принадлежать<br />
очень близкому и любимому человеку, будет содержать в себе нечто мистическое.<br />
Через смерть этот мир перестает для нас существовать, а раскрытие потусторонности содержит<br />
в себе устрашающую аномалию. Умерший и принадлежащий потустороннему миру<br />
кажется постигающим неизвестные нам законы. В ужасе перед мертвым, которое стало<br />
жертвой гниения и в уважении к мертвому как святости включена абсолютная тайна<br />
будущего. В контексте наших эстетических целей необходимо отличать изображение<br />
фантома и страшилища, точно также как римляне отличали ночные фантомы (Lemure)<br />
и привидения (Larve). Изображение духов, относящихся к иному порядку бытия, содержит<br />
нечто исключительное и даже устрашающее, но не содержит ничего мистического.<br />
Демоны, ангелы, злые духи многих мифологий являются тем, чем они являются благодаря<br />
своему происхождению и местопребыванию, и получили этот облик не посредством<br />
смерти. Они выше фантомов. Между упырем и живым человеком размещаются странные<br />
образы вампиризма. Вампир изображен мертвецом, временами покидающим могилу под<br />
видом живого, чтобы подчинить себе юные, теплые существа и выпить их кровь. Вампир<br />
уже мертв и все же, вопреки естественности смерти, нуждается в пище и не в любой,<br />
а именно такой, которая представляет цветущую жизнь. Благодаря произведениям<br />
«Коринфская невеста» Гёте, рассказу Байрона и опере «Вампир» Г. Массне, порожденное<br />
кладбищенским миром воображение сегодня хорошо известно. В качестве легенды<br />
у греков и сербов она занимает место, равное римской легенде о человеке-волке. В сказочной<br />
«Тысяча и одна ночь» можно встретить образ людей, находящие удовольствие<br />
в поедании трупов и тем желающие утолить жажду жизни гильём смерти. Восточные ламии<br />
отвратительнее вампиров, поскольку они вдобавок еще неестественней.<br />
Облекающийся в фантом мертвец может произвести впечатление чего-то странного,<br />
чуждого, но из-за этого он не обязательно будет уродливым. По сути, он может иметь тот<br />
же образ, что и при жизни, но более бледный, бесцветный, размытый. Эсхил в «Персах»<br />
при помощи хора имитирует тень Дария и когда, наконец, она возникает перед хором<br />
и Атоссой [матерью Ксеркса], поэт вкладывает в уста хора следующие строки:<br />
Страшно тебя мне увидеть,<br />
Страшно мне слово промолвить,<br />
Дрожу пред тобою, как прежде.<br />
Персы, 694–696, пер. Адр. Пиотровского<br />
Но ни одним словом он не дает понять, что появление фантома содержит в себе что-то<br />
отталкивающее. Эта же ситуация повторяется с фантомами, которые, возвращаясь<br />
из Аида в «Одиссее», собираются вокруг жертвенной ямы Одиссея. То же и с фантомом<br />
Самуила, которого (в особенно важной для данной темы работе «Могила танцовщицы»)<br />
призывающая мертвых заставляет появиться перед Савлом. Гёте столь скрупулезно проанализировал<br />
природу мистического, что трудно воздержаться от приведения следующего<br />
фрагмента. Речь идет о трех картинах, о завершенной трилогии: «Изобретательная девушка<br />
появляется в каждой из этих картин — на первой максимально стимулируя наслаждение<br />
жизнью гостей знатного вельможи; на второй она изображена в отягощенной<br />
попытке реализовать свои артистические способности в Тартаре — в мире загнивания<br />
и полураспада; на третьей картине изображено, каким образом она приняла состояние<br />
вечного фантома». Таким образом, первая картина изображает танцовщицу во время<br />
гуляния в роли вакхической, вызывающей восторги представителей всех возрастов девушки.<br />
Вторая схватывает момент ее перехода от этого мира в подземный мир. «Если<br />
на первой из картин танцовщица предстает перед нами преисполненная жизни, проворная,<br />
грациозная, гибкая и неуловимая, то в печальном царстве фантомов ее образ синтезирует<br />
полную противоположность этих качеств. Она еще удерживается на одной ноге,<br />
но вторая, будто в поиске опоры, давит на бедро первой. Левая рука опирается о бедро,<br />
не имея будто силы удержаться в воздухе, ее конечности вырисовывают неуверенный зигзаг.<br />
Опорная нога, рука, опирающаяся на тело, будто вывернутое колено — все вызывает<br />
впечатление замирания, отсутствия движения в движении. Это экспрессивное выражение<br />
печальных фантомов, у которых остались лишь столько мускулов и связок, сколько нужно,<br />
чтобы они не казались готовыми рассыпаться прозрачными скелетами. Но даже в этом<br />
отвратительном состоянии танцовщица должна казаться своей публике блестящей,<br />
притягательной и одухотворенной. Желание собравшей посмотреть на нее публики, аплодисменты<br />
тех, кто созерцают ее в тиши, здесь восхитительно символизированы двумя<br />
фантомами. Как каждый по себе из этих фантомных силуэтов, так и все трое вместе, чудесно<br />
созвучны один другому, составляя выпуклое выражение определенного значения.<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
202<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть третья<br />
203
Но каково же это значение? Божественное искусство, способное возвысить и облагородить<br />
все, не отказывается во имя этого даже от неприятного и отталкивающего. Именно<br />
здесь оно хочет мощно демонстрировать право на главенство, но существует только единственная<br />
возможность успеха этого дела: оно сможет доминировать над безобразным<br />
только трактуя его комически — точно также, как Зевс хохотал, созерцая так плохо сложенную<br />
Гекубу. Если одарить это фантомное уродство молодыми женскими мускулами,<br />
то получится одна из тех комических фигур, при помощи которых Арлекин и Коломбина<br />
веселят со времен их появления. И если мы распространим это действие и две соседствующие<br />
фантомные фигуры, то будем вынуждены констатировать, что они производят впечатление<br />
черни, которая больше других любит спектакли такого рода…»<br />
«Пусть простят, что я придал этому аспекту большее значение, чем было необходимо,<br />
но с первого взгляда не каждый способен понять эту гениальную комическую черту<br />
античности, волшебная сила которой вплела между человеческим спектаклем и духовной<br />
трагедией аспект фантомного, а между прекрасным и возвышенным — гротескное<br />
(карикатурное) отношение. И все же, с удовольствием признаю, что я не нахожу ничего<br />
восхитительнее, чем эстетическая композиция этих трех ипостасей, содержащих в себе<br />
все, что человек может знать, чувствовать, во что верит и надеется в своей жизни и своем<br />
будущем».<br />
«Как и первая, последняя картина выражает себя через саму себя. Карон перенес танцовщицу<br />
в мир теней, оглядывающуюся назад, чтобы увидеть следующего за ней. Божество,<br />
доброжелательно по отношению к мертвым и поэтому оно намерено реализовать свой<br />
талант и в мире забвения, с удовольствием рассматривая развернутый пергамент, на котором<br />
будто написаны роли, исполнением которых танцовщица вызывала преклонение.<br />
Цербер в ее присутствии молчит, она находит уже новых поклонников, некоторых даже<br />
из прошлого, приведшие ее в мир теней. Ей предоставлена даже служанка, протягивающая<br />
госпоже шаль, выполняя свои обычные обязанности. Восхитительны и эффектны<br />
группировка и расположение глубинных аспектов картины, которые, как и в предыдущих<br />
картинах, составляют лишь фон как таковой и только контекст, из которого выделяется<br />
фигура танцовщицы во всех трех случаях размещенная на первом плане. На взлете одухотворяющего<br />
ее и здесь творческого подъема кажется, что она чувствует отличие между ее<br />
теперешним и прошлым состоянием. Способ, каким она держится и выражение лица трагичны<br />
и она в равной мере хорошо могла бы представлять как отчаявшееся, так и божественно<br />
одухотворенное существо. Если на первой картине она кажется подстрекающей<br />
зрителя при помощи обдуманных, возбуждающих движений, здесь она фактически выражает<br />
отсутствие — поклонники обступили ее, аплодируют ей, но, отстраненная от внешнего<br />
мира и замкнутая в себе, она их не замечает. И таким образом она завершает свое<br />
представление пантомимой, в которой ясно выражен, но отчужденно-трагичен вывод, которым<br />
она делится с Ахиллом, а именно, что лучше носить шаль госпожи в качестве служанки<br />
в мире живых, чем считаться первой среди мертвых» [77].<br />
1 В немецком — Der Schatten — слово, означающее и тень.<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
204<br />
Фантом 1 , о чем говорит и его название, не является сущностью, к которой можно прикоснуться.<br />
Он может быть увиден и услышан, но его нельзя поймать и поэтому он не знает<br />
для себя материальных преград. Он приходит и уходит, перемещается повсюду, а в аспекте<br />
времени зависит разве что от темноты ночи, которою он защищается. При помощи<br />
фантома затуманенное воображение отражает универсум кладбищ наподобие баллад,<br />
предпочитающие образы скелетов и привидений.<br />
Но иногда, как в «Леноре» Г. А. Бюргера, фантом изображен в виде настоящей реальности.<br />
Некроматические нюансы, черное, белое, серое у всех народов являются цветами,<br />
используемые для передачи мистического универсума, потому что подлинные цвета принадлежат<br />
жизни, дню, реальному миру. Фантом (lemure) становится страшилищем (larva)<br />
тогда, когда этичекая обязанность еще связывает его с этим миром, постоянно возвращая<br />
его из потустороннего мира в водоворот мира посюстороннего, в котором оно должно<br />
было бы найти успокоение. Абсолютное спокойствие, успокоение может найти только та<br />
душа, которая исчерпала и закончила свою историю. Когда человек не пережил до конца<br />
собственную историю, воображение заставляет его возвращаться из могилы, чтобы восполнить<br />
и закончить собственную драму. Таким образом, незавершенный отрезок его истории<br />
уже не откладывается до неопределенного числа последнего суда, а решается уже<br />
здесь, в форме поэтической правды. Это означает, что умерший осуществил или ему было<br />
сделано что-то, что должно считаться лишь началом, которое необходимо довести<br />
до хорошего конца или же нечто, что необходимо искупить до конца. Кажется, что<br />
смерть вырвала его из исторического контекста, но единство внутренней необходимости<br />
еще задерживает его и он снова появляется для того, чтобы восстановить справедливость<br />
или осуществить расплату. Ночью, когда живые охвачены сном, привидение просачивается<br />
из глубины земли (которая еще не может окончательно поглотить человека, поскольку<br />
душа его еще не оправдана) и приближается к жилищу тех, кому снятся сны или которые<br />
терзаются состоянием между сном и бодрствованием. Оно показывает жене или сыну<br />
кровоточащую рану, которая была нанесена ему злой рукой вдали от них; оно беспокоит<br />
даже убийцу, мучая своим навязчивым образом; призывает близких к мести за испытанное<br />
унижение, дает знак следовать за ним в места, где находятся важные доказательства<br />
или несметные сокровища; рассказывает о совершеных им втайне преступлениях и умоляет<br />
освободить его от вины или помочь избавиться от нее. Поскольку мертвец уже<br />
нематериален, бестелесен и неспособен действовать прямо, а, из страха к свету, он уже<br />
не может вмешиваться в совершающиеся днем события, то он может только умолять, призывать,<br />
указывать, потому что ему, мертвому, живые не должны омрачать правоту и любовь.<br />
Фантом умершего может предстать перед живущим для того, чтобы немотой<br />
и тишиной, которые его обволакивает, напомнить о тяжести греха, как в случае призрака<br />
Банкво, усаживающегося за стол Макбета, или же, подобно отцу Гамлета, когда оно гокарл<br />
розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть третья<br />
205
ворит приглушенным голосом, и т. п. Что же представляет собой призрак? Это рефлекс<br />
больной совести, чувства вины, беспокойства собственных мук, которые проецируются<br />
в образе навязчивого привидения. Как на известной великолепной картине, где мандат<br />
ареста изображен в образе дубликата преступника. Скрываясь во мраке ночи, убийца<br />
убегает, а огромный силуэт мандата ареста по стопам бежит за ним. Рассмотренный более<br />
близко, этот мандат оказывается самим убийцей, бесконечным рефлексом его вины. Таким<br />
образом, убийца бежит от самого себя и подписывает доверенность на собственный<br />
арест. Этот этический момент наделяет привидение идеальной совестью. В качестве нематриальной<br />
тени оно все же должно заставить почувствовать напряжение необходимости,<br />
которая опирается на вечном основании нравственных сил. В привидении должен проявляться<br />
интерес, который должен располагаться выше каких-либо мнений, насмешек и нападений<br />
живых — таким же образом, как фантом подло убитого командора поражает<br />
своим величием легкомысленного и злодейского Дон Жуана.<br />
Поэтому изображение призрачного особенно сложно. В главах Х–ХII «Гамбургской<br />
драматургии» Г. Э. Лессинг сформулировал эстетическую теорию мистического: «Зерно<br />
веры в привидения можно найти в каждом из нас, и особенно в тех, для которых и пишет<br />
драматург. Только от его мастерства зависит — заставить это зерно дать всходы припомощи<br />
некоторых ускользаний, чтобы придать смысл быстрой трансформации реальности<br />
этой возможности. Если драматург владеет этими средствами хорошо, тогда в повседневной<br />
жизни можно поверить во что угодно, но в театре мы должны поверить в то, во что<br />
хочет он». В этом контексте Лессинг противопоставляет Вольтера Шекспиру. Первого<br />
как писателя, изображащего привидение иронически, в то время как второй понял его<br />
верно и изобразил с непревзойденным мастерством — по мнению Лессинга, несравнимо<br />
лучше других. В трагедии «Семирамида» Вольтер допускает, чтобы призрак Нина в сопровождении<br />
грома появился средь бела дня, в окружении детей. «Где Вольтер слышал,<br />
что привидения могут быть такими смелыми? Каждая пожилая женщина могла бы ему<br />
сказать, что привидения сторонятся дневного света и избегают скопления людей. Конечно,<br />
Вольтер и сам знал об этом, но он слишком пренебрегал и отягощался использовать<br />
эти общие банальности — он захотел представить благородное привидение и этой “благородностью”<br />
все испортил. Привидение, являющееся вопреки традиционным для мира<br />
привидений правил не позволяет воспринимать его как подлинное привидение и то, что<br />
необходимо для обеспечения иллюзии, разрушает здесь иллюзию». Лессинг ограничивается<br />
сравнением Нина с отцом Гамлета. Он тонко замечает, что привидение последнего<br />
впечатляет нас не самим собой, сколько посредством способа, в котором Гамлет изображает<br />
воздействие на него этой встречи. Призрак Нина возникает, чтобы помешать инцесту<br />
и отомстить своему убийце. Оно лишь востребованная разворачиванием конфликта<br />
поэтическая машина; привидение же отца Гамлета — это персонаж, который действует<br />
на самом деле, в судьбе которого мы принимаем участие, он вызывает ужас, но и милосердие.<br />
Согласно Лессингу, главная ошибка Вольтера заключается в том, что в появлении<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
206<br />
привидения он видит исключение, отклонение от законов универсального порядка, мираж,<br />
в то время как Шекспир считает его предельно естественным случаем, «потому как<br />
несомненно, что и более умному нравится не нуждаться в этих необычных процедурах,<br />
а нам — считать возмещение добра и наказание зла включенными в естественный ход вещей».<br />
Об этом писалось и выше, когда речь шла о том, что необходимость вечных нравственных<br />
императивов может придавать мистическому идеальную святость. Собственный<br />
импульс привидения должен изнутри разорвать границы и замкнутость могилы.<br />
Но позволим себе небольшую ремарку в адрес Лессинга. Он проигнорировал в этом<br />
случае отличие между фантомом (Schatten) и пугалом, упырем (Gespenst). Он не подумал<br />
о том, что у того же автора, которого он по полному праву хвалил как мастера изображения<br />
ужасающих аспектов мистического, призрак Банкво изображен усаживающимся<br />
за стол, посреди бела дня. Он огорчается по поводу нарушения правил Вольтером, привидение<br />
которого появляется на виду у всех. «При этом видении все должны изобразить<br />
страх и ужас, но каждый по-своему, если мы хотим, чтобы изображение не обладало холодной<br />
симметрией балета. Следовательно, для реализации этого многообразия выражений,<br />
необходимо ввести толпу фигурантов и когда это будет удовлетоврительно реализовано,<br />
подумаем о том, каким образом это многообразие физиономического выражения<br />
упомянутых чувств рассеет и отвлечет внимание зрителей от главного персонажа». Если<br />
бы Лессинг подумал хотя бы о тени Дария из «Персов» Эсхила! Разве оно не возникает<br />
не только перед Атоссой, но и перед всем хором? Только Дарий появляется не как упырь<br />
— нет никакой вины между ним и Атоссой — он хочет поделиться только с ним, с великим<br />
королем, полнотой и безмерностью своей боли. Призрак — здесь Лессинг прав, — обращается<br />
только к одному или нескольким персонажам, потому что находится в строгих<br />
отношениях с ними. Шекспир всегда уважительно относился к глубокому психологическому<br />
аспекту этого исключительного отношения. Гамлет видит дух своего отца, а его мать<br />
— нет. Банкво видим Макбетом, но не остальными сидящими за столом. Из палатки Брута<br />
один за другим выходят все, остается только ребенок, но и этот скоро засыпает — Брут<br />
остается в одиночестве, и только в эту минуту перед ним, убийцей, в накале решающего<br />
боя, возникает фигура Цезаря. Если этическая и эстетическая природа мистического попадает<br />
в неумелые руки, тогда она регрессирует до более низкой ступени, используемая<br />
у нас предпочтительно в рыцарских или бандитских романах: «Пантолино, или Страшное<br />
ночное привидение», «Дон Алонсо, или Неожиданное явление на перекрестке» и др. Это<br />
деградированное привидение литературы с пугалами, как правило, абсурдно по содержанию<br />
и по форме. Оно обезьяничает и имитирует живое посредством странных и бессмысленных<br />
образов, которые только кокетничают с серьезностью потустороннего мира,<br />
не пребывая с ним в более тесной связи. Наша романтическая школа развивала мистическое<br />
особенно в этом регрессивном направлении. Самая странная абсурдность, самое<br />
нелепое безумие считаются гениальными. В своем постоянстве и в той мере, в какой этическое<br />
мыслится, оно может быть идентифицировано с фатальностью и только в ипостакарл<br />
розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть третья<br />
207
1 Арним Людвиг Ахим фон (1781–1831) — немецкий писатель романтического направления, автор романов, новелл<br />
и театральных пьес, продемонстрировавший богатое воображение и экспрессивность, равно как удручающее<br />
игнорирование формы. Вместе с Клеменсом Брентано издал сборник народных песен и легенд (1806–1808 гг.), в которых<br />
сверкает и легенда о големе.<br />
2 Шелли Мэри Уолстонкрафт (1797–1851) — английская романистка, вторая жена П. Б. Шелли, автор серии<br />
рассказов ужаса, в которых сверхъестественное переплетается с эсхатологическим в результате гиперчувствительного<br />
воображения.<br />
си противного, как в случае отрезанного детского пальчика из «Семейство<br />
Шроффенштейн» Генриха фон Клейста. Когда в «Орестее» Клитемнестра появляется<br />
с вонзенным в нее собственным сыном кинжалом, своей правдивостью она предстает ошеломляющим<br />
привидением. Но если, как в «Двадцать четвертом февраля» Захарии Вернера,<br />
нож снова должен стать орудием преступления, потому что при его помощи уже было<br />
совершенно убийство, в таком случае имеет место абсурдное мистическое отношение<br />
дурного вкуса. Поэтому эта тенденция подчеркнуто предпочитает куклы, марионетки, автоматы,<br />
восковые фигуры и т. д. Колющий орехи Гофмана открыл серию множества подобных<br />
фигур, что припомощи неутомимого болтуна Руспали Иммерман смог включить<br />
в своего Мюнхгаузена сатиру в их адрес. Чем более мизерными и лишенными содержания<br />
были такие фантазии, тем удачнее они считались. Было счастьем, что благодаря народной<br />
фантазии были найдены некоторые элементы, в которых, будучи пронизанной вибрацией<br />
некоторой идеи, устрашающая сторона мистического была точнее понята. Таким образом,<br />
благодаря Арниму 1 , на время усилился интерес к голему, глиняным истуканам, которые<br />
при помощи приклеенного на лоб билетика с вписанными магическими формулами<br />
царем привидений Саломо, получают видимую жизнь. Вершина этого литературного жанра<br />
была достигнута женой Шелли 2 в ее знаменитом романе «Франкенштейн, или Современный<br />
Прометей». Этот роман тем более заслуживает упоминания, чем интереснее в нем<br />
интерпретирована идея безобразного. После трудных и длительных исследований природы<br />
ученому удается создать машину в образе человека. Подошло великое мгновение, когда<br />
машина должна получить абсолютную самостоятельность — видеть, слышать, говорить<br />
и двигаться. Ее творец не может выдержать этого спектакля, валится на постель и,<br />
подавленный усталостью, вопреки перенапряжению, засыпает. Когда, наконец, он снова<br />
просыпается и возвращается в мастерскую, там пусто. За это время машина в подлинном<br />
смысле ожила, и как настоящий человек переживает всю полноту человеческих чувств,<br />
как они были представлены Э. Б. де Кондильяком в известной ожившей статуе. Одетый<br />
в костюм Франкенштейна, под лунным светом, машина покидает помещение и теряется<br />
в уединенье гор, в шелесте лесов, а поскольку она существо гетерогенное, его избегают<br />
и звери, и люди. Хотя, согласно не только мощному, но и прекрасному замыслу его творца,<br />
своим оживлением агрегат внушает впечатление мерзкого монстра. Движение жизни<br />
превращает все формы и черты в мистические извращения. В конце концов, у него рождамария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
208<br />
ется интерес к нечаянно замеченной семье одного проповедника; возникает желание выразить<br />
свои симпатии к членам этой семьи, и машина делает это, собирая по ночам дрова<br />
и принося их во двор проповедника. В начале зимы втайне наблюдающий за жизнью семьи<br />
благодетельный монстр, который научился не только читать, но и писать, раскрыт.<br />
Жильцы в страхе поджигают дом, ночью покинув его и отправившись куда глаза глядят.<br />
Воздержимся от критики психологического характера, потому что хотя госпожа Шелли<br />
с особенной дотошностью пыталась выделить именно психологический аспект, но все же<br />
серьезная рефлексия причинной взаимосвязи в ее произведении отсутствует, ибо она изначально<br />
основана на фикции, а ее субъект обладает преимущественно символическим<br />
характером. Поэтому не будем обращать внимания на другие эстетические недостатки<br />
и продолжим свои рассуждения. Из забытого письма в кармане платья Франкенштейна,<br />
которое он надел во время бегства из мастерской, монстр узнает (иначе, зачем бы он научился<br />
читать?) тайну своего рождения. Желая отомстить своему творцу, создавшему его<br />
столь несчастным, монстр убивает сына Франкенштейна. Где-то в горах, он позже встречается<br />
с самим Франкенштейном, затягивает в пещеру и вырывает у него клятву, что сотворит<br />
равное по уродству ему существо женского рода, чтобы она стала его подругой.<br />
Современный Прометей берется за работу и находится уже близко к цели, как вдруг ему<br />
в голову приходит страшная мысль, что благодаря этой женщине может возникнуть<br />
ужасная раса. Поскольку он знает, что за его работой следят острые глаза монстра, творец<br />
впадает в состояние неуправляемого гнева, заставляющего его уничтожить новое творение,<br />
собрать в корзине расчлененные части женского монстра, погрузить их в лодку<br />
и выйти в море. Далеко от берега он топит свое детище, чувствуя себя, несмотря на то, что<br />
речь шла только о женоподобной машине, преступником. В дальнейшем рассказ развивается<br />
по совершено фантастическому пути, который в рассматриваемом аспекте нас не интересует.<br />
Напомним только, что монстр убивает возлюбленную Франкенштейна, после<br />
чего исчезает во мраке севера. Это путанное сочинение типично женской выдумки и экзальтации<br />
не лишено некоторой смелости и глубины, что придает ей привлекательность.<br />
Самое передовое изобретение человеческой техники, желающее соперничать с божественным<br />
творением именно благодаря искусственно дарованной жизни, становится монстром,<br />
который в своем абсолютном, обусловленном отдаленностью от природной естественности<br />
одиночестве, чувствует себя глубоко несчастным. Именно тогда, когда Франкенштейн<br />
приближается к триумфу трудной и длятельной работы, он содрогается перед<br />
тем, что сотворил — в одном случае, убегая от него, в другом — разрушая. И в этом акте<br />
разрушения ему не чуждо чувство некоторой вины, как будто в убийстве. В этом чувстве<br />
находит кульмнацию воссоздание мертвого мистического, потому что этот тип мистического<br />
заключается не только в том, что мертвецы ведут себя как живые. Он находит себя<br />
и в том, что неодушевленные объекты — метлы, ножи, часы, картины, куклы — становятся<br />
одушевленными, а также и в том, что слышны прекрасно модулированные тональности,<br />
странные и неслыханные, несущие в себе необъяснимые тайны. Так, к примеру, проискарл<br />
розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть третья<br />
209
рый важный интерес которого еще связывает его с посюсторонним миром. Но в той степени,<br />
в какой в мертвых формах дурного вкуса мистическое деградирует, оно еще не относится<br />
к пространству зла как такового, а входит в анализированное выше пространство<br />
абсурда. Как рефлекс внутреннего неравновесия мистическое может стать эстетически<br />
прекрасным именно благодаря тому, что оно обладает свойством вызывать, как говорит<br />
Лессинг, не только ужас, но и сострадание. Через его соотношение с явлениями смерти,<br />
гниения, зла и греха оно вызывает ужас, но посредством переплетения с этическим интересом<br />
правды, которое осуществляется и за порогом смерти, оно все же освобождается<br />
от уродства, как с несравненной силой представлено видение моцартовского Дон Жуана.<br />
Безусловно, в своем отсутствии безумие является чем-то фантомным. Сумасшедший<br />
также отчужден от реальности, но противоположным, чем мертвец, образом; привидение<br />
возвращается с того света на этот — оно осуществляет страшный прыжок от одного мира<br />
к другому; сумасшедший, напротив, живет еще в этом мире, но потерей разума исключен<br />
из реальности — по причине своей болезни он умер для живых интересов позитивной<br />
реальности. Глубоко изучивший человеческое сердце во всем его величии или ничтожности<br />
несравненный Шекспир и в этом аспекте предоставляет осязаемые примеры. Поднимаясь<br />
ночью из постели и пытаясь в состоянии транса смысть кровь с рук, леди Макбет<br />
близка к такому явлению мистического, от которого кровь стынет в жилах. Порождая<br />
ужасающий эффект здесь переплетаются виноватая совесть, сомнамбулизм, душевное<br />
неравновесие. В короне из соломы, опирающийся на раму окна и произносящий в пустой<br />
степи безумные речи Король Лир производит мистическое впечатление. И все же, положенные<br />
в основание всех этих сцен мощные конфликты сохраняют в себе следы разума.<br />
Но деградация мистического до мертвечины преодолевает границы абсурда и зловещего<br />
и мы поступим слишком односторонне, если в принципе откажем в эстетическом оправдании<br />
этому проявлению мистического. Воображение сумело наделить и эту форму красотой<br />
— с одной стороны, в народных сказках, а с другой — в поэтическом сказках<br />
о блондине Экберте Людвига Тика и др.<br />
В результате этих рассуждений становится еще очевиднее ошибочность и односторонность<br />
определений, при помощи которых идентифицируют зло и мистическое. Излагая<br />
свою концепцию К. Вайс 1 допустил, чтобы его ввели в заблуждение религиозные представления<br />
об аде разных народов, когда живущие в аду трактуются как «vulgo diavolo»<br />
[обычные черти] — настоящие призраки, что с эстетической точки зрения совершенно не<br />
оправдано. Вот что он пишет в своей «Эстетике» (т. 1, стр. 188): «Привидения — это фигуры,<br />
которые живут в подземелье, они имитируют самостоятельное или объективное<br />
и изолированное от субъективности воображения существование, посредством этой лжи<br />
угрожая привлечь и угробить в этой мерзкой пропасти смертные души, перед которыми<br />
1 Вайс Кристан Герман (1801–1866) — немецкий философ, преподаватель истории философии Лейпцигского<br />
университета. Главный труд: «Философский догматизм» (3 тома, 1855–1862 гг.).<br />
ходит в «Нищей из Локарно» Г. фон Клейста, в которой из затемненого угла комнаты<br />
в одно и то же время слышны пронизывающие нечленораздельные звуки, потому что<br />
в этом углу когда-то умерла нищенка, и с тех пор ее стон молит о сострадании. Принимающий<br />
реальное звучание, этот бессодержательный звук кажется романтикам типа Гофмана<br />
обладающим поэтическим содержанием, наподобие того как их любимым цветком<br />
является не роза или фиалка, а «голубой цветок» вообще. Чем абстрактнее, тем таинственней.<br />
Жена Шелли все же продемонстрировала более глубокое воображение. С какой<br />
силой она выразила возникшую в голове Франкенштейна опасность измышления новой расы<br />
как угрозы постоянного расчленения и разрушения человеческого вида, расчленения<br />
естественного, сотворенного Богом и сотворенного рассудком искусственным человека.<br />
И сколь глубока мотивация необходимости создать безобразную женщину как логического<br />
следствия, когда уродство возводится в ранг нормы идеала соответствующего вида.<br />
Нет необходимости показывать, как легко это искусственное выражение дурного понимания<br />
мистического может перейти в комическое, потому что сатира довольно часто<br />
занималась его осмеянием [78]. Но с целью воспроизведения самых смешных противоречий<br />
искусство часто пользовалось мистическим и за пределами сатирического жанра, как,<br />
к примеру, в финальной сцене драматической поэмы «Дон Жуан» Байрона, в которой, гоняясь<br />
ночью по коридорам замка за привидением блуждающего ночью по пустым комнатам<br />
монаха, герой внезапно обнаруживает, что обнимает скрытое под монашеской мантией<br />
юное и нежное тело дучессы Фицфальк.<br />
3. Адское (сатанинское). Мы рассматривали зло сначала в его преступном аспекте.<br />
Как чистое отрицательное отношение, без символического самовыражения в деформированной<br />
мере или в реальном действии, зло не было бы эстетическим объектом. Но мы выбрали<br />
определение зла как злодеяния (беззакония) и потому что необходимо было подчеркнуть,<br />
что, не будучи сам по себе внутренне злым, не будучи дьявольским, человек<br />
может быть принужден к злодеянию смешанным чувством, страданием или совокупностью<br />
обстоятельств. Эдип, Орест, Медея, Отелло, Карл Мур и другие совершают злодеяния,<br />
не будучи носителями зла, не испытывая радости от него. Мистическое было<br />
проанализировано в параграфе, посвященном преступным действиям, потому что оно<br />
обусловлено некоторым значением виновности. Мы отделили также мир мистического<br />
от демонического, как и от царства мертвых вообще. Появление духа из земли, наподобие<br />
души в гётевском «Фаусте», призраки вроде Дария в «Персах» Эсхила могут вызывать<br />
ужас и одновременно быть возвышенно прекрасными. Душа мертвеца может стать привидением<br />
только тогда, когда человек до конца не пережил собственную историю и когда он<br />
еще включен в практику разворачивания события. Из осторожности в этом случае мы<br />
воспользовались более детальной характеристикой, чтобы не исключить феномены,<br />
которые напрямую не спровоцированы вмешательством зла. Но зла, которое было бы им<br />
неизбежно присуще, потому что Банкво, к примеру, не зол, не преступен и все же возвращается<br />
на землю под видом призрака. Мы подчеркнули и беспокойство мертвого, некотомария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
210<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть третья<br />
211
1 Руге Арнольд (1803–1880) — немецкий философ и теоретик эстетики, представитель посткантианской школы,<br />
участник революционного движения 1848 года. Его эстетическая теория вписывается в сферу идей «модификаций<br />
прекрасного» как источник эстетической бесконечности мира.<br />
2 Фишер Куно (1824–1907) — немецкий философ и историк литературы. В философии реализовывал гегельянство<br />
под влиянием кантовской философии. Главный труд «История современной философии» в 10 томах (1852–<br />
1893 гг.). Важнейшие сочинения: «Лессинг» (1881), «Фауст Гёте» (1878), «Шекспир и идолы Бэкона» (1895) и др.<br />
щих, которые художник сумел выбрать, сочетать и составлять таким образом, что изобразил<br />
именно внутреннюю отрицательность как несомненное уродство. Разве передача<br />
зла так легко дается, чтобы быть доступной каждому ремесленнику? «Конечно, софистика<br />
страсти, — пишет дальше Гегель, — способна воспроизвести позитивное в негативном<br />
при помощи изворотливости испытания силы и энергичности характера, но все же, мы сохраним<br />
только трансформированный образ могилы. Поскольку то, что исключительно<br />
негативно, является бесцветным и блеклым, вследствие чего, используемое как движущий<br />
элемент или средство пробуждения чьего-то действия, оно опустошает и отвращает нас.<br />
Если они возвышены и переполнены содержательным величием характера и преследуемой<br />
цели, ужасное, несчастное, грубость насилия и жесткость сверхестественной силы<br />
могут соединиться и восприниматься в их отображении, но зло как таковое, зависть, малодушие<br />
и низость отвратительны. Поэтому с эстетической точки зрения дьявол в-себесамом<br />
является глупой, бесполезной фигурой, поскольку он ничем иным не является,<br />
кроме как ложью самой по себе, и поэтому очень прозаичен». Остановимся ненадолго<br />
на этом пассаже. Само собой разумеется, что с этической и религиозной точки зрения зло<br />
должно осуждаться. Абстрагируясь от его конкретных проявлений, неоплатоники даже<br />
отождествляли его с небытием. Мы согласны с тем, что с эстетической точки зрения зло<br />
отвратительно, причем до такой степени, что весь параграф, посвященный омерзительному,<br />
находит свою кульминацию в понятиях зла и сатанинского. Но разве из-за этого зло<br />
неприменимо эстетически? И разве не переплетаются в мире конкретных явлений негативное<br />
и позитивное, зло и добро, так что сущность одного подчеркивается явлением другого?<br />
Правда, когда Гегель пишет, что под «дьяволом в-себе» следует понимать только<br />
«одинокого» дьявола, выдернутого из общего контекста мира отдельный объект искусства,<br />
он формулирует свою идею с достаточной осторожностью. В этом смысле возражать<br />
нечему. Во введении уже объяснялось, что зло и уродство должны пониматься лишь в качестве<br />
моментов, растворенных в великом порядке универсума. Но и при этом условии<br />
разве сатанинское обязательно неэстетично? Кто стал бы утверждать такое, должен был<br />
бы приписывать искусству исключительно морализаторские функции и не ожидать, чтобы<br />
в своих произведениях оно отражало образ мир посредством такого смешения конфликтов<br />
феноменов и явлений, в котором просвечивало бы вечное основание всепобеждающей<br />
идеи. Это правда, что зло опустошает, что оно кажется отталкивающим, правда<br />
и то, что софистика страсти не может скрыть внутреннюю пустоту зла. Но разве изображение<br />
зла, делающее возможным рождение нравственного суждения как результата<br />
созерцания не может быть эстетически интересным? И разве развитая злом двусмысленность<br />
формального мышления, разве формальная энергия, с которой оно преследует свои<br />
цели, или совершающая преступления за преступлениями грандиозная тираничность<br />
настолько неупотребимы с эстетической точки зрения? Как оказалось возможным, чтобы<br />
искусство Средних веков могло с избытком воспользоваться этим «прозаическим» элементом?<br />
Как возможно, чтобы в представлении тайн английский театр также перешел<br />
— каждому в отдельности — они появляются под видом бесконечности частностей»<br />
(стр. 196). «Поэтому общим атрибутом любого уродства необходимо считать фантомное<br />
и зловещее — атрибуты, которые можно противопоставлять таинственной и ясной природе<br />
прекрасного. Как фантомная сущность безобразное просачивается во все аспекты<br />
прекрасного и вносит в них турбуленции тем, что приписывает их реальному значению,<br />
посредством которого получает свое особенное диалектическое положение, лишенное<br />
содержания оживление, занимающее место подлинного воображения. Поскольку этот<br />
выход фантазии из сферы собственного бытия, то есть, из ничто, в более высокую область<br />
эстетической реальности представляет собой и разрушение форм, в которые существенным<br />
образом опредмечивается идея красоты, последний и достаточный мотив этого факта<br />
не должен искаться внутри этой идеи, а вовне от нее и именно в специфической природе<br />
понятия зла». Мы не только не имеем ничего против этого, а и согласны с тем, чтобы<br />
видеть во зле абсолютную ложь и посредством этого — момент фантомного, но считать<br />
фантомное только ложью, а безобразное только явлением мистического является заблуждением<br />
эстета — заблуждением, которое становится очевидным у его ученика Руге 1<br />
и его сторонника К. Фишера 2 [79].<br />
Переходя к анализу сатанинского нельзя не вступить в полемику и с другим философом,<br />
а именно с Гегелем, потому что, в согласии с одним частным и очень категорическим<br />
утверждением из его «Эстетики» (т. 1, стр. 284), зло неспособно вызвать эстетический интерес.<br />
Придерживаясь важности этой <strong>проблем</strong>ы самой по себе и значения гегелевских позиций,<br />
приведем все же его собственные слова и сопроводим нашими замечаниями. Гегель<br />
говорит: «Несомненно, реальность отрицательного может соответствовать сущности<br />
и природе отрицательности, но когда внутрення сущность и цель уже опустошены в-себе,<br />
уже внутреннее уродство несет еще меньше подлинной красоты во внешнем проявлении».<br />
То, что отрицательное не обладает формой положительного — само собой разумеется.<br />
Точно также, как его внутренняя сущность в соответствующей форме должна отражаться<br />
во внешнем. Но с эстетической точки зрения здесь возникает различие. Если искусство<br />
изображает таким образом внешнее согласно внутреннему, то в случае зла это внешнее<br />
не сможет быть прекрасным как тогда, когда оно являет добро и истину. Не следовало<br />
ли в этом случае признать, что художник, изображающий отрицательное в соответствии<br />
с его внутренним содержанием, предоставляет ему прекрасное изображение? Прекрасное<br />
не посредством возвышенных или приятных форм, а ординарных и отталкиваюмария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
212<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть третья<br />
213
к драматическим моральным примерам, а от них к комедиям и трагедиям только посредством<br />
метаморфоз дьявола и его буффона (the Vice). Но покончим с вопросами, возможно<br />
ответ получим из следующих строк: «Яркие вспышки ненависти, “ярости” и многие<br />
другие подобного рода аллегории также представляют воплощение силы, но силы, лишенной<br />
положительной независимости и равновесия и, таким образом, несоответствующей<br />
идеальному представлению, хотя и в этом смысле должно быть проведено отличие<br />
между тем, что допустимо, и тем, что запрещено для разных видов искусства и способов,<br />
в которых непосредственно или опосредовано они изображают свой объект». Если «ярости»,<br />
о которых говорит Гегель, должны были означать эвменид или эриний, то в таком<br />
случае он ошибается в принципе, поскольку, символизируя месть совершенных смертными<br />
преступлений, карающие за оскорбление права и религиозной традиции, последние<br />
существенно положительны. В своем безумии они приобретают возвышенную красоту,<br />
даже если Зевс называет их ночными фуриями, монстрами. Возможно, поэтому Гегель<br />
в этом случае думал не столько о греках, сколько о римлянах и французах, например,<br />
о «Генриаде» Вольтера, предельно богатой такими аллегорическими фигурами в воплощении<br />
мифологиюи. Но если с эстетической точки зрения такого рода аллегории бесцветны<br />
и блеклы, то разве причина этого не должна быть найдена в природе самой аллегории?<br />
Разве индивидуальное аллегорическое выражение достоинств эстетически более оправдано,<br />
чем изображение пороков? И даже самый плодовитый и изобретательный талант,<br />
наподобие Альбрехта Дюрера или Рубенса, смогли аннулировать прозу аллегории? Гегель<br />
признает именно то, что разные виды искусства в этом случае могут поступать по-разному.<br />
Конечно же, но именно потому, что поэзия способна передать особенное, находящееся<br />
в основании зла полоумие, она способна воспроизвести зло очень интересным образом.<br />
Ей не нужно прибегать к символическим аллегориям и к средствам пластического<br />
искусства — она может позволить отрицательным безднам злого сознания самим выражать<br />
себя. Разве величие гётевского Мефистофеля не заключается именно в иронической<br />
ясности, при помощи которой выражается этот отрицающей все и вся персонаж? «Но зло<br />
в-себе, — продолжает наш философ, — предстает также блеклым и лишенным содержания,<br />
поскольку из него вытекает только отрицание, разрушение и несчастье, в то время<br />
как подлинное искусство должно предоставить и зрелище гармонии в-себе». Согласимся<br />
и с общим утверждением относительно отсутствия содержания зла, но отклоним его<br />
обоснование посредством следствий. Разве несчастье и разрушение не могут следовать и<br />
из добра, причем самыми различными способами? И разве передача несчастья или разрушения<br />
нарушает гармонию произведения искусства? Не встречаем ли в каждой трагедии<br />
бесконечное страдание без того, чтобы от этого пострадала ее эстетическая гармония?<br />
«Особенно достойна презрения низость, — считает Гегель, — потому что она происходит<br />
из зависти и ненависти ко всему благородному и не стесняется превратить оправданную<br />
в себе силу в средство для удовлетворения своей злой и постыдной страсти. По этой причине<br />
великие поэты и актеры античности не предоставляют конкретный образ злобности<br />
и беззакония, а вот, к примеру, в “Короле Лире” Шекспир изображает зло во всей его чудовищности».<br />
Дальше Гегель говорит о старике, который был настолько неразумен, что<br />
поделил королевство, и считает естественным, что, в итоге, такое бездумное поведение<br />
вылилось в окончательное безумие. Отвлечемся от того, что уже великий Гомер изобразил<br />
в Терсите образ этой, рожденной завистью и ненавистью ко всему благородному<br />
низости, потому что Гегель не считает этого поэта одним из великих представителей<br />
античного искусства. Поверим Гегелю, произвольным образом противопоставившему<br />
Шекспира великому античному поэту в том смысле, что, изобразив «зло во всем его ужасе»,<br />
последний совершил эстетическую ошибку. Такую точку зрения опровергает множество<br />
размышлений из его же «Эстетики», где Гегель не находит слов для того, чтобы<br />
выразить восторг в адрес Шекспира. И чему в этом случае верить? Несомненно, необходимо<br />
признать, что Гегель придал безосновательно высокое поэтическое значение действию,<br />
в котором противостояние порождено нравственно совершенно оправданными<br />
утверждающими силами, а не теми, в которых отрицательное действует как включенный<br />
рычаг. Исходя из этого, его безмерный восторг Антигоной вынуждает считать ее «самым<br />
совершенным и восхитительным произведением искусства» (т. 3, стр. 556). Но, необходимо<br />
признать и то, что Гегель был яростным врагом скучного морализаторства, и, соответственно,<br />
софистического разглагольствования, свойственной и легко простительной Иффланду<br />
и Коцебу дешевой морали. Но все же и именно поэтому у мыслителя такой<br />
предельной этической строгости, в некоторой степени — близкому платоновскому гению,<br />
аморальность вызывает невыносимое отвращение, а потому он был совершенно неспособным<br />
к комической трактовке зла, как оно было развито в христианских Средних<br />
веках. Ирония романтической школы также казалась ему деградирующей до «плоских<br />
шуток». Игнорирование высоты и благородства содержания Гегель прощает только фламандской<br />
живописи. Из-за идеи их судьбы, антики, которых Гегель также упоминает<br />
в этом контексте, еще не могли изобразить зло в свободной субъективной форме — из-за<br />
идеи свободы, которая определяла их понимание мира, современники должны были с необходимостью<br />
включить идею зла в сферу их изображений, поскольку субъективная<br />
сторона свободы проявляется как исключительная именно через зло и делает это посредством<br />
собственной отрицательности, предназначенной быть побежденной положительными<br />
силами добра. Низость зависти, которую Гегель считает крайне отвратительной,<br />
в античности обнаруживается в зависти богов, а в христианстве — в дьяволе. Иначе как<br />
возможны были бы такие великие художники как Орканья, Данте, Рафаэль, Микеланджело,<br />
Пьер Корнель, Расин, Марло, Шекспир, Гёте, Шиллер, Корнелий, Каульбах, Моцарт<br />
— такие успешные в передаче зла не только в криминальных или мистических, но и в<br />
сатанинских формах! [80].<br />
Сатанинское зло тем отличается от зла обычной страсти, индивидуальной подлости,<br />
преходящего аффекта, что оно ненавидит добро из принципа, превращая его отрицание<br />
в свою абсолютную цель и находя удовлетворение в причинении страдания и несчастья.<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
214<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть третья<br />
215
В этих, с необходимостью вытекающих из собственной сущности предпосылках противостояния<br />
добру, можно найти мотив, ради которого демоническое обусловливает переход<br />
к карикатуре. И только в качестве осознающей себя карикатуры божественного образа,<br />
которым оно должно быть, сатанинское возможно. Оно сразу же напоминает о добре,<br />
в уничтожении которого находит удовольствие, насмехается над ним как над глупостью,<br />
скрипит зубами, когда встречается с ним, но не может оторваться от него, потому что если<br />
бы добро не существовало, не существовало бы и зло. В этом смысле зло является состоянием<br />
безумия. Таким образом, сатанинское заключается в преступности подчиненных<br />
сатанинскому демонизму людей, которые вынуждаются им совершать ужасающие<br />
поступки. Тот, в кого вселился дьявол, содрогается от желаний, сжигаем страстями, играет,<br />
пьет, проклинает и деградирует вплоть до животного состояния. Тот, кто через него<br />
действует согласно этому демоническому представлению, является демоном или множеством<br />
овладевших им демонов. Но действует сам человек, потому что изображение объясняет<br />
отсутствие свободы в состоянии осатаневшего именно через его изначальную<br />
свободу, поскольку, допустив, чтобы какой-либо демон или другие — жажда власти, распущенность<br />
и иные в этом роде овладели им, он совершает преступление. Таким образом,<br />
осатанелость остается виной человека, не выбрасывающего из себя зло, как следовало бы<br />
сделать во имя своей свободы и свободной воли.<br />
Мистический элемент воспроизводит сатанинское в ворожбе. Так званая черная магия<br />
преследует цель, чтобы посредством пожертвования истиной свободы и собственного<br />
избавления подчинить себе демонические силы ада для удовлетворения извращенных желаний<br />
отвратительного эгоизма. Практикующий черную магию человек не теряет свою субъективную<br />
свободу, которая в ситуации вселения черта аннулирована. Он стремится к злу<br />
с полным осознанием желания заключить договор с дьяволом. Дьявольское в-себе и для-себя,<br />
которое знает себя, хочет себя и открыто признает себя и которое находит удовольствие<br />
в злобном расшатывании божественного порядка можно назвать сатанинским.<br />
Нельзя забывать, что эти состояния необходимо рассматривать не с психологической<br />
или этической (в значении философии религии) точки зрения, а с точки зрения эстетической.<br />
В интуитивном изображении осатанения еще сохраняется дуализм человеческого<br />
и дьявольского. Тот, в кого вселился дьявол, представляется существом, над которым<br />
господствуют демоны и над которым они осуществляют волюнтаристсткое господство.<br />
Несомненно, дуализм разных существ в одном и том же теле не может быть красивым —<br />
с одной стороны, спокойный образ взбесившегося, с другой — эксцентричное оживление,<br />
провоцируемое демонами, которые вселились в человека. Таким образом, если живопись<br />
и литература представят нашему сознанию это отличие, тогда они и с художественной<br />
точки зрения должны выделить природный образ индивида и образ, обусловленный демонами.<br />
Но поскольку демоны не могли бы войти в человека, если бы он сам не открыл им<br />
путь к себе, по сути, это отличие снова аннулировано. В этом смысле все религии совпадают.<br />
Даже индуистская религия предполагает в таких случаях вину и свободу человека.<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
216<br />
Налас, принц Нишад, блестящий супруг Дамажанты, вызвал зависть богов тем, что был<br />
избран его прекрасной женой. Длительное время боги следили за ним, чтобы поймать его<br />
на какой-нибудь ошибке, потому что индуистские боги столь же завистиливы и мстительны,<br />
сколь и греческие. Но благородный принц строго соблюдает нормы своей касты.<br />
В конце концов, забыв о строгих запретах относительно очищения, через двенадать лет<br />
он ступает на мокрую траву, на которую справил нужду, открыв тем самым путь демонам<br />
к власти над собой. Давно охотящийся за ним подступный Калис берет над ними власть<br />
и приобщает принца сначала к пороку азартных игр. Конечно, можно иронизировать<br />
по поводу следующей таким абсурдным запретам религии. Немецкие переводчики сказки<br />
о Нжаласе и Дамажанте неоправдано обошли индийскую профанацию. […]<br />
В изображении искусством освобождения от власти демонов максимальный эффект<br />
может быть достигнут через фиксирование момента, когда, под влиянием избавительной<br />
силы, отчаяние, безумный взгляд, судороги, затемнение сознания начинают уступать тихому<br />
сиянию души и ума — глаза еще наполовину затуманены, но рот уже открывается,<br />
чтобы выпустить из себя демона. Вместе с ним исчезает и уродство деформированного<br />
образа. Так выражали этот сюжет Рубенс и Рафаэль. В «Преображении» Рафаэля можно<br />
увидеть появляющийся над горами светлый образ Бога, а у основания горы видна группа<br />
людей, окружившая бьющуюся в судорогах охваченной демонами фигуру, которую<br />
родственники привели к апостолам для исцеления. Эти, в свою очередь, молятся за ее избавление<br />
Богу — единственному, Кто в состоянии исцелить.<br />
Дьявольское содержит в себе и мистическую черту, поскольку оно принципиально противопоставлено<br />
позитивному порядку мира. Эта черта принимает отдельную форму в колдовстве,<br />
которое необходимо отличать и от магического элемента вообще. Как можно было<br />
увидеть раньше, ворожба (das Zaubern) включает в себя абсурд, но она еще совместима<br />
с красотой тех, кто занимается магией с добрыми намерениями и полезными целями, что<br />
позволяет представить ее как белую магию, как высокое знание — как искусство, которое<br />
делает возможным преодоление некоторых промежуточных, ограничивающих обычную<br />
жизнь преград. Это случай Просперо из «Грозы» Шекспира, Мерлина из «Легенды о короле<br />
Артуре», Малайя из каролингской саги, Вергилия из итальянских романтических<br />
легенд и др. Магия как таковая может практиковаться с добрыми целями как тонкое увлечение,<br />
наподобие случая отдельных женских персонажей из «Тысяча и одной ночи», трактирщицы<br />
из рассказа «Лучано», которая превращается в птицу, чтобы прилететь к своему<br />
любимому, в то время как он, вследствие использования неподходящей помады, превращается<br />
в осла. Совсем другая ситуация в случае колдовства (Hexerei). В широком смысле ее<br />
следует понимать как так называемую черную магию, которая заключается в приведении<br />
злых душ и научении их осуществления злых намерений. Эта магия сознательно выбирает<br />
зло и призывает демонов приобщиться к ее темным деяниям.<br />
Сознательно или полусознательно, но, даже не желая этого, слабость всегда открывает<br />
путь демонам, а тот, кто практикует колдовство, осознанно уходит из пространства чекарл<br />
розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть третья<br />
217
ловеческого и соединяется с темными силами. Изображения такого феномена встречаются<br />
еще в античности, но через христианский дуализм он деградировал в формальную систему<br />
самых ужасных фантазий. На Востоке и в античном мире злая, уродливая и гнусная<br />
старуха уже выступает прототипом колдуньи, которая своим ядовитым взглядом, колдовскими<br />
зельями и заклинаниями причиняет страдание и приносит несчастье. Уродливая<br />
и гнусная старуха, как она была изображена Аристофаном в «Фемосфориях» и «Лисистрате»,<br />
безобразна до ужаса, причем не из-за впалых щек, морщинистого лба и седых волос,<br />
а потому что низко завидует юной красоте и счастью, сплетничая, она с дьявольским<br />
наслаждением искажает тонкость невинности и, вопреки возрасту, мучается нечистыми,<br />
жаждущими удовлетворения желаниями. Науськивая, гнусная и злая Лаба страшным образом<br />
мстит естественной свежести, в которой видит своего непосредственного врага,<br />
а при помощи магического насилия пытается насладиться тем, что природа уже не может<br />
ей предоставить. Это совершенно мерзкое создание выражает собой основание происхождения<br />
колдовства. Но вот к этому всему прибавляется идея ее сговора с дьяволом. Ортодоксальная<br />
фантазия католической и протестантской церквей развивала колдовство<br />
под видом дьявольского культа. Сборище вальдезейцев 1 на горных вершинах составило<br />
первый импульс для кристаллизации идеи шабаша ведьм, названный во Франции vanderie,<br />
и которого воссоздали легенды северных немцев. Здесь, в synagogue diabolica [храм дьявола]<br />
христианское служение пародировалось с самым отвратительным цинизмом. Дьявол<br />
в облике человека, но с телом козла, с когтистыми руками, с завершающимися лапами<br />
гуся копытами лошадиа принимает церемониальные ритуалы. Ему целуют гениталии<br />
органы и зад. Крещение и святое причастие оскорблены тем, что крестятся мыши, ящерицы,<br />
ежи и им подобные, а черное, твердое, похожее на дратву причастие больше уподобляется<br />
подошве туфли; то, что подается в качестве питья вместо крови Господней —<br />
черное, горькое и противное. Чтобы пародировать самопожертвование Христа, сатана<br />
как будто позволяет сжечь себя как козла, источая при этом ядовитый запах. Церковь сатаны<br />
празднует божественный ритуал в оргии, в танцах и распутных объятиях, особенные<br />
тем, что, будучи прокляты Богом, дьявольский род холоден, неплодотворен и непродуктивен.<br />
Поэтому, как Суккуба, он принимает женский облик и отдается во власти доброго<br />
колдуна, чтобы впоследствии, в мужском обличии, быть оплодотворенным как Инкуба<br />
и удовлетворить животную похоть любовниц. Оргии, распущенность и безумные кутежи<br />
разного толка, постоянное извращение божественного порядка, сознательное пренебрежение<br />
Богом — вот формы, которыми, под обликом ведьм, искусство попыталось выразить,<br />
как они были нарисованы Теньером, и особенно Дюрером. В коллекции эрцгерцога<br />
Карла в Вене находятся некоторые бесценные листы Дюрера, на которых изображен<br />
1 В немецком Waldeuser — секта реформаторского направления, основанная в 1176 году Петром Валдусом<br />
(Waldez) в Лионе, преследовавшая цель проповеди Евангелия и реформации католической церкви посредством возвращение<br />
к бедности и апостольской простоте.<br />
ужасный образ ведьм с их запутанными космами, с томными глазами, с высохшими грудями,<br />
с искривленными беззубыми ртами и с выражением лица, на котором запечатлено<br />
зло, соответствующее степени их безудержной распущенности. Литература использовала<br />
колдовство особенно в старых английских драмах, в «Колдунье» Миддлтона, в «Колдунье<br />
из Эдмонтона» — пьесе, написанной в соавторстве Роули, Деккером и Фордом, в «Макбет»<br />
Шекспира и «Колдуньи из Ланкастера» Хейвуда [81]. В последней из упомянутых работ<br />
встречаем галерею всех типов нарушений, посредством которых ведьмы разрушают<br />
общество. Так, к примеру, им удается разрушить нравственный порядок целой семьи. Отец<br />
и мать боятся сына и дочери, сын и дочь боятся своей прислуги и т. д. В либретто балета<br />
«Фауст» Г. Гейне еще раз подчеркнул главное из шабаша ведьм. Здесь можно было бы остановиться<br />
на анализе колдовства, поскольку в последние десятилетия многочисленные<br />
комментаторы гётевского Фауста не потрудились изучить многообразие замечаний о магическом,<br />
о кулинарии ведьм и вальпурийской ночи. Самым полным трудом этого направления<br />
является изданная в 1847 году работа Эд. Мейера «Исследования “Фауста” Гёте».<br />
Таким образом, хотя с этой эстетической точки зрения нельзя изобразить нечто более<br />
отвратительное и ужасное, чем шабаш ведьм, конфигурация дьявольского как сатанинского<br />
с духовной точки зрения движется еще дальше. Практика колдовства с абсурдной<br />
полнотой принципов ее процедуры используется на уровне примитивных чувственных<br />
желаний распущенных, злобных женщин в явленном и фантастическом мире. Правда, сатанинское<br />
в этом мире представляет собой центральное звено культа, но в большей степени<br />
как пародия христианского богослужения, когда редуцируется ее духовное содержание.<br />
Напротив, сатанинское в его подлинной сути эталонирует сознательное и гневное<br />
сопротивление божественному порядку. Не будучи обусловленным зависимостью от относительно<br />
чужих сил, как в случае охваченного бесом, не будучи охваченным пороками<br />
и извращенными желаниями отдаваться во власти зла, подобно ведьмам, оно достигает<br />
максимальное удовлетворение в сознательном и свободном творении зла. В соответствии<br />
со своей сущностью, абсолютное зло является и абсолютной несвободой, потому что оно<br />
состоит в отрицании подлинной свободы, в недоброжелательной воле, из-за чего раньше<br />
эту волю мы называли стремящейся к ничто неволей (Unwille). Только в бездне этой лишенной<br />
субстанциальности воли сатанинское чувствует себя (если можно так сказать)<br />
свободным, потому что оно чувствует только себя, только свой постоянный и исключительный<br />
эгоизм. Оно напоминает добро как священный мотив вещей только для того, чтобы<br />
растоптать божественные запреты, только для того, чтобы подчинить себе любой порядок<br />
природы и унизить любое воздержание и стыдливость духа. Поэтому в его случае<br />
правомерно ожидать максимальное уродство, но, как бы ни казалось парадоксальным,<br />
правда заключается в том, что относящаяся к этой точки зрения метафизическая абстракция<br />
снова смягчает безобразное. Сатанинский субъект обладает определенным энтузиазмом<br />
своей гнусности, что, вопреки любой мерзости, придает его проявлению некоторую<br />
формальную свободу и поэтому позволяет ему быть эстетическим объектом. Сколько бы<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
218<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть третья<br />
219
ни пытался занять место Бога, дьявол не может произвести ничего другого, кроме уродливого<br />
миража утверждения своей отрицательности, своего абсолютного противоречия<br />
и, по причине априорной безуспешности попыток быть оригинальным, он постоянен лишь<br />
как карикатура, соответствующая виртуозность которой сразу же превращается в комичность<br />
ситуации «бедного и глупого» черта. Фантазия изобразила черта в трех ипостасях:<br />
1) сверхчеловеческой; 2) недочеловеческой; 3) человеческой.<br />
Сверхчеловеческим чёрт предстает как член высшего мира духов, из зависти и высокомерия<br />
восставшего против подлинного Бога. Этот тип был представлен религиозной фантазией<br />
в колоссальных формах. В ранних религиях сила зла еще ассоциируется с самыми<br />
мощными богами, конфигурация которых изначально понята таким образом, что уродство<br />
должно вызывать страх и ужас. Как страшно смотрят на нас монгольские или мексиканские<br />
боги! Как устрашающе приковывают нас эти пронзительные глаза, какой кровожадностью<br />
веет от их грубого, высунутого языка, как угрожающе оскалены острые зубы,<br />
с каким зверством демонстрируют ужасающую мощь их лапы, каким крепко сбитым выглядит<br />
их тело, хаотически составленное из человеческих и животных форм, как противно<br />
их украшение человеческими головами и потрошенными мертвецами! В религиях более<br />
высокого уровня этот образ хищного животного исчезает. Ложь, зависть и спесь — качества,<br />
которые выходят на первый план как постоянные черты сатанинских душ, в то время<br />
как убийство выказывается результатом ранней дьявольщины.<br />
Одухотворение изображения лишает форму точности, особенно развивая ее в злых<br />
действиях, как в случае индийского демона Калиса, персидского Эшема, изображенного<br />
пузатым существом с головой гиппопотама египетского Сета, которого греки называли<br />
Тифоном. Греки понимали зло как отрицание меры природы и нравственности, но не изображали<br />
его конкретной индивидуализацией. Уродство отрицательности было разделено<br />
на разные субъекты и моменты [82]. Многочисленные титанические силы упомянутого<br />
индийского многобожия вступали в борьбу с новыми божествами, но они не были злыми.<br />
Неотесанные одноглазые циклопы были не столько злыми, сколько грубыми. Грайи 1 были<br />
юными девушками с белыми волосами, Форкий имел только один передний зуб, гарпии<br />
обладали отвратительной внешностью хищных птиц, сирены — торсом юных девушек, нижняя<br />
часть которых завершалась рыбьим хвостом, ламии 2 и эмпусы 3 вечно жаждали крови<br />
прекрасных подростков, которых они соблазняли, сатир с копытами козла предавался<br />
порокам и пьянству — все эти фантастические существа не были злыми в подлинном<br />
смысле этого слова. Дети ночи, которых в своей Теогонии перечислял Гесиод, были<br />
1 Грайи (а также Graeae) — доолимпиские чудища, рожденные от союза Форкия и Кето. Всегда были втроеми<br />
особенно безобразными, с белым волосом, с одним глазом и одним зубом, который одалживали одна другой.<br />
2 Ламия — фантомная женщина монструозного вида. Воровала детей, чтобы высосать их кровь.<br />
3 Эмпуса — в греческой мифологии женщина-демон, мифическое существо с ослиными ногами, напоминающее<br />
вампира (упыря), высасывающего по ночам кровь у спящего человека.<br />
страшными, но не злыми. Миф о Прометее воспроизводил происхождение страдания,<br />
но не зла. Таким образом, необходимо признать, что, вопреки их нравственной глубины,<br />
греки остались чуждыми изображению сатанинского зла. Напротив, изображение зла<br />
посредством Локи в скандинавской мифологии более сконцентрировано. Локи совершенно<br />
сатанинским образом ненавидел доброго и дружественного Бальдра. В азарте веселой<br />
игры, боги решают провести его. Но сначала все предметы были околдованы, чтобы<br />
не принести ему никакого вреда, и только стрела была спасена Локи от такой заколдованности.<br />
Она была смертельной стрелой. Локи отдал ее слепому старцу Хёдору, чтобы тот<br />
пустил ее в Бальдра. Впоследствии зевсы наказали Локи, прикрепив его цепями к скале<br />
и отдав власти ядовитых змей. Но смерть доброго Бальдра породила мировую катастрофу,<br />
его неизбежный путь к исчезновению. Идея того, что после смерти ставшего жертвой<br />
зла доброго зевса существование мира становится невозможным, особенно прекрасна<br />
и глубока.<br />
В аспекте иудейского монотеизма, принявшего от Иеговы миссию испытания Хиоба,<br />
Сатана является только ангелом, но не дьявольским, оторванным от Бога существом.<br />
Только впоследствии евреи от парсизма вернулись к изображению Эшема, зевса-мухи,<br />
и т. д. И в исламе Эблис пребывает в хороших отношениях с Аллахом. Он обещает привлечь<br />
всех, кто перейдет в магометанство, чтобы обречь их на вечный огонь ада. Гаргу<br />
турков и всей Северной Африки, представленный также как главный персонаж в китайской<br />
игре теней, является дьяволом, но только наглым, настроенный на каверзы [83].<br />
И только в христианстве, вместе с абсолютной глубиной его свободы, зло осуществляется<br />
под видом абсолютно отрицательного, обособленного и замкнутого в себе сознания.<br />
Противопоставляя себя Богу-человеку, абсолютное зло не может не принять человекоподобную<br />
форму, даже если вначале это был сильный, крылатый ангел, который отличался<br />
от остальных ангелов разве что темно-черными крыльями. Таким представлен дьявол в<br />
старых миниатюрах. Дьявольское изображалось также и как триединство зла под видом<br />
трех одетых в доспехи, носящих корону и скиптр омерзительных персонажей с высунутыми<br />
языками, как можно увидеть на одной репродукции из «Iconographie chretienne»<br />
[«Христианской иконографии»] А. Н. Дидрона [84]. Впоследствии, как в пизанском Кампо-Санто,<br />
художники изображали крылья дьявола крыльями ночной мыши до тех пор,<br />
пока тенденция к более сильным контрастам не привела искусство к использованию других<br />
животных форм. Использование формы человека как доминирующая тенденция<br />
в изображении сверхчеловеческого обусловило появление в Средних веках мифа о Мерлине,<br />
когда, имитируя Бога, дьявол также захотел иметь сына. С этой целью он вступает<br />
в близость с монахиней без ее ведома, чтобы соединить силы добра и силы зла. Мерлин,<br />
плод этой связи, носимый и рожденный святой девой как сын дьявола, предназначен разрушить<br />
царство сына божьего. Конечно же, результат был абсолютно противоположным.<br />
Как известно, старая французская легенда о Мерлине была переведена на немецкий язык<br />
Фр. Шлегелем [85]. Прекрасная драма «Рождение Мерлина» Шекспира и Г. Роули [86]<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
220<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть третья<br />
221
мастерски очертила фигуру дьявола, характерного инфернальным величием, который,<br />
все же, совсем не пугает сына и оберегает нас от жестких конфронтаций со своим отцом<br />
— по сравнению с упоминавшейся пьесой Скриба «Роберт дьявол», это диаметрально<br />
противоположное отношение, в котором имеет место абсолютно сентиментальная трактовка<br />
сына со стороны отца. Мерлин Иммермана представляет идею дьявольского недостаточно<br />
глубоко — поэт не постиг христианское значение этого мифа, ограничившись<br />
больше космогоническими фантазиями гностического типа.<br />
Недочеловеческая конфигурация сатанинского происходит от античных масок сатиров.<br />
Доказательства такого рода можно встретить у И. Пайпера в сочинении«Мифология<br />
и символика христианского искусства с древнейших времен до XVI века» (т. I, 1847,<br />
стр. 404–406). На одной из находящейся в канцелярии Пизы фресок 1260 года под названием<br />
«Страшный суд» Никколо Пизано изобразил Вельзевула сатиром. Это первое изображение<br />
такой модальности дьявола в европейском искусстве. В XIV веке снова находим<br />
ее в «Кампо Санто Пизано» в житии св. Рене, а в дальнейшем эта модальность появляется<br />
с возрастающим постоянством. Лев и дракон (как и крокодил, червь, гидра) стали<br />
символами сатанинского. В дальнейшем художники не ограничивались переплетением<br />
различных животных форм, но и самым диким образом перемешивали эти формы с неодушевленными<br />
предметами — бочками, пивными кружками, горшками, человеческими<br />
головами и телами. В таких мозаичных композициях они пытались конкретизировать бесконечную<br />
абсурдность и непостижимость зла. Какое богатство дико-гротескных гримас<br />
создали в этой области Иероним Бохс, Брейгель, Тениерс и Калло! Эта фантастическая<br />
деформированность применялась и в изображении соблазна святых демонами, с целью<br />
подчинить их себе, и не в меньшей степени в изображении ада, для того, чтобы напомнить<br />
о муках осужденных. В символическом изображении пороков и их наказания художественное<br />
воображение было неисчерпаемым. В своем «Аду» Данте еще многое сохраняет<br />
из античного характера изображения, что особенно бросается в глаза в иллюстрациях<br />
этого произведения Дж. Флаксманом. Здесь доминирует еще и пластическая модальность<br />
видения и группировки. Напротив, в «Похищении Прозерпины» Брейгель накладывает<br />
на античный Тартар 1 христианские формы ада. В истории искушения святого Антония<br />
видим смесь злых духов, упырей, чертей и дьяволиц, предназначенная конкретизировать<br />
в воспринимаемых образах внутреннюю борьбу святого и дьявола, изображенного прекрасной<br />
женщиной. И все же, эта соблазнительная красота выдает свое происхождение<br />
некоторыми деталями — это пробивающийся через водопад локонов рог, выглядывающий<br />
из под подола бархатного платья хвост, проглядывающее через ткань лошадиное копыто.<br />
Но в большей степени такие символические атрибуты должны помочь заметить<br />
лживую видимость этой, скрывающей в себе смерть и несчастье, дьявольской красоты, —<br />
1 В античных представлениях Тартар изображается как некое подземелье, куда были брошены на вечное наказание<br />
враги богов. Позднее Тартар отождествляется с инфернальным.<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
222<br />
это отношение, черты, жесты и взгляд протягивающей бокал женщины. В изображении<br />
этой темы Жак Калло [87] продемонстрировал избыток изобретательности, когда одна<br />
выдумка сильнее другой. Он нарисовал большую, каменистую яму, изобразив на ее дне<br />
людей под карающим вихрем огня и воды. На первом плане изображения с правой стороны<br />
виден силуэт святого Антония, защищающегося от пороков, пытающихся охватить его<br />
и унести с собой. Он изображен как раз в то мгновение, когда одержал победу над соблазном<br />
сладострастия. Из темного угла горы поднимается что-то похожее на крысу<br />
с очками на физиономии и направляет в его сторону готовое выстрелить ружье. На маленьком<br />
плато горы, над гротом, в котором прятался отшельник, собралась странная<br />
группа. Голое тело птичьего вида, с вздутым животом и длинной шеей, с получеловеческим<br />
и полунечеловеческим лицом читает литургию. Нельзя себе представить нечто более<br />
лицемерное. Поп окружен чертями самого разного свойства, ни один из них не похож на<br />
другого, но все они обладают общей чертой — то же отталкивающее выражение чувственности<br />
и самой вульгарной двойственности. Один подтягивается, другой, на коленях оседлав<br />
ишака, будто провозглашает прощение грехов. Одни играют на носу как на кларнете,<br />
лица других изображено задом, по которому они бьют, будто по барабану. В самом левом<br />
углу изображения видна острая, сильно возвышающаяся над остальными гора. На одном<br />
из ее выступов расположено более чем странное существо, с крайне воинственным видом<br />
смотрящее вверх, откуда монстр бросает в скалящуюся рожу испражнения. И это доставляет<br />
ему удовольствие. На самом переднем плане лежит составленное из железок и жести<br />
четверолапое существо, широко открытая пасть которого извергает копья, ружья,<br />
луки, пули и снаряды, потому что дурной шутник поджег ему зад фитилем. Перед ним бежит<br />
рак с дымящимся фонарем. А посреди всех этих дико уродливых существ разворачивается<br />
безумный триумфальный марш. На шее и черепе скелета животного сидит голая<br />
женщина с зеркалом. Это Венера? И над всеми этими выдумками изощренной фантазии<br />
зависает адский бес, изрыгающий дьявольские создания, которые размножаются уже<br />
в воздухе, подобно тому, как злая мысль бесконечно порождает другие злоумышления.<br />
По сути, сверхчеловеческий тип сатанинского столь же прост, сколь разнообразен тип<br />
недочеловеческий. Но какими фантастическими не были бы выдумки последнего, они имеют<br />
все же отношение к человеческой структуре, потому что постоянно идет речь о человеческой<br />
свободе и характеристике степени ее отдаленности от божественной необходимости.<br />
Поэтому живопись придала типу человеческую голову с хитро льстивым и злобно<br />
вежливым лицом даже райской змее, что с высоты древа познания шипит своими софизмами<br />
перед низшими живыми формами. Поскольку же иной, кроме человеческой души,<br />
в которой можно непосредственно познать индивидуальность, не существует, нет ничего<br />
странного в том, что искусство будет изображать сатанинское под видом человека. По сути,<br />
форма дьявольского под видом злого ангела — та же самая душа. Вера в то, что дьявол<br />
может принять любой образ, следовательно, и человеческий, обусловливает возможность<br />
его художественного изображению в виде человека. В этом смысле в искусстве прокарл<br />
розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть третья<br />
223
явились два отличных отправных момента: первый изображает демоническое под видом<br />
монаха, во втором сатаническое появляется под видом охотника. Первый пункт относится<br />
к церковному направлению, второй — к светскому. К примеру, первую форму можно<br />
увидеть на картине Патениера, написанную на тему страстей Христа и на которой одетому<br />
в монашенскую рясу дьяволу оставлены как характерные черты только маленькие когти<br />
на руках, а дьявольская сила и энергия закреплены за индивидуальностью фигуры<br />
и физиономии, что, разумеется, для художника было более сложной задачей, чем изображение<br />
атрибутивных характеристик. Таким же образом представил дьявола в его противостоянии<br />
Фаусту голландский художник Кристоф ван Сигем, а именно под видом<br />
францисканского монаха, с крепким телосложением, с круглым, сильным лицом, на котором<br />
запечатлена чувственность и хитрость, с маленькой, но и приятной рукой с короткими<br />
мясистыми пальцами [88]. Мефистофель — название дьявола в старой фаустической<br />
легенде — ведет с доктором спекулятивные теологические дискуссии о происхождении<br />
мира, о иерархии душ, о сущности греха, обо всех тайнах потустороннего мира, и его монашенская<br />
фигура очень хорошо соответствует всем этим темам. В посвященной Фаусту<br />
поэме Гейне замечает, что Гёте, по-видимому, не знал этот аспект древней легенды, который<br />
еще отражен в трагедии «Фауст» англичанина Кристофера Марлоу (1604 г.) и что,<br />
возможно, он выбрал элементы своего Фауста из вариантов, которые ставились на сценах<br />
театра марионеток, но не из народных книг. Иначе он не допустил бы, чтобы Мефисто появился<br />
в маске такого шутливого, стерильного цинизма. Он не простой головорез из ада,<br />
а изощренный дух, определяющий себя особенно благородным и совершенным, с высоким<br />
положением в иерархии подземного мира, в управлении адом, где он один относится к государственным<br />
мужам, из которых может быть избран «канцлер рейха». Этот упрек необоснован,<br />
потому что, хотя Мефисто и не является обладателем теологической доктрины,<br />
он все же не лишен метафизичности.<br />
Другое, светское направление изображает дьявола как охотника, таким, каким он<br />
встречается на полотнах южной немецкой школы — в зеленом, облегающем костюме,<br />
в высокой шляпе, украшенной пером горного петуха. Его лицо покрыто пергаментными<br />
пятнами, сухощаво, костляво, с чертами лешего, у него длинные руки, жесткие ладони<br />
и костлявые пальцы, в целом — это театральная маска, ставшая у нас стереотипной благодаря<br />
картинам М. Ретша, Ари Шеффера и их имитаторов. Поскольку в народном суеверии<br />
дикий дьявол и есть подлинный дьявол, то есть, Отин, эта антропоморфическая<br />
форма навязывает себя от самое себя. В «Волшебном маге» Кальдерона желающий совратить<br />
св. Киприана демон появляется в человеческом образе. У авторов религиозных повестей<br />
сатана снова появляется в сверхчеловеческом облике — у Дж. Мильтона как воинствующий<br />
князь ада, у Ф. Г. Клопштока как впавший в меланхолию создатель.<br />
От этого антропоморфного воплощения дьявола необходимо также отличить форму,<br />
в которой сам человек становится дьяволом, что в соответствии с нищей моралью глупо<br />
благожелательной теологии не было бы возможным, и даже не должно было бы быть возмария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
224<br />
можным, но в реальности случается часто. Ужасно, но — правда, что мы, люди, восстаем<br />
против нашего божественного происхождения и можем быть неутомимыми в жажде утверждения<br />
собственного «я». Здесь идет речь не об единичных моментах зла, наподобие<br />
распущенности, жажды власти и других подобных явлениях, а о пучине абсолютного<br />
и сознательного эгоизма. Отталкиваясь от этой формы, одно направление развивается<br />
больше в значении действия, другое — больше в значении сатанинского благодушия.<br />
В этом направлении искусство создало образы Иуды, Ричарда III, Маринелли, Франца<br />
Мура, секретаря Вурма, Франческо Ченси, Вотрена, Лугарто и т. д. В действиях этих преступников<br />
можно еще отыскать некоторую наивную ясность отрицательного принципа,<br />
но в этих созерцательных дьяволах зло в отвратительной форме деградирует через софистическую<br />
игру злой и мерзкой иронии. Но беспокойный и уязвимый, истощенный наслаждениями<br />
и немощный, пресыщенный и скучающий, рафинированный и циничный,<br />
воспитанный без единой цели, отдающийся любой слабости, порочный и легкомысленный,<br />
играющий со страданием, развивший идеал сатанинского пресыщения современник<br />
появляется в английских, немецких и французских романах с претензией считаться благородным<br />
и совершенным, потому что эти герои «обычно много путешествуют, пьют<br />
и едят изысканные блюда, одеваются в самые изысканные одежды, пользуются духами<br />
пичули и обладают самыми элегантными манерами людей света. Но их благородство<br />
не что иное, как самая новая форма антропологического выражения сатанинского принципа.<br />
Это аспект дьявольского, которое осознанно погрязат в грехе, чтобы позже пережить<br />
сладкую дрожь сожаления, презрения к людям, предпочитает культивацию зла исключительно<br />
из желания предаваться опустошенному чувству вселенской ничтожности,<br />
гениальному бесстыдству, оставляющие мораль мещанам, страх к возможности реальной<br />
истории, отсутствие веры в живого Бога, открывающегося нам в природе и истории — все<br />
это уродство страдающих внутренним распадом пессимистов было хорошо охарактеризовано<br />
Й. Шмидтом в его «Истории романтики» (1848, т. II, стр. 385–389). Начало этого<br />
сатанизма обнаружено им в «Ловеласе».<br />
Возможность расстворения сатанинского в комическом заложена уже в противоречии<br />
его происхождения. Его стремление основать в универсуме состояние исключительности<br />
представляется тем бездумнее, чем больше с этой целью используются знание и воля.<br />
В сравнении с возвышенным характером божественной мудрости и величия, сознание<br />
и сила дьявола предстают ничтожными. Средства, которыми он пользуется для достижения<br />
цели, приводят, в конце концов, к осуществлению противоположного. В этой перспективе<br />
изображало дьявола христианское искусство. Средние века развили свое комическое<br />
видение этой перспективы. В качестве порока дьяволу приписывалось безумие и из<br />
этой ситуации впоследствии рождается клоун. Вопреки своим усилиям, дьявол терпит поражение<br />
во всех своих начинаниях и, после того как некоторое время он творил пакости,<br />
в конце концов становится посмешищем. Народ в своих легендах трактует дьявола как<br />
жалкого, глупого и одновременно нелепого персонажа. В «Глупом дьяволе» Бена Джонкарл<br />
розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть третья<br />
225
сона дьявол одурачен всеми людьми и, в конце концов, заключен в тюрьму, откуда должен<br />
быть освобожден Сатаной. В одной из финальных английских сцен Пунч даже убивает<br />
дьявола и поет:<br />
Охо! Конец страданию.<br />
Потому что сам дьявол мертв!<br />
В Средние века фигура дьявола, силу которого христианская вера считала преодоленной,<br />
допускала свободу запрещенной в иных случаях критики. Впоследствии, как<br />
и темная строна зла, эта сторона комического была иллюстрирована конкретными человеческими<br />
индивидуальностями. Таким образом, дьявол стал ненужным искусству и в комическом<br />
искусстве он деградировал до статуса аллегорических персонажей, которые<br />
только в случае композиций характера барокко или бурлеска еще допускают применение<br />
некоторой поэзии, как, к примеру, в одной из комедий К. Граббе, в которой, появившись<br />
на земле зимой дьявол, не выдерживает разницу температуры и замерзает, будучи найден<br />
в таком состоянии на дороге сельским учителем. Просвещенный относительно веры в дьявола<br />
учитель считает его необычным явлением природы и, обрадовавшись такому раритету,<br />
забирает его к себе домой. Но попав в тепло, дьявол размораживается, что приводит<br />
к разворачиванию целого звена особенно комических ситуаций. Парижане также умели<br />
тонко изображать образ дьявола в чудесных рисунках — в так называемых дьяблериях<br />
фантастических силуэтов в стиле китайских теней. Они также по-своему продолжают<br />
развитое Брейгелем — Калло — Гофманом направление карикатуры, которое французы<br />
некоторое время упрямо считали подлинно романтическим. В заключение этой короткой<br />
эстетической феноменологии дьявола хочется описать подобную дьяблерию, которой мы<br />
обязаны Николет. Мы на блестящем балу, многочисленные пары влюбленных изображены<br />
в самых разнообразных вариациях отношений. Внезапно, среди этой пестрой танцующей<br />
толпы появляются три страшных, взобравшиеся друг на друге черта, которые при помощи<br />
гармошки, охотничьего рога, тамбурины и самбуки устраивают жуткий концерт.<br />
За ними следует странное существо, с несколькими большими колоколами в руках, а за<br />
ним входит еще один, выбивающий такт при помощи цепей черт; другие черти усиливают<br />
этот оркестр, стуча половниками по ведрам и выдувая в воронку. Страшно веселясь, трое<br />
не очень уродливых с виду мужчин тащат в зал громко сопротивляющегося безобразного<br />
черта. Его окрутили веревкой и туго связывают. Доставленный посреди зала, этот последний<br />
окружен всеми присутствующими женщинами, просящие его совершить ритуал омоложения.<br />
Черт ловит их по очереди, засовывает в большую корзину и располагает в центре<br />
зала огромную, соединенную трубкой с другим сосудом ступку. Другой черт бросает<br />
женщин в ступку, а уродливый перемалывает их с сардоническим, издевающимся смехом.<br />
За этим событием следует парад масок, который может себе представить только самое<br />
больное воображение. Сначала черт на коньках, потом курящий трубку и оседлавший<br />
скелет лилипута китаец, амазонка, взбирающаяся на дикого кабана, который также<br />
на коньках, утонченная гулящая женщина, спрятавшая в подоле черта, оседлавший удода<br />
благородный старец с зонтом и мечом и, наконец, целый ряд чертей с птичьими, обезьяньими<br />
и собачьими головами, размытые скелеты и силуэты. Посреди этой бешенной фантастической<br />
кучи находится фигура тучного Вельзевула с чашей в руке, а перед ним —<br />
огромный скелет в охотничьих сапогах протягивает ему бутылку шампанского. Пробка<br />
вылетает и, вместо пены, из бутылки в протянутую чашу вылетают мухи, скорпионы,<br />
змеи, маленькие черти, клопы и блохи. Замыкает этот парад сильфида, исполняющая восхитительное<br />
балетное соло. Но внезапно появляется черт с кнутом. Сильфида теряет<br />
крылья, вместо которых вырастают руки. Удар кнута и танцовщица начинает танцевать<br />
и двигаться на руках. Повсюду в воздухе парят такие же сильфиды, движимые сквозняком,<br />
образованном дыханием ада, которых можно созерцать, когда в состоянии равновесия,<br />
на кончике меча, когда перепрыгивающих через колесо до тех пор, пока, в конце<br />
концов, оседлавшие фантастических драконов черти не схватят своими когтями танцовщиц,<br />
исчезая вместе с ними вдаль.<br />
«Такова судьба лесных красавиц».<br />
В. КАРИКАТУРА<br />
Прекрасное являет себя как возвышенное или приятное, или же в образе абсолюта, который<br />
в полной гармонии гасит в себе противоположности возвышенного и приятного.<br />
Менее трансцендентное, чем величественное, менее удобное и приемлемое, чем приятное,<br />
абсолютное трансформирует бесконечность возвышенного в достоинство, а конечность<br />
приятного в грациозность. Но достоинство может быть и грациозным, а грациозность может<br />
быть преисполнена достоинства. Как производное явление, безобразное по своей<br />
сути зависит от прекрасного. Оно низводит достоинство до ординарного, приятное до отвратительного,<br />
а абсолютную красоту до карикатуры, через которую достоинство становится<br />
пафосным, а очаровательность грациозности — кокетливостью. Таким образом, карикатура<br />
представляет собой кульминационную точку оформления безобразного,<br />
но именно поэтому посредством специфической рефлексии собственного, карикатуризируемого<br />
ею положительного контраста она делает возможным переход в комическое.<br />
До сих пор в безобразном разворачивалось пространство, в котором оно может стать<br />
смешным. Отсутствие формы и неточность, ординарное и отвратительное могут продуцировать<br />
посредством самоаннигилляции некоторую невозможную реальность, а через нее<br />
— комичное. Все эти детерминации переходят в карикатуру. Мутируя через все подвиды<br />
данных категорий, карикатура предстает также аморфностью и неточностью, ординарностью<br />
и мерзостью. В своих хамелеонских превращениях и в их различных корреляциях<br />
она неисчерпаема. Становятся возможными коварное величие, анемичная сила, вульгарная<br />
изысканность, возвышенная ничтожность, плоская грациозность, деликатная грубость,<br />
смысловая бессмыслица, примитивная полнота и тысячи других противоположных<br />
отношений такого рода. В этом смысле феномен карикатуры до сих пор рассматривается<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
226<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть третья<br />
227
косвенно. Но в более точном смысле суть карикатуры заключается в гиперболизации момента<br />
некоторой формы вплоть до ее деформации. И все же это определение пока что заужено,<br />
даже если оно точно в целом. И это потому, что преувеличение также имеет свой<br />
предел. В-себе оно является таким количественным превращением качества некоторой<br />
меры, которое через принижение или подчеркивание связано с сущностью этого качества.<br />
Посредством принижения или бесконечного ссуживания качества определенной меры<br />
безмерное превращение становится разрушением такого качества, ибо между качеством<br />
и количеством существует внутренняя связь. Само количество является пределом качества.<br />
Поэтому кажется смешным, когда некоторому простому качеству навязывается нечто<br />
условное. В относительной мере качество может включать в себя различные степени, но в<br />
абсолютном значении оно может быть лишь одним. Золото как таковое не может быть более<br />
золотым, мрамор — более мраморным, всепознающее более всепознающим, треугольник<br />
более треугольным и т. п. Охотник-любитель приходит к продавцу, чтобы купить<br />
пули, продавец предлагает ему большой ассортимент, среди которого один намного дороже,<br />
но зато и эффективнее других. Эти отличия степеней здесь вполне допустимы.<br />
Но если продавец предложил бы одно-единственное наименование, аргументируя тем,<br />
что оно эффективнее убивает, в таком случае такая сравнительность становится смешной,<br />
так как мертвее мертвого не может быть ни один убитый зверь. Но от обстоятельств<br />
зависит, чтобы в этом случае такая смешная относительность представала в абсолютно<br />
новом свете. Поскольку, к примеру, смертная казнь в России была отменена, человека могут<br />
наказать тысячью палочных ударов. Таким образом, под конец солдаты бьют передающийся<br />
через строй труп, тогда это избиение мертвого во имя исполнения наказания ни<br />
в коей мере не является комичным. Поэтому преувеличение и усиление, как и приглушение<br />
и подчеркивание еще не представляют собой карикатурность. Атлетическое увеличение<br />
телесной силы мало относится к деформации, как и бессилие больного. Богатство<br />
такого рода как богатство Ротшильда также не относится к карикатуре, как и тяжесть<br />
большого долга. Свифтовские гиганты из Бординьяка, как и лилипуты из Лилипутии являются<br />
фантастическими, но не карикатурными созданиями. Больной организм перегружает<br />
деятельность больного органа, страстный человек взвинчивает свои чувства по отношению<br />
к объекту своей страсти, порочный индивид преувеличивает свою зависимость<br />
от порочной привычки. Но никто не будет считать чахотку карикатурой слабости, патриотическое<br />
самопожертвование — деформацией любви к родине, или расточительность —<br />
карикатурой щедрости. Само по себе преувеличение неточно, относительно. Если ограничиваться<br />
им самим, тогда потопы, ураганы, пожары и др. мы должны были бы считать карикатурными.<br />
Чтобы достигнуть более точного определения карикатуры необходимо<br />
ассоциировать преувеличение с диспропорцией, с несогласованием идеального момента<br />
формы и ее целостности как аннулирование единства, которое должно было быть присущим<br />
данной форме в соответствии с ее природой. Если, к примеру, форма будет увеличена<br />
или уменьшена в равной степени и во всех ее частях, тогда пропорции останутся теми<br />
же и, как в случае со Свифтом, не породят безобразное. Но когда отдельная часть целого<br />
выделяется таким образом, что аннулируются нормальные пропорции между отдельными<br />
частями, тогда рождается дислокация и нарушение равновесия целого, которая безобразна.<br />
Диспропорция постоянно обязывает предполагать пропорционально форму.<br />
К примеру, большой нос может быть красивым. Но если он будет слишком большим, тогда<br />
будет приглушено лицо в целом. Возникает диспропорция. Мы неосознанно сравниваем<br />
его величину с величиной лица в целом и понимаем, что он не должен был бы быть<br />
таким большим. Его чрезмерность превращает не только его самого, но и лицо, частью<br />
которого нос является, в карикатуру. Таким образом, преувеличение приводит к диспропорции.<br />
Но здесь также необходимо ограничение. Простая диспропорция может иметь<br />
своим следствием простую некрасивость, которую еще нельзя считать карикатурной.<br />
Любая ординарная или отвратительная форма может считаться карикатурой, поскольку<br />
она является деформацией прекрасного. То, что обыденная речь порождает неточности и<br />
то, что часто простая некрасивость называется карикатурой, не является поводом для того,<br />
чтобы пренебречь более точным научным определением понятия. В этом смысле карикатурой<br />
может считаться только отражающаяся в некотором положительном контрасте<br />
деградированная форма, которая навязывает этому контрасту превращение в безобразное.<br />
Но для этого недостаточно одной аномалии или неправильности, а необходимо<br />
деформирующее целостность преувеличение, которое, как динамическая сила, должно<br />
усложнить целостность. Ее дезорганизация должна стать органичной.<br />
Тайна рождения карикатуры находится в понимании вышесказанного. Из-за ложного<br />
предпочтения целому его отдельных моментов в дисгармонии снова рождается некоторая<br />
гармония. Безумная тенденция (если так ее назвать) некоторой части пронизывает остальные<br />
и порождает ложную точку тяжести, вокруг которой начинают вращаться все элементы<br />
формы, порождая более или менее выраженную деформацию целого. Этот всплеск<br />
деформации продуцирует не только ярко выраженное частичное безобразное, но своей<br />
аномалией пронизывает и все целое. Отметим здесь двойную модальность деформации,<br />
а именно узурпацию и деградацию. Узурпация возводит некоторый феномен в более мощную<br />
форму, чем та форма, которая соответствовала бы ему по содержанию; деградация<br />
низводит его до более низкой формы по сравнению с той, которая должна быть ему свойственной.<br />
Узурпация провоцирует некоторое бытие к такому противоречию, когда оно<br />
стремится казаться больше того, чем ему позволено. Деградация отбрасывает некоторое<br />
бытие в противоречие самодостаточности — в такие границы, которые уже были преодолены<br />
как примитивные. Таким образом, узурпация и деградация не тождественны усилению<br />
или ослаблению. Усиление представляет собой естественный рост или интенсификацию.<br />
К примеру, переработанная на немецком языке Гартманом фон Ауэ средневековая<br />
легенда «Григорий на скале», циркулирующая также в виде народного творчества, представляет<br />
собой христианское преувеличение античной легенды об Эдипе, но ни в коей мере<br />
не выступает карикатурой на нее. Следовательно, способ, при помощи которого Еврипид<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
228<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть третья<br />
229
1 Схема — упрощенная фигура, представляющая существенные черты некоторого объекта. Согласно Канту,<br />
схема является результатом воображения, поспешествующим интеллекту средством придания общей теории предметно-адекватного<br />
содержания.<br />
возобновил тему Ореста и Эдипа, относится к их трактовке Эсхилом — первой, а Софоклом<br />
— второй, и именно как поэтическое ослабление, но ни в коем случае не является их<br />
карикатурой. Следовательно, для того, чтобы через деформацию придать карикатуре усиленные,<br />
или уменьшительные характеристики, необходима еще одна операция — сравнение,<br />
к которому должно подстрекаться деформация. В качестве рефлексивных понятий,<br />
все определения безобразного включают в себя сравнение с теми позитивными понятиями<br />
прекрасного в-себе, к которым они относятся в отрицательной форме. Мелочность<br />
рефлексирует себя как мера через величие, подобно тому как слабость имеет свою меру<br />
в силе, низость — в возвышенном, грубость — в грациозном или отвратительное — в очаровательном.<br />
Карикатура же не находит свою меру только в некотором общем понятии,<br />
а предполагает точную соотнесенность с уже индивидуализированным понятием, которое<br />
может иметь очень общее значение и широкий объем, но все же должно выходить за границы<br />
простой абстракции. Как таковые, понятия семьи, государства, танца, живописи,<br />
жадности и др. не могут принимать форму карикатуры. Для того, чтобы образ-прототип<br />
мог быть карикатурно деформированным, необходимо, чтобы между его смыслом и карикатурой<br />
находился, по меньшей мере, промежуточный образ того опосредования, которого<br />
Кант в «Критике чистого разума» называл «схемой» 1 . В состоянии простой абстрактной<br />
сущности образ не должен оставаться прототипом, а должен достигать индивидуальную<br />
форму. Но то, что мы здесь называем карикатурным прототипным образом, должно восприниматься<br />
не в качестве исключительно идеального, а только в значении некоторого позитивного<br />
базиса, положительной основы как таковой, поскольку он сам может обладать<br />
эмпирически выраженным аспектом. В «Облаках» Аристофан использует деградацию философии,<br />
софистику, ложный логос. Как философскую карикатуру он представляет Сократа.<br />
Крадущий хитоны упражняющихся гимнастов Сократ измеряет прыжок блохи,<br />
выдает ложь за истину, а с целью сближения с афинянами он превращает в своей комнате<br />
бочку с брынзой в трон; Сократ, который водит своих учеников за нос, конечно же, не тот<br />
Сократ, с которым Аристофан принимал участие в горячих философских симпосионах.<br />
Но, в некотором смысле, он все же тот Сократ, так как его рост, босые ноги, его посох<br />
и борода, мания к диалектам — черты, которые Аристофан все же взял у Сократа, достигнув<br />
тем самым достоверную карикатуру. Философия как таковая не может быть окарикатуренной,<br />
но конкретный философ — может и наиболее распространенная, выдающаяся<br />
и приемлемая форма проявления философии в философе — это его догмы, метод, образ<br />
жизни. Это тот прием, при помощи которого Паллисо в «Философе» превратил в карикатуру<br />
натуралистическое евангелие Руссо, а Группе — традиции руководимой Гегелем кафедры.<br />
Для Аристотеля Сократ представляет собой «схему», переход к поэтической индимария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
230<br />
видуализации. Сократ обладал достаточной философской мудростью и городской культурой,<br />
чтобы присутствовать на представлении «Облаков» и даже задержаться в театральном<br />
фойе с целью помочь зрителям сравнивать себя с собственным сценическим образом.<br />
Если Аристофан просто вывел бы на сцену абстрактного софиста, тогда его персонаж был<br />
бы лишен индивидуальной глубины.<br />
Необходимо сразу же подчеркнуть отличия карикатур реальной жизни и карикатур, относящиеся<br />
к искусству. Карикатуры естественного мира также представляют собой противоречие<br />
феномена с собственной сущностью, то ли через узурпацию, то ли через деградацию.<br />
Но такая карикатура совершенно стихийна. Все рыцари промышленности, старчески<br />
мудрые дети, эрудированные педанты, псевдофилософы, государственные и церковные<br />
псевдореформаторы, псевдогении, вечно «восемнадцатилетние» женщины, чрезмерно<br />
рафинированные существа и т. п., как они возникают из извращения любой культуры, противоречат<br />
собственному замыслу — все эти формы бытия являются несомненными карикатурами.<br />
Но как эмпирическое бытие они настолько тесно и многосторонне переплетены<br />
с реальностью, что включают в себя множество других, часто достойных уважения отношений.<br />
Поэтому необходимо отличать их от эстетической карикатуры как продукта искусства,<br />
очищенного от случайных элементов эмпирического существования, выделяя, таким образом,<br />
однобокость, которая и напрашивается на карикатурность. Поэтому художественным<br />
аспектом реализации карикатурных форм выступает сатира. Понятия, относящиеся<br />
к сатире, относятся одновременно и к карикатуре. Все возможные в сатире изменения тональностей<br />
возможны и в карикатуре. Она может быть ясной или сумрачной, высокой или<br />
низкой, строгой или мягкой, агрессивной или смиренной, неловкой или шутливой. Но было<br />
бы неверным ограничение поиска карикатуры только областью живописи […]. В том же,<br />
что относится к понятию «карикатура» немцы через французов одолжили его у итальянцев,<br />
у которых «caricare» означает перегруженность, французы для обозначения карикатуры<br />
пользуются похожим словом «charge». Немцы раньше обозначали понятия карикатуры<br />
термином «Afterbildniss». Намного раньше Хогарта Леонардо да Винчи уделил особое<br />
внимание безобразному как средству выражения карикатурности, особенно в своих рисунках,<br />
среди которых самые многочисленные посвящены изучению головы.<br />
То, что природа производит карикатуры, можно утверждать только косвенно. Когда<br />
реальные формы не соответствуют сущности природы, тогда может возникнуть безобразное,<br />
а при определенных обстоятельствах — даже комическое. Но подлинная карикатура<br />
предполагает возможность того, чтобы деформации формы могли вернуться к состоянию<br />
настоящей свободы. Мы называем обезьяну карикатурой на человека, но хорошо<br />
знаем, что говорить это можно только в шутку. Обезьяна не является безобразным,<br />
деградированным человеком и невозможно написать сатиру на обезьяну, ибо она не может<br />
быть другой и мы не можем требовать от нее быть меньше обезьяной и больше человеком.<br />
Но сатира может отразить деградацию бесправного человека, не обзывая его при<br />
этом обезьяной, поскольку, отрицая свою сущность, этот человек сам опускается до такарл<br />
розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть третья<br />
231
кого уровня. Об отдельных идиотах вполне можно утверждать, что они представляет собой<br />
карикатуру на человека, поскольку в соответствии со своей сущностью они являются<br />
людьми и все же в своих проявлениях впали в скотство, в то время как, будучи по форме<br />
похожей на человека, обезьяна остается отличной от него по сущности. Если некоторые<br />
животные предстают тотальной деформацией собственного вида, в таком случае имеет<br />
место некоторое их ущемление со стороны человека и это снова аннулирует какую-либо<br />
эстетическую свободу. Привезенные на продажу задыхающиеся от собственного жира<br />
свиньи и коровы просто безобразны (возможно, даже комичны), но ни в коей мере<br />
не карикатурны. Вид лошади, когда-то галопирующей в первых рядах при сигнале дивизионной<br />
трубы, а теперь имеющей вид костлявой и истощенной клячи, которая тащит<br />
по улицам воз с мусором, представляет собой печальное зрелище, но не карикатуру.<br />
И все же, для того, чтобы реализовать сатиру посредством карикатуры на человека<br />
и средств маскарада и пародии, искусство будет обращаться именно к животному миру.<br />
Сатира огрубляет то, что в-себе истинно, раскрывая тем самым его слабость и делая его<br />
смешным. Животное очень подходит для изображения некоторых человеческих недостатков<br />
и пороков. Благородные черты человека в меньшей степени могут быть адекватно<br />
выражены при помощи аналогий с животной типологией, чем проявления ограниченного<br />
и эгоцентричного эгоизма. И все же животный мир достаточно велик и многообразен,<br />
и для того, чтобы представить более полное изображение человеческих поступков, он может<br />
использоваться как предмет выражения и положительных качеств. Восток, античность,<br />
средневековье, Новое время в равной степени любили изображать человеческие<br />
ипостаси в животных образах. Батрахомиомахия гомериков — одно из самых древних и<br />
удачных литературных творений такого рода. Древняя комедия пользовалась масками<br />
животных, которые можно еще встретить в «Осах» и «Лягушках» Аристофана. Среди<br />
мелких фресок помпейской живописи встречается множество сцен с гротескными животными<br />
в сатирических изображениях. Удод гордо восседает в коляске, которую тянут щеголи,<br />
бабочки и грифы. Утка стоит перед сосудом с вином, но преградой для утоления<br />
жажды является его стеклянная «крышка» и т.п. Особенно удачна композиция, где предметом<br />
смеха выступает Эней. Он изображен покидающим руины Трои, выносящим<br />
на плечах своего отца Анхиса и ведя за руку маленького Аскания. Эней и Асканий изображены<br />
обезьянами с собачьими головами, а Анхис — старым медведем. Вместо того,<br />
чтобы спасти домашних богов, последний взял с собой игральные кости. Трактовка этой<br />
картины как сатиры на царствующую семью и, параллельно, на самого Виргилия, как<br />
пытается это сделать Дезире-Рауль Роше в «Тайном музее Помпеи» (стр. 223–226), представляется<br />
надуманной. Почему не подвергается насмешки сам Эней, если в таких изображениях<br />
древние не пощадили даже зевсов? Насмехаясь над иудеями, евреями и монахами,<br />
средневековая скульптура в церквях привнесла множество такого рода карикатур.<br />
В баснях с волками и лисами поэзия пародировала явления универсального значения,<br />
которые в наши дни были изображены в живописи, а также мощно развиты гением<br />
В. фон Каульбаха. Он рисовал животных, наделяя их в реальной степени большей естественности<br />
и материальными человеческими чертами и все это с особенным чувством юмора,<br />
предельно органично конкретизированного в живописных новациях — как великолепен,<br />
к примеру, великий банкет, на котором слон вливает себе в глотку бутылку шампанского!<br />
И как чудесен коллективный портрет королевской семьи, на котором мама-львица<br />
развалилась в постели, полный достоинства, задумавшись, с очками на носу лев-отец прогуливается<br />
по комнате, а наследный принц сидит на горшке! Ценный вклад в этом направлении<br />
был сделан у французов Гранвилем посредством «политических» животных и иллюстрациями<br />
басен Ж. де Лафонтена. Искусство смешения человеческого телосложения<br />
и одежды с животной формой бесподобно. Как можно убедиться по сочинению Шарля<br />
Магнена «История марионеток в Европе от античности до наших дней» (Париж, 1852),<br />
другим, не менее эффективным средством пародирующей карикатуры были марионетки.<br />
Марионетки ярмарочных театров Сен Жермена и Св. Лаврентия пародировали не только<br />
высокую трагедию, как Орестея, Меропея и др., но и классическую комедию, например,<br />
«Лекаря по неволе» Ж.-Б. Мольера.<br />
Отличие между пародией и травести заключается в том, что пародия превращает в карикатуру<br />
только общее, а травести и его отдельные аспекты. «Троил и Кресида» Шекспира<br />
является пародией на героев Илиады, но не их травестированием. Благородные князья<br />
представлены грубыми, порабощенными чувственностью убийцами, Елена и Кресида —<br />
лицемерными и развращенными карикатурами. Своими сатирическими замечаниями сварливый<br />
и ободранный Терсит подчеркивает абсурдные действия известных героев. Шекспир<br />
преувеличил черты, которые представлены Гомером как характерные, насмехаясь таким<br />
шаржем над их героическим пафосом. Спесивость силы в образе Аякса, миссия руководителя<br />
Агамемнона, возведение на трон Менелая, дружба Ахиллеса и Патрокла, рыцарский<br />
авантюризм Диомеда возведены Шекспиром в пустое словословие — когда без прикрас<br />
обнажается безнравственность всех этих отношений, то такая характеристика пародийна.<br />
Напротив, основанная на травести карикатура нацелена на деформирование содержания<br />
и на частные детали, как поступали Скаррон и Блюмаер с «Энеидой» Вергилия, или<br />
Филиппон и Харт с романом Э. Сю «Заблудившийся жид». Они вместили объемный роман<br />
в девяти маленьких книгах, шаг за шагом пересказывая его главные действия, расскрывая,<br />
таким образом, ошибки его композиции, его противоречия и недостоверные ситуации,<br />
при помощи преувеличения подчеркивая скрытое уродство персонажей. Укротитель<br />
животных Морок, старый солдат Дагобер, воздушная Адриен де Кардовиль, горбунья<br />
Майер, индийский принц Дшалма, грубый Роден — вечный, всех обманывающий лгун<br />
— воплощены в рисунках Филиппона в самых смешных ракурсах. Здесь также присутствует<br />
пародийность, однако основанная на травести [89].<br />
Природа карикатуры (Fratze) выведена у И. Канта в «Наблюдениях над чувством возвышенного<br />
и прекрасного»: «Когда она становится совершенно неестественной, пространство<br />
ужасающего возвышенного становится приключенческим. В той степени, в какой<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
232<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть третья<br />
233
неестественные явления пытаются стать возвышенными, но преуспевают в этом только<br />
частично, или совсем не преуспевают, они становятся карикатурами. Хочу выделить это<br />
явление при помощи нескольких примеров, потому что тот, который лишен гравюрным<br />
скальпелем Хогарта, должен описывать то, чем не обладает в качестве силы выражения,<br />
а именно — рисунок. Храброе противостояние опасностям с целью защиты Родины или<br />
друзей возвышенно. Крестоносцы, древний кавалеризм носили приключенческий характер:<br />
дуэли, блеклые остатки последних представителей деформированного понимания чести<br />
карикатурны. Меланхолическая изоляция от мирской суеты вследствие оправданного<br />
отвращения благородна; затворническое переосмысление старых эремитов содержало<br />
в себе нечто приключенческое; монастырские пещеры, в стены которых заживо встраивались<br />
святые, карикатурны. Овладение собственными страстями при помощи принципов<br />
величественно; умертвление, клятвы и другие монастырские добродетели карикатурны.<br />
Святые мощи, святое древо и другие ветхости такого рода, включая святые экскременты<br />
тибетского Далай Ламы, карикатурны. Среди одухотворенных и особенно рафинированных<br />
эмоциональных произведений эпические произведения Виргилия и Клопшстока вписываються<br />
впространство благородного, а произведения Гомера и Мильтона — в пространство<br />
авантюры; метаморфозы Овидия карикатурны; волшебные сказки французской<br />
псевдовыдумки являются самыми жалкими из всех когда-либо существоавших карикатур.<br />
Анакреонтические стихи являются, как правило, очень близки к абсурду». Такое понимание<br />
карикатурного как чего-то неестественного, но предполагаемого возвышенным особенно<br />
с нравственной точки зрения, слишком сильно выходит за эстетические границы<br />
определения этого понятия. По Канту, немногого недостает, чтобы считать все явления<br />
фантастического карикатурой. Но, с одной стороны, мы считаем карикатурными только<br />
те деформации, которые становятся двойственными, а с другой — те, которые расформируют,<br />
разрушают нормальные, даже благородные формы, уродуя их. В первом случае карикатура<br />
может быть очень смешной, как, к примеру, в гениальных рисунках Тёпфера<br />
и других многочисленных персонажей Жан Поля, а во втором случае карикатура может<br />
вызывать смех или, по меньшей мере, улыбку, но одновременно оставить горький привкус,<br />
что помешает с удовольствием задержаться на ее созерцание. Гёте затрагивает эту<br />
<strong>проблем</strong>у в маленькой диалогической новелле «Деловые женщины». Автор вводит нас<br />
в круг спорящих о безобразном и выдвигающих идею о том, что воображение и живость<br />
ума более значимы в случае, когда они сосредоточены на безобразным, чем тогда, когда<br />
созерцают прекрасное. С уродливым много чего можно сделать, с красотой — ничего.<br />
Безусловно, красота представляет собой положительную ценность, наделяет нас существенностью,<br />
в то время как безобразное нас аннигилирует, а карикатура пробуждает незабываемое<br />
впечатление, которое, все же, не должно нравиться. «Почему наше изображение<br />
должно быть лучше нас самих?» — спрашивает себя один из участников спора. «Наш<br />
дух порождает две невозможные друг без друга стороны. Свет и тьма, добро и зло, высокое<br />
и ничтожное и много еще контрастов такого рода как будто составляют ингредиенты<br />
человеческой природы и поэтому художнику нельзя предъявлять претензии в том, что он<br />
изображает ангела в белом светлым и прекрасным, черта — черным, темным и безобразным.<br />
Амалия: Ничего нельзя было бы противопоставить этой идеи, если поклонники искусства<br />
уродования вещей попытались бы включить в этот процесс и нечто, что относится к более<br />
высоким областям.<br />
Сейтон: Конечно же, Вы правы. Но и поклонники приукрашиваний пытаются присвоить<br />
то, что им не принадлежит.<br />
Амалия: И все же, я никогда не прощу тех, кто все деформируют, особенно потому, что<br />
они с таким бестыдством разрушают образ великих людей. Они делают, что хотят, но я все<br />
же не смогу думать о великом Питте как о хвосте кривой метлы и о бесподобном Форе — как<br />
об откормленной свинье.<br />
Генриетта: Именно об этом я и говорила. Все эти карикатурные образы откладываются<br />
в памяти с несмываемой силой, и я не могу отрицать, что иногда и я мысленно развлекаюсь,<br />
порождая и еще больше деформируя эти призраки».<br />
Когда карикатура возникает из-за перегрузки, ее превосходным случаем будет гримаса,<br />
в которой запечатлено взвинчивание взвинченого, вплоть до хаотичного, размытого,<br />
как видно из приведенных выше размышлений Гёте. Гримаса как таковая безобразна всегда,<br />
но через дикую и гротескную форму она может быть превосходным средством порождения<br />
комического. Как богато творчество Шекспира такими карикатурными гримасами!<br />
Капрал Ним, Бардлоф, Дорота Лакенрейссер, Шаал, новобранцы в «Генрихе IV»<br />
и «Виндзорских насмешницах»; слуга Ланзе в «Двое юношей из Вероны», мировой судья<br />
и Констебль в «Много шума из ничего» и др. не что иное как гримасы — такие карикатурные<br />
персонажи заставляют смеяться от всего сердца. Гаргантюа и Пантагрюэль — такие<br />
же карикатурные персонажи. Также сильно выразительны в изображении карикатурных<br />
персонажей Л. Тик и Ч. Диккенс. Живопись породила бесчисленные разветвления комических<br />
карикатур. Напомним, в частности, композиции Брейгеля и Тениера. Даже<br />
скульптура, которой карикатура казалась бы совершенно несвойственной, культивировала<br />
ее в различных формах. И чем иным являются часто напоминающие монстров фигуры,<br />
в которых каменотесы средних веков освобождали свою фантазию, если не самыми<br />
страшными карикатурами! Созданные Дантаном 1 статуэтки Ч. Низара, Поншара, Листа,<br />
Бругхэма и др. являются карикатурами. Не обойтись без карикатуры и комической пантомиме.<br />
Фигуры обжоры, болтуна, глупца и дурака Пьеро, которого все лупят, как его<br />
трактовал Доминико на сцене итальянского театра в Париже,породившего его из одежд<br />
Полишинеля и карикатуры Арлекино, являются, по сути, карикатурой.<br />
1 Дантан Жан Пьер (1800–1869) — французский скульптор. Особенно известен терракотовыми статуэтками,<br />
в которых реализовывал хараткерные карикатурные портреты выдающихся современников (Берлиоз, Лист, Паганини,<br />
Россини, Шопен). Его дом был одним из самых известных музыкальных салонов Парижа. Автор скульптурных<br />
портретов Буальдье, Керубини, Мейербера, Верди, Вьетана.<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
234<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть третья<br />
235
Мы поделили карикатуру на две категории: естественную и порожденную искусством.<br />
Но абсолютизация такого деления была бы ошибочной — ведь между произведениями<br />
искусства возможны и такие, которые, не стремясь быть карикатурными, все же являются<br />
таковыми. Происхождение этого феномена заключается в том, что, согласно своей<br />
сущности, абсолютная красота стремится к уравновешиванию в себе крайних случаев великого<br />
и приятного. Сотворение истинной красоты предполагает глубокое понимание истины,<br />
— сила, которая редко встречается. Заурядность обладает достаточным чувством<br />
прекрасного, но не обладает достаточной оригинальностью, чтобы творить его. Она удовлетворяется<br />
некоторым псевдоидеализмом, который стремится к достижению некоторого<br />
идеала при помощи ущербного благородства формальной чистоты исполнения. Этот<br />
идеализм не порождает ничего, кроме фигур, что содержат в себе лишь аллегорически<br />
общую реальность, претендуя при этом на то, чтобы быть образами реальных предметов.<br />
Было бы хорошо, если бы они оставались лишь аллегориями, так как в таком случае они<br />
бы не противоречили самим себе. В таком случае они были бы лишь абстракциями.<br />
Но вместо того, чтобы удовлетвориться этим статусом, они требуют признания за ними<br />
качества действительности, полноты жизни, становясь безобразными, потому что обманывают<br />
нас кажимостью достигнутого совершенства. Искаженность любой положительной<br />
неточности, мелочное использование хорошо известных благородных форм, избежание<br />
любого преувеличения и экзальтирования, послушность используемых выражений,<br />
отрицательная щепетильность, при помощи которых реализуется деталь, преследуют<br />
цель скрыть отсутствие внутреннего содержания произведения и лишают художника возможности<br />
понять, что он породил лишь совершенную карикатуру. Выше не случайно упоминалось,<br />
что, превращая подлинный идеал в такие безжизненные тени, именно заурядность<br />
впадает в заблуждения такого рода. Даже гений не всегда защищен от опасности<br />
попасть на этот параллельный путь, так как абсолютная красота исключает из своего становления<br />
все крайности, а необходимость абсолютной гармонии может продуцировать<br />
импульс некоторого нивелирования, через который аннигилируется любая сила и свежая<br />
модальность, превращая их в ложную цель, в анемическую игру форм, в болезненное изящество<br />
формы как таковой. Естественно, что уродование абстрактного идеализма выбирает<br />
в качестве объекта гений и его борьбу с миром. Гений и сам является идеальной силой<br />
и, таким образом, где ярче мог бы выразиться идеал, кроме как в его представлении?<br />
Этому убеждению посвящено больше всего стихов, новелл, романов и драм, в которых<br />
представлены перипетии творческого процесса. Поскольку же, творчество как состояние<br />
в-себе невидимо, молчаливо, искренне и таинственно, творцы должна быть поставлены<br />
в ситуации, которые предоставляли бы им возможность выразить словами устремления,<br />
чувства, сокрушительную волю. И могло ли это лучше осуществиться, если бы не попадание<br />
творца в неприемлемые условия, при отсутствии понимания, при лишениях, бедности,<br />
социальном падении и т. п.? Так один за другим рождаются печальные поводы сказать<br />
правду неблагодарному, недостойному таких гениев миру, чтобы восполнить гордость<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
236<br />
возмущенного духа, который все же недостаточно горд, чтобы отказаться от аплодисментов<br />
этого же глубоко презираемого мира. От гётевского «Тассо» и «Корреджо» А. Оленшлягера<br />
почти ничего не осталось даже от очень известного художника, который в той<br />
или иной степени не был бы превращен писателями в меланхолический идеал, всегда расположенный<br />
в непосредственной близости к карикатуре, если он не карикатурен в полном<br />
смысле этого слова. Одной из часто обсуждаемых карикатур является «Чаттертон»<br />
Альфреда де Виньи, о постановке которой во французском театре Жюль Жамен писал<br />
в «Algemeine Theaterrevue» (1836, стр. 218): «Этот Чаттертон очень талантливый сумасшедший,<br />
которым движет и которого разрушает высокомерие. Вместо того, чтобы смело<br />
и старательно взяться за дело как муж, у которого есть будущее, он начинает жаловаться<br />
на людей и весь мир. В один день он сводит счеты с жизнью, потому что не хочет больше<br />
ждать. Конечно же, это грустно, но в то же время это печальный пример, который ни<br />
в коем случае не должен стать сюжетом для такой жалостливой эллегии. И вообще, молодым<br />
людям слишком редко говорят, что общество ничего не должно тем, кто для него<br />
ничего не сделал. Они думают, что если им приходят в голову стихи или прозаические сюжеты,<br />
человечество с раскрытыми объятиями должно открыть кошелек. По своей природе<br />
гений терпелив, и чем сильнее он чувствует в себе вечность, тем лучше умеет ждать. Где<br />
на этом свете можно найти гения, который не ждал бы с терпеливостью старого Горация,<br />
когда придет его черед? Не толкают ли к бунту эти юные нетерпеливые души, которые не<br />
понимают, что сама по себе молодость есть великое благо и так неблагодарны небу, что<br />
не чувствуют себя счастливыми от того, что молоды? Не поддерживайте своими буйными<br />
ламентациями, своей ложной жалостливостью стремление к самоубийству. Смерть<br />
Жильберта, Ж. де Мальфилатра, Чаттертона уже причинили много зла. С этой точки зрения<br />
«Чаттертон» Альфреда де Виньи является вредным и ноющим сочинением. Представьте<br />
себе поэта, который на протяжении целых пяти актов бегает по сцене, произнося<br />
антиобщественные стихи, потому что у него нет одежды и пищи. Но у него есть работа —<br />
почему он не работает? За какие заслуги человечество должно бежать ему навстречу<br />
до того, как своими произведениями он докажет свою незаурядность? Не получив отданные<br />
в долг деньги, один из кредиторов хочет посадить его в тюрьму. Пусть идет в тюрьму<br />
— там у него будет крыша над головой, его накормят и появится возможность писать,<br />
сколько захочется. Поэты более великие, чем Чаттертон, жили в цепях и не так уютно.<br />
Сам Шеридан был затворником одной из больниц, но от этого он не меньше стал Шериданом.<br />
Кронпринц предлагает Шеридану работу первого камердинера, но последний<br />
отказывается от нее. Ж.-Ж. Руссо не был таким гордым — он носил ливрею и все же<br />
остался Жан-Жаком, и если покончил с собой, то сделал это молча и тайно после того,<br />
как написал «Элоизу», «Эмилию», «Общественный договор».<br />
Довольно о карикатурах, созданных с убеждением, что их творцы таким образом достигают<br />
собственный идеал красоты. Довольно о завуалированных формах таких карикатур<br />
и ошибок, которые в их случае может допустить критика. Довольно о карикатурноскарл<br />
розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть третья<br />
237
ти, почти неизбежно детерминированной определенным субъектом. Но из всего этого<br />
следует, что точно также происходит и в случае преднамеренной карикатуры. Из-за того,<br />
что как произведение искусства карикатура подчиняется общим законам прекрасного,<br />
даже если ее форма находится в отрицательном отношении с этими законами, могут рождаться<br />
и неудачные карикатуры. Речь идет о тех карикатурах, которые, не поднимаясь до<br />
шутливой ясности проделки, замыкаются на тенденцию зла и на безобразность формы.<br />
Это те карикатуры, которые из-за обыденного, прозаически-банального зла, не могут освободиться<br />
от ничтожного желания оскорбить и обидеть. Но плохими карикатурами являются<br />
и те, которые недостаточно четко отражают свои элементы в предполагаемом<br />
противоположном образе, не обладая достаточным юмором и обусловливая своей избитостью<br />
усложненную интерпретацию их смысла. Остаются и те карикатуры, которые изза<br />
нечеткости изображения должны пользоваться внешними эффектами некоторых символизмов<br />
из-за нагромождения которых им угрожает опасность утраты естественной<br />
трактовки темы. И, наконец, плохими являются карикатуры, которые, развиваясь изнутри<br />
как реальная ирония над собственным содержанием, не способны найти или удержать<br />
момент, с которого и начинается деформация формы. Нередко можно слышать утверждение,<br />
что карикатура производна от художественного творчества неразвитого таланта<br />
и представляет собою занятие, являющееся делом вкуса. Эта банальная точка зрения оправдана<br />
лишь относительно неудачной карикатуры, так как творчество подлинной карикатуры<br />
не менее сложно, чем творчество прекрасного. Не будем забывать, что, как утверждал<br />
Платон в «Пире», лучший трагический поэт является и лучшим комическим поэтом,<br />
то есть комическое и трагическое в равной степени порождены глубокой душой и<br />
обладают равной силой. Античные трагики сами писали к своим трилогиям сатирическую<br />
драму. Большинство из этих драм не сохранились. Сохранилась лишь одна — «Циклоп»<br />
Еврипида. Но для понимания того, что процесс карикатуризации представляет собой душу<br />
этого литературного вида достаточно и этой комедии. Тот, кто презирает не только<br />
плохую карикатуру, но и карикатуру вообще, должен был бы перечислить античных трагиков,<br />
включая Аристофана и Менандра, Горация и Лукиана, Кальдерона и Шекспира,<br />
Ариосто и Сервантеса, Рабле и Фишарта, Свифта и Диккенса, Тика и Жан Поля, Мольера<br />
и Беранже, Вольтера и Гуцкова, не забывая также Брейгеля и Тенирса, Калло и Гранвиля,<br />
Хогарта и Гварини, и спросить себя при этом, можно ли считать создание таких оригинальных<br />
карикатур неразвитым художественным творчеством. Безусловно, без идеального<br />
содержания, без юмора, свободы, дерзости или изящества, без юмористической гибкости<br />
карикатура предстает не чем иным как вымученной, отвратительной и не менее<br />
скучной и невыносимой, как и любое иное произведение искусства.<br />
Карикатура должна представить идею под видом отсутствия идеи, а сущность под видом<br />
искаженности ее явления, но это отсутствие идеи и эта искаженность должны отражаться<br />
в реальной среде. Иными словами, она должна понимать искусство индивидуализации.<br />
Карикатура является подлинным контрастом прекрасного, которое содержит<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
238<br />
свою истину в себе самом и насыщено гармонией собственных форм. Карикатура, напротив,<br />
является состоянием выходящего за свои границы беспокойства, так как собой и через<br />
себя она одновременно выражает и нечто иное. Она — дифференцированая внутри<br />
себя форма, даже если, невзирая на эту дифференциацию, пребывает в относительной<br />
гармонии со своей эмпирической обусловленностью, из которой рождается бесконечность<br />
многообразия, состояния, действия. Тенденции самоопределения любого содержания<br />
могут стать для нее поводом. Можно наблюдать, как народы-соседи взаимно синтезируют<br />
свои характерные черты в карикатурных образах. Француз окарикатуривают англичанина,<br />
этот — француза и т. п. Знаменитые города порождают карикатуры, которыми<br />
смеются по поводу своих частных особенностей. К примеру, типы романских аттеланов<br />
мутировали в новые итальянские маски, в которые внесли лепту главные города Италии.<br />
Арлекино — это старый романский персонаж Саннио; Панталоне — венецианский<br />
торговец; Сеньор Доктор — болонец; Бельтрам — миланец; Скапен — бергамец; испанский<br />
капитан и Скарамуш (Негодник) — неаполитанцы, храбрый Полишинель —из Ацерры,<br />
болтун Тарталья и аферист Бриггела — из Феррары; слащавый Джельсомино —<br />
из Рима и Флоренции и т. д. Меццетино и Пьеро представляют собой переносы итальянских<br />
масок на сцене итальняского театра в Париже. Во многих отношениях эти маски<br />
являются самыми совершенными карикатурами. Они содержат в себе все аспекты уродства,<br />
разведенного в комическом. Они все пародируют, но пародируют через конкретную<br />
индивидуализацию, которая имеет исторические основания в таких городах как Лондон,<br />
Париж, Берлин, или трансформируются в типические образы, наподобие cochneys, badauds<br />
или Buffley. Перманентная деградация общества в этих культурных центрах представляет<br />
собой неиссякаемый источник для карикатурных мотивов. В своем глубоком<br />
исследовании лондонских бедняков Генри Мейхью поставил цель описания характерных<br />
для нищеты образов лондонских улиц и трущоб: мы находим у него страшные по достоверности<br />
образы ада цивилизации. Жуткие впечатления производят развращенные дети,<br />
которые изначально растоптаны в грязи нищеты, преступности, пьянства и распущенного<br />
образа жизни, представляя собой абсолютно жуткое зрелище. Некоторые фигуры<br />
более благородны, но именно поэтому они и более впечатляющи, как, например, фигура<br />
попрошайки-индуса на тротуаре. Это иссушенное тело с тонкими костями, ограниченностью,<br />
с меланхолическим выражением лица, на котором еще сохранились проблески возвышенной<br />
души, подобно лондонскому туману еще не угасшие воспоминания. Французы<br />
создали произведение, которое, казалось бы, недостоверно передает реальность, но которое<br />
не подсказывает карикатурные черты, присущие множеству типов современного<br />
общества. Речь идет о работе «Les Francais peint hfe eux memes: Encyclopedie morale du din<br />
neuvieme siecle» [Французы, как они видят самих себя: Нравственная энциклопедия XIX века]<br />
1 . Этот труд издан в восьми томах, начиная с 1841 года, составлен французскими классиками,<br />
иллюстрирован соответствующими рисунками выдающихся художников и достоин<br />
более серьезного изучения со стороны психологов, этиков, поэтов, служителями церккарл<br />
розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть третья<br />
239
ви и государственными деятелями, чем кажется на самом деле. Три тома этой энциклопедии<br />
посвящены провинциальным типам. Статьи об армии, о лепрозориях Св. Лазаря<br />
и другие подобные этим, написаны с особенной научной тщательностью. Вышедший<br />
в 1845 году «Чёрт в Париже, или Париж и парижане» должен рассматриваться как трактат,<br />
ориентированный больше на развлечение, ибо почти полностью сводится к карикатурам,<br />
подсказанные более тонкими или грубыми образами пролетариата, попрошаек<br />
и путан.<br />
Подобно народам и городам вазимокарикатизируются и разные общественные слои.<br />
Крестьянин, солдат, учитель, парикмахер, сапожник, портной, писатель, альковый поэт,<br />
пастух, сторож и другие, запечатленные в карикатурных образах, меняются из эпохи<br />
в эпоху, но постоянно возобновляются в том же направлении.<br />
И, наконец, карикатура находит источник вдохновения в различиях полов и возрастов.<br />
Можно было бы к этому добавить и страсти как они были изображены Теофрастом<br />
в «Характерах», а позже, от Лабрюйера до Рабенера, и такие, какими мы их находим в комедиях<br />
Менандра и Дифила.<br />
Но необходимо отличать широкую категорию состояний и действий. Последние относятся<br />
к содержанию исторических карикатур, которые превращают общественные действия<br />
народов и государств в сатирические. Карикатурные произведения из периодических<br />
изданий типа лондонского «Пунша», парижского «Шаривари» или берлинского «Кладдердатш»<br />
являются подлинной хроникой политического и церковного абсурда.<br />
Воспитательное направление представляет материал многочисленных и очень интересных<br />
карикатур именно в двойственной модальности — сначала через высмеивание некоторого<br />
направления вообще, а потом через высмеивание противоречий, которые рождаются<br />
в пространстве между культурой и гиперкультурой. Некоторая тенденция вообще может<br />
быть окарикатурена в той степени, в какой определенная ее частность ограничивается сатирой<br />
до однобокости и выпячена в фиксации последней. Но сути вещей свойственно, что воспитание<br />
на ранней или зрелой стадии способно предоставить богатый материал для карикатуры.<br />
Как правило, карикатуры этой категории рождаются повсюду, где наиболее культурные<br />
народы приходят в соприкосновение с народами, только вышедшими из естественных<br />
условий развития. С другой стороны, они могут отражать болезненные образы, когда,<br />
посредством подчинения чужой культуре и цивилизации, жизнерадостное и в некоторой<br />
степени — прекрасное существование уничтожается и деформируется одиозной и злобной<br />
карикатурой. В своей работе о североамериканских индейцах, Катлен описывает образ<br />
и приключения индийского вождя Вей-дшун-дшо, который появился в Вашингтоне во всей<br />
красе своего внушительного национального костюма. Но как он выглядит, когда возвращается<br />
к своим соплеменникам после длительного пребывания в США? Когда появляется<br />
на палубе, он одет в удлиненный пиджак самого тонкого голубого полотна, вышитого<br />
золотой канителью и с эполетами на плечах. Вокруг шеи завязана лента из черного шелка,<br />
а ноги обуты в резиновые сапоги на каблуке, от чего его походка казалась неустойчивой<br />
и шатающейся. Голову покрывала высокая бобровая шапка с широким серебряным галуном<br />
и пучком красных перьев длиной в две ноги. Высокий и твердый воротник пиджака закрывал<br />
уши, а по спине струились его длинные, перекрашенные в рыжий цвет волосы. На шее<br />
висела серебряная медаль, а на перекрещивающем грудь ремне — широкая сабля, на руках<br />
надеты рукавицы из козьей кожи, при этом правая рука размахивала веером, а левая опиралась<br />
на голубой зонтик. Так вырядил бедного Вей-дшун-дшо Вашингтон. Катлин прибавляет<br />
еще один нюанс этой карикатуры — сабля покачивается у него между ногами, наш герой<br />
затягивается сигарой, а из каждого кармана его одежды выглядывает горлышко бутылки<br />
виски. Но настоящая карикатура образуется, когда, по возвращению домой он предстает<br />
большим обманщиком в рассказах о своем опыте общение с американцами. На второй<br />
день после возвращения его жена скроила себе из полы его пиджака, которые она посчитала<br />
слишком длиными, пару панталончиков, а из серебряных галунов шляпы — пару занавесок.<br />
После этого укороченный пиджак переходит в собственность ее брата, который до этого<br />
с колчаном со стрелами и луком на плече, без одежды, высокомерно расхаживает перед<br />
удивленными друзьями, но уже после обеда сапоги заменены мокасинами и таким образом<br />
одетым мы находим его возле маленькой бочки с виски, развлекающего окруживших его<br />
друзей. Одна из его возлюбленных не в силах оторвать взгляд от прекрасных шелковых лямок,<br />
так что на второй день его увидели. как, напевая марш Вашингтона и покачиваясь, он<br />
направлялся к ее жилищу с бочонком виски под мышкой. Его белая рубашка, или та ее<br />
часть, которая развевалась на ветру, была страшно укорочена, его голубые штаны с золотой<br />
каемкой были превращены в шорты. Широкая сабля превратилась скорее в клюку,<br />
предназначенную, чтобы поддержать его и обеспечивать ему передвижение «по измученной<br />
поверхности земли». Так прошло два дня, бочонок опустел, от городского вида нашего<br />
вождя остался только зонтик, которым он дорожил больше всего и который носил с собой<br />
все время, хотя уже облачен в обычный кожаный костюм.<br />
Когда искусство развивает такие контрасты, оно должно обладать достаточной иронией,<br />
чтобы увидеть и осмеять их как отсутствие культуры. Французы, к примеру, сразу<br />
же после овладения Маркизскими островами, породили серию карикатур такого направления.<br />
Они рисовали татуированных дикарей, изображая способ, в котором, благодаря<br />
европейской одежде, те разрушали свой подлинный образ под видом самых диких карикатур,<br />
наподобие вышеупомянутого вождя индейцев. В этих карикатурах можно также<br />
увидеть, как, к всеобщему удивлению, они были счастливы платить подать за окна, или<br />
как прогресс французской цивилизации открывается взору удивленных отцов появлением<br />
черно-белых детей и т. д.<br />
Разумеется, более разнообразный материал предоставляет карикатуре развращение<br />
и подкуп как явления гиперкультуры в их фальшивой сентиментальности, фальшивых условностях,<br />
фальшивой эрудированности, в безумии политических амбиций или сектантского<br />
фанатизма, в абсурдности роскоши, в соперничестве методов врачебного лечения<br />
и в заблуждениях самого искусства. В обычном смысле эти карикатуры предстают уже<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
240<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть третья<br />
241
жение следует за историческими трансформациями, охватывая противоречия, в которые<br />
деградировали значимые структуры, противоречия, которые постепенно развиваются<br />
из неизбежной эмпирической ограниченности. Так, к примеру, наши книги о дураках<br />
и тупицах являются карикатурой такого рода — с подлинной любовью и без обращения<br />
к индивидуальному, они бичуют смехотворность абсурдности и ограниченности мелкой<br />
буржуазии. Таким же способом породила Июльская Монархия карикатурный тип Роберта<br />
Макэра — как образ обобщенной и сознательной лжи. Шевалье Макэр и его товарищ<br />
Бертран вездесущи — на трибуне, на бирже, в салонах, на приемах, медицинских консультациях,<br />
в кабриолете и т. д. Макэр — статный, во фраке и цилиндре, с обмотанным вокруг<br />
шеи толстым шерстяным шарфом, в котором блестит галстучная булавка с бриллиантом,<br />
старается всем нравиться; его помощник Бертран — в слишком маленькой шапке и грязной<br />
одежде, с широкими, бездонными карманами, с шатающейся походкой, с голой шеей<br />
и с лукаво-невинным выражением лица. Необходимо вспомнить и изображения, в которых<br />
на протяжении веков отражают друг друга разные нации, как в случае, когда символически<br />
говорится о «Дяде Сэме» в Америке, о «Джоне Булле» в Англии, о «Мишеле»<br />
в Германии. В Китае карикатура используется даже правительством в вопросах потребления<br />
опиума, а именно через изображение всех стадий деградации его потребителей,<br />
вплоть до полной утраты человеческих качеств, чувства долга и реальности и превращения<br />
в состояние ужасного скелета.<br />
Идеальную трактовку карикатуры можно назвать и фантастической. Отсуствтие меры<br />
сознательной гиперболизации превращает карикатуру в самоцель и подчеркивает уродство<br />
— когда под видом случайных аспектов, когда в форме максимальной необходимости.<br />
Таким способом карикатура самоаннигилируется, потому что, перемещаясь в пределах<br />
мифической свободы, она выходит за границы повседневной реальности. Только великие<br />
художники достаточно гениальны, чтобы реализовать эту чудесную метаморфозу<br />
безобразного, провоцирующая своим юмором восторг, который может порождаться<br />
только прекрасным. Посредством комического свобода и величие трактовки преодолевают<br />
негативный характер формы и содержания.<br />
Как произведение живописи карикатура часто и с удовольствием пользуется словом,<br />
чтобы с большей точностью формулировать свою цель. Из этого симбиоза родились целые<br />
сюиты карикатур, составленные из слов-образов, целые взаимосвязанные истории,<br />
составленные из слов-образов и образов-слов. Гением подобного дублированного искусства<br />
является Гаварни, но Тёпфер опережает его в юморе. В «Избранных произведениях<br />
Гаварни, исследования современных moeurs» (4 тома, 1846) он с юмором, но едко изображает<br />
Париж и его ужасных детей, студентов, лоретток, актрис, его карнавалы и ночи.<br />
Напротив, в прекрасных «Histoares en estampes» Тёпфер отказывается от выпячивания,<br />
которое заставила Шекспира породить своего Фальстафа, Жан Поля — доктора Кальценбергера<br />
или Тика — Ледебрину. В исследовании творчества Гаварни и Тёпфера,<br />
Фишер в совершенстве охарактеризовал это художественное направление [90].<br />
проявлениями реакции, посредством которой дух пытается преодолеть перечисленные<br />
болезни. Так должна пониматься сатира синего чулка по адресу увлекающихся писаниной<br />
женщин, которые, подобно господину Прюдому, являются сатирой в адрес критиков,<br />
считающих, что они все лучше всех знают, так господин Майе в своей униформе с огромной<br />
шапкой из медвежьего меха и лорнетом на носу является сатирой в адрес национальной<br />
гвардии, точно также произведение «Жан Партюре в поиске самой лучшей республики»,<br />
— это сатира в адрес мнимых социалистов и т. п. Такого рода карикатуры принимают<br />
иногда предельно персональный оттенок, как в случае, когда, к примеру, Авг. фон Шлегель<br />
издевается над поэзией Коцебу, или тем способом, каким в «Диогене» очень тонко<br />
осмеяны предпринятые в романах Хан-Хан усилия графини подыскать для себя подходящего<br />
мужчину. После нескольких неудачных попыток найти счастье с мужчинами, среди<br />
которых оказался даже вождь североамериканских индейцев, но она, наконец-то, находит<br />
того, кого так долго искала в… китайце.<br />
В своих средствах карикатура должна следовать общим законам искусства. Она может<br />
портретировать, символизировать, идеализировать. В общем, портретизация будет относиться<br />
к персонифицирующей карикатуре, которая рождается из сатиры, направленной<br />
на определенного индивида. Но поскольку в государственном аспекте это направление<br />
обычно связано с борьбой партий, церкви или искусства, в их случае важную роль будет<br />
играть ненависть. Вследствие этого эстетическая переработка таких карикатур будет подчинена<br />
практическому интересу, метанием отравленных стрел в адрес противника. Поэтому,<br />
здесь можно удовлетвориться подобием телосложения и физиономии, если этого<br />
достаточно для того, чтобы замаскировать сатирическую атаку. Художественная ценность<br />
большинства карикатур этого вида ограничена. Рассмотрим, к примеру, карикатуры<br />
такого рода из французского «Музея карикатур», в котором находятся репродукции<br />
эпохи Фронды, войны с гугенотами и др., вплоть до первой революции. Посмотрим также<br />
подлинные карикатуры, порожденные историей революции и репродуцированные<br />
в «Истории музея Французской республики от Собрания аристократов до империи»<br />
Огюстена Шаламеля (Париж, 1842, 2 тома), или карикатуры из журнала «Лондон и Париж»,<br />
издававшегося в конце прошлого [XVIII] и в начале настоящего [XIX] века в Веймаре<br />
Карлом Бёттихером. Если сравнить эти изображения с сатирическими текстами<br />
и песнями такого рода, мы везде обнаружим жеский, прозаический, пронзительный тон,<br />
заинтересованный, прежде всего, в общественной дискредитации противника.<br />
Эта скудость приемов является следствием эгоистической точки зрения сатиры, направленной<br />
на личности, которая редко бывает ясной и неискушенной. Вторая модальность<br />
эстетической трактовки отличается от персонификации тем, что, присваивая относящемуся<br />
к ней индивиду символическое значение, сатирическая деформация принимает<br />
более общее выражение, относящееся к некоторой типологии, посредством которой<br />
представлен вид. Здесь невозможно будет встретить непримиримость прямого направления,<br />
когда поэзия применяется в более широком пространстве. Это символическое вырамария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
242<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО часть третья<br />
243
Фантастическая карикатура освобождает карикатурную деформацию от любой этической<br />
опасности. Она обладает преимуществом изначального преодоления общего смысла<br />
вещей и пародирует саму себя. Поэтому, казалось бы, что в рамках подобной юмористической<br />
перспективы выпячивание характерного или полностью аннулируется, или настолько<br />
должно быть доведено до крайности, что в результате этого должно достигаться<br />
максимальное уродство, поскольку, как замечал Платон в «Софисте», уродство отрицает<br />
любую меру. Таким образом, отсутствие меры в фантастическом заново устанавливает<br />
некоторую меру в себе самом, поскольку в аспекте искажений, формы должны снова<br />
вступить в определенную связь друг с другом. Посредством таких связей становится возможной<br />
необычная свобода, смелость и пафос трактовки, когда карикатуры отражаются<br />
не только в ограниченной среде, но в большей степени, в бесконечности самой идеи —<br />
в красоте, добре и истине в-себе и для-себя. Точно также, как древнегреческая комедия<br />
произвела в аспекте этого идеально-фантастического масштаба столько прекрасных произведений,<br />
мы, немцы, в соответствии с нашими способностями, должны были бы создать<br />
бесмертные произведения именно в этом направлении, если бы располагали большим национальным<br />
подъемом, большим единством в сотрудничестве и не растрачивали самые<br />
драгоценные силы на малознакомые формы бытия и на местные эфемерности. Вместе<br />
с такимии признанными мастерами в этой области как Жан Поль, Тик и др. будем считать<br />
основанный Страницки Театр Леопольда из Вены таким, которому удалось поднять карикатуру<br />
до самого прозрачного уровня юмора, освободив от какой-либо ограниченной рациональной<br />
цензуры в попытке превратить этот «деформированный вид отсутствия меры»<br />
в источник самого чистого веселья. У Бейерле 1 уже можно заметить черты ее деградации,<br />
через Раймунда 2 она снова достигает вершину блеска, чтобы через Нестроя 3 впасть<br />
в быструю деградацию. Безусловно, эта тема заслуживает отдельного изучения, но не<br />
здесь, где, прощаясь с карикатурой, необходимо только напомнить ее эволюцию к смешному.<br />
Поэтому воздержимся от развития этой темы, для лучшего понимания феномена<br />
ограничиваясь приведением в качестве примера только нескольких характеристик. В «Линдане»<br />
трусливый сапожник должен проникнуть в мир фей и осуществить там храбрый поступок.<br />
Как бы это ему не было неприятно и дисконфортно, судьба предписала ему стать<br />
героем. Он должен пройти через лес. Его страх становится объектом карикатуры, но как?<br />
Совершенно фантастическим образом. Он берет с собой самого старого подмастерья<br />
и фузею. В лесу его пронизывает жуткий страх. Впрочем, страх беспочвенный, поскольку<br />
1 Бейерле Адольф (1786–1859) — австрийский драматург, автор известных современных водевилей и сатирических<br />
романов.<br />
2 Раймунд Фердинанд (1790–1836) — австрийский актер и драматург. Главный представитель народного фарса,<br />
переплетавший фантастическое с сочным юмором («Крестьянин-миллионер», «Король гор и враг людей» и др.)<br />
3 Нестрой Иоганн (1801–1852) — венский комедиант и драматург, автор водевилей и народных фарсов, характерных<br />
особенной сатирической едкостью.<br />
ему ничего не угрожает. В случае опасности подмастерье должен выстрелить. Но в какую<br />
сторону, если вокруг нет ничего подозрительного? Он стреляет наугад в воздух, в то время<br />
как сапожник переживает бесконечный страх. И, что бы вы думали — в этом и заключается<br />
фантастический аспект рассказа — что-то из воздуха падает к их ногам. Наши<br />
герои решаются совершить несколько шагов, чтобы вблизи рассмотреть птицу. Но птица<br />
совсем на птицу не похожа — у нее четыре ноги, а вместо перьев шерсть. Это не птица,<br />
это свинья! Невозможно, и все же, правда. Конечно, мы смеемся, но наш сапожник испугался<br />
еще сильнее. Или остановимся ненадолго на фарсе Раймунда «Король гор и враг<br />
людей». Здесь господин Раппелькопф видит себя беседующим, действующим, жестикулирующим,<br />
будучи королем гор, с которым он обменялся телом. Но эта его забава кажется<br />
уже чрезмерной. Как думает господин Раппелкопф, король гор слишком его карикатуризирует!<br />
Мы могли бы сказать, что этот юмор очень верен, глубок и обладает философским<br />
смыслом. Если мы смогли бы все посмотреть на себя также объективно, не покажется<br />
ли и нам, что наше отображение в некоторой степени похоже на нас, но все же определенным<br />
образом искажено?<br />
Заключение<br />
Олимпийские боги были самыми прекрасными образами, порожденные когда-либо воображением.<br />
Несмотря на это, среди них был хромой Гефест и этот бог с укороченной ногой<br />
был не только супругом самой прекрасной, рожденной из морской пены Афродиты,<br />
но и мудрым богом пластических искусств, способным дать жизнь самым прекрасным<br />
формам. Но будучи прекрасными и бессмертными, боги не считали недостойным временами<br />
разразиться смехом, которого Гомер называл «безудержным», как в случае, когда<br />
Гефест поймал неводом свою супругу и Ареса. Таким способом греческая мифология<br />
продемонстрировала связь прекрасного, безобразного и комического. Но эта связь установлена<br />
и в мифе, которого выделяет Вонц в сочинении «О комическом и комедии»<br />
(1844, стр. 51) опубликованном в журнале «Атеней» (XIV, 2). Пармениск спустился в ад<br />
Трафония и увидел жуткие миражи, которые там происходили. С тех пор он уже не мог<br />
смеяться и отправился за советом к дельфийскому оракулу. Оракул ему ответил, что способность<br />
смеяться вернет ему только образ матери богов. Пармениск отправляется<br />
на о. Делос, чтобы найти изображение матери Богов — Латоны. Она показана ему под видом<br />
бесформенного пня, что заставляет Пармениска, ожидавшего увидеть прекрасную<br />
статую, разразиться хохотом. Так оракул сдержал слово. Мать прекрасного Аполлона<br />
и бесформенный пень могут казаться двумя слишком гетерогенными вещами, и все же эти<br />
несопоставимые меры существовали на самом деле в одном и том же образе и этот факт,<br />
который не должен был бы существовать, становился источником веселья. Не содержит<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
244<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО заключение<br />
245
ковые, а в том смысле, что низменное находит свою объективную меру в величии, слабость<br />
— в силе, ничтожное — в величавом, мертвое — в живом, ужасное — в чудесном.<br />
В качестве кульминации ужасного встречаем зло как свободную аннигиляцию добра.<br />
В своей дьявольской ипостаси зло предстает осознанной кажимостью абсолютной свободы,<br />
которую принципиально и осознанно отрицает и которое напрасно пытается найти<br />
удовлетворение в бездне своих мук.<br />
Таким образом, зло предоставило возможность перехода к карикатуре тем, что существенным<br />
образом включает в себя отражение содержания и формы в их противоположности.<br />
Изображение дьявола является изображением абсолютной карикатуры, потому<br />
что он является ложью как фиктивное разрушение истины, отсутствием воли как желание<br />
ничто, безобразным как положительное разрушение прекрасного. Но тем, что карикатура<br />
может присвоить все формы не только безобразного, но и прекрасного, она растворяет отвратительное<br />
в смешном. То, что в своей карикатурной деформированности уродство, деформация<br />
могут стать прекрасными, проникнутыми бессмертной ясностью, возможно исключительно<br />
благодаря юмору, который перемещает их в пространство фантастического.<br />
Примечания<br />
ли в себе этот миф историю органической связи безобразного, перед которым мы немеем,<br />
и комического, которое осветляет душу?<br />
Мы попытались идентифицировать безобразное, прежде всего, в пространстве негативного,<br />
несовершенства вообще. Стало очевидным, что, имея основание своего бытия<br />
в прекрасном, оно отображает не нечто первичное, а производное. Впоследствии мы нашли<br />
формы, в которых безобразное объективируется в природе, частично — в ее непосредственных<br />
аспектах, частично — посредством болезни и увечья. В прямой связи с безобразным<br />
в природе конфигурируется безобразное в духе, в котором следует понимать<br />
не заблуждение, незнание или неумение, а только безумие и зло. Казалось противоречием<br />
то, что искусство как производящее прекрасное, присвоило как объект и безобразное.<br />
Но стало очевидным, что образование определенной ипостаси безобразного в и посредством<br />
искусства не только возможно, но и необходимо, когда такая необходимость вытекает,<br />
с одной стороны, из универсальности содержания искусства, которое отражает<br />
целостный образ мира, а с другой стороны — из сущности комического, которое<br />
не может отказаться от безобразного как средства выражения. Но поскольку из-за<br />
многообразия среды, в которой имеет место изображение, виды искусства качественно<br />
отличаются друг от друга, отсюда следуют и разные возможности производства безобразного,<br />
из-за чего архитектура и музыка обладают минимальными, скульптура —<br />
средними, а живопись и литература максимальными возможностями его производства.<br />
Безусловно, архитектура, скульптура и музыка взаимосвязаны общей возможностью<br />
отставать от идеала или искажать его, но, благодаря их специфической технике, они<br />
больше защищены от вмешательства безобразного.<br />
Любая красота, поскольку она должна обладать формой, основывается на определенных<br />
универсальных пропорциях — на целостности, единстве, симметрии и гармонии. Безобразное<br />
возникает именно потому, что, одновременно с аморфностью, оно мешает состояться<br />
целостности, или же растворяет ее в отсутствии формы, детерминируя, таким<br />
образом, беспорядок композиции и дисгармонические противоречия.<br />
Но безобразное является противником меры не только в общем — в частном оно также<br />
отрицательно относится к нормальной форме, родившейся или как постоянный тип<br />
через некоторую закономерность природы, или как условная мера эстетического изображения,<br />
как форма некоторого вкуса, посредством культурного разрыва и которую называем<br />
точностью. Отрицанием такой нормальности выступает неточность, которая в разных<br />
видах и стилях искусства приобретает специфические формы.<br />
Это отрицание пропорций, естественных и условных форм находит свое основание<br />
уже в деформации, в отрицательном процессе, происходящем внутри структур, что обнаруживает<br />
это внутреннее через явления внешней деформации. Свобода существования,<br />
жизни, духа может сделать так, чтобы возвышенное деградировало в ординарное, приятное<br />
— в ужасном и прекрасное в деформированность. Не в том смысле, что возвышенное,<br />
приятное и прекрасное не оставались бы возвышенным, приятным и прекрасным как тамария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
246<br />
1. Если хорошенько подумать, заметим, что и здесь, как и в других случаях, Лессинг заложил основы<br />
понимания <strong>проблем</strong>ы уродливого и отвратительного, рассматриваемая в «Лаокооне», в главах<br />
XXIII–XXV. Заслуга сознательного введения в науку понятия безобразного как органического момента<br />
идеи прекрасногов принадлежит Ш. Х. Вейзе («Система эстетики», ч. 1, Лейпциг, 1830, стр. 163–207).<br />
2. Все же Вейзе понимал безобразное слишком в духовном смысле, и эта односторонность, отдававшая<br />
предпочтение исследованию морального момента как ложь фантоматического, зла и дьявольского<br />
может быть обнаружена и в произведении его самого последовательного ученика Арнольда<br />
Руге «Введение в эстетику» (Галле 1837, стр. 88–107). Предубежденный и переполненный наивными<br />
концепциями, от которых пытается избавиться, подстрекаемый новыми исследованиями Гегеля,<br />
Руге был вдохновлен ими во многих своих примерах, но все же был далек от ясности их раскрытия.<br />
К примеру, на стр. 93 он пишет: «Когда конечный дух пытается утвердиться в своей конечности<br />
и противопоставить себя собственной истине — абсолютному духу, а также быть самодостаточным,<br />
то, как акт познания, он неистинен, подобно воле, которая удовлетворяется собой и в своей конечности<br />
стремится только к себе, что представляет собой зло и обе эти ипостаси проявляют себя в процессе<br />
объективации, а в качестве конкретного момента предстают как безобразное». Следствем этих<br />
узких детерминаций является то, что когда Руге описывает безобразное, он думает о поэзии Гофмана<br />
и Гейне. В сочинении «О комическом и комедии» (Гёттинген, 1844, стр. 28–31) Вонц придал понятию<br />
безобразного более свободное и общее значение, но сохранил еще его понимание как «инверсацию<br />
духа», как «перевернутое с ног на голову»; в произведении «Диотима, или Идея прекрасного»<br />
(Пфорцхайм, 1849, стр. 236–250) Куно Фишер следует за Руге и Вейзе. Безобразное представлено как<br />
изнанка возвышенного, как фундаментальное противоречие чувственного и идеального бытия; с точкарл<br />
розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО примечания<br />
247
ки зрения Руге, безобразное проявляется исключительно в сфере морального духа и только в человеческом<br />
мире становится эстетической реальностью.<br />
3. Хауфф. Моды и ношение одежды: Фрагменты из истории костюма. Тюбингем, 1840, стр. 17–23.<br />
4. Благодаря теории Говарда даже эфемерность облаков сводится к определенным базовым формам.<br />
В данном случае имеются в виду эстетические впечатления, возникающие в процессе созерцания<br />
туч, так часто и разнообразно описанные путешественниками и поэтами. Вот, к примеру, как их<br />
описывает Новалис в «Генрихе фон Офтердингене» (Сочинения, 1815, стр. 238): «Смотри, как облака<br />
плывут, будто желая обволакивать и притянуть нас в свою прохладную тень, и если их соединение<br />
гармонично и разноцветно, подобно эманации желания, восходящему из наших глубин, точно также<br />
и их прозрачность — прекрасный свет, которым они обнимают землю — предстает предчувствием<br />
неизвестного и необъяснимого величия. Но бывают и темные, мрачные и грозные тучи, в которых выражены<br />
угрозы и страхи забытой ночи — кажется, что небо уже никогда не просветлеет, голубизна<br />
представляется окончательно уничтоженной, и красное, с желтовато-серым оттенком на темно-сероватом<br />
фоне внушает ужас и страх каждой душе» и т. п.<br />
5. Среди упомянутых здесь имен, имя Орштедта в последние годы стало достаточно известным<br />
и нашей публике, поскольку мания немцев восторгаться иностранцами спровоцировало конкуренцию<br />
перевода его самых известных произведений. Имя Бернардена де Сен-Пьера также достаточно<br />
известно, а благодаря рассказу «Поль и Вирджиния» он относится больше к дивертисменту в литературе,<br />
а гравюры, и даже балет, широко распространили тему этого рассказа и имя его автора. Но<br />
сейчас идет речь о его работе «Этюды о природе» (3 тома, Париж, 1838) — книге, содержащей рассуждения<br />
о северном полюсе. Но, кроме этих рассуждений, она содержит большое количество богатых<br />
и различных замечаний, как и множество самых удивительных натюрмортов, недостаточно оцененных<br />
и недостаточно известных на сегодняшний день. Рассуждения К. Фишера о природной красоте<br />
можно найти в его «Эстетике» (1847, т. 2, ч. 1), являющейся одной из самых блестящих работ,<br />
которые у нас написаны в этой области. А если немцы захотели бы вспомнить эту работу, илим даже<br />
ту главу из «Критика способности суждения» Канта, в которой речь идет о теологии, тогда они осовободились<br />
бы от иллюзии, что благодаря Орштедту они узнали нечто новое.<br />
6. Ф. А. Шмидт. Книга минералов, или Общее и частное описание минералов с 44 цветными планше»<br />
(Штутгарт, 1850, стр. 4.) Животные и растения довольно часто были иллюстрированы, зато минералы<br />
иллюстрировались очень редко. Поэтому названная книга является радостным явлением<br />
прогресса в этом направлении. Ее автор справедливо замечает: «Не так-то легко воспроизводить<br />
образ минерала, и даже талантливые художники, которые попытались это сделать, бросали свои<br />
произведения незаконченными. Окаменевшие, лишенные жизни формы оказывают сопротивление<br />
художественному вкусу, любая модификация позиции обусловливает возникновение других<br />
рефлексов, и даже других хроматических тонов, а изображение их металического блеска практически<br />
невозможно».<br />
7. Увидеть иллюстрации этих странных областей можно в альбоме гравюр «Китай в исторической,<br />
романтической и живописной перспективе», изданный в Карлсруэ без указания года издания.<br />
8. Исследование Хаусмана, о котором здесь идет речь, называется «Полезность неорганической<br />
природы» и находится в томе со скромным названием «Цветные мелочи» (Гёттинген, 1839,<br />
стр. 20–226). И предыдущее исследование «О красоте органической и неорганической природы» заслуживает<br />
всяческого внимания. Обе эти работы написаны в достойном подражания стиле и являются<br />
настоящими жемчужинами нашей национальной литературы, хотя появившиеся в последнее время<br />
литературные истории в звуковой записи как будто не совсем неизвестны. Эстетика географии<br />
пейзажей, основанная А. фон Гумбольдтом в его замечаниях о природе, с тех пор существенно прогрессировала.<br />
Но, к сожалению, и в данном случае обнаруживает себя отсутствие знания, которое<br />
мы, немцы, часто демонстрируем и которое заставляет сотни раз начинать все заново. Существует<br />
совершенно потрясающее исследование об эстетической географии, которое осталось неизвестным<br />
не только эстетикам, но и географам. Оно входит в собрание сочинений и поэтому ему не уделилось<br />
достаточно внимания. Имеется в виду работа Г. Л. Кригка «Записки по общей географии» (Лейпциг,<br />
1840, стр. 220–370). Эстетические рассуждения Гумбольдта и Шлейдена по поводу внешнего вида<br />
Земли («Растение и его жизнь»), Мафиуса («Очерки о природе») и др. более известны. К ним относится<br />
и Братранек со своей работой «Рассуждения по поводу эстетики растительного мира» (1853).<br />
9. Попытками установить родственность видовых типов, эстетика форм растений была, собственно<br />
говоря, основана Жюссьеном. Впоследствии была продолжена А. фон Гумбольдтом в исследовании<br />
«Идеи относительно физиономии растений» (Тюбинген, 1806). Книга с гравюрами, на которых<br />
изображены чудесные формы и цвета ядовитых грибов, называется «Книга ядовитых грибов» Бергера<br />
и Рика (Штутгарт, 1850). То, что ядовитые грибы будто бы предупреждают о себе неприятным<br />
запахом, верно только в известной степени, поскольку многие их ядовитые виды распространяют<br />
очень приятный запах.<br />
10. В труде «Живые цветы» Гранвилль впервые выявил комические черты кормовой свеклы и сахарного<br />
тростника, которые впоследствии были подчеркнуты Мареном и относительно вьющихся<br />
растений и моркови, правда, не столь успешно.<br />
11. Рассмотрение с эстетической точки зрения животных сильно отстает по сравнению с подобного<br />
рода изучением растений. Кроме вышеназванной работы Фишера трудно что-либо назвать еще.<br />
12. Дауб. Иуда Искариот, или О зле относительно добра», ч. 1. Гейдельберг, 1818, начиная<br />
со стр. 350.<br />
13. Гёте. Сочинения, т. 28, стр. 11–119. Хочу выделить элементы безумия из полоумия принца<br />
Паллагония, как их описал Гёте на стр. 114: «Люди: нищие, нищенки, испанцы, испанки, мавры, турки,<br />
горбуны, всякого рода взрослые, лилипуты, музыканты, солдаты, одетые в античные костюмы,<br />
боги, богини, люди в старом французском порту, солдаты с патронниками и гамашами, мифология<br />
с комическими ингредиентами. Ахилл и Хирон с Полишинелем. Животные: только их отдельные<br />
части, конь с человеческими руками, лошадинная голова на человеческом теле, кривляющиеся обезъяны,<br />
множество драконов и змей, всякого рода лапы и разнообразные фигуры, дублированные и инверсированные<br />
головы. Вазы: все категории монстров и спиралей, превращенные в вазы или в подставки<br />
для ваз. Представим себе все эти шокирующие и созданные без всякого смысла и содержания<br />
фигуры, пьедесталы и деформации, объединенные без всякой избирательности и цели в бесконечной<br />
серии, и нами будет переживаться неприятный момент, которого познает каждый в случае ударов<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
248<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО примечания<br />
249
полоумия». «Абсурдный характер лишенного вкуса мышления сильнее всего подчеркивается тем,<br />
что, установленные над окнами маленькие плинтуса падают по косой в одну или другую сторону, чем<br />
мучают и разрушают чувство равновесия и перпендикулярности, посредством которых мы становились<br />
людьми и которые положены в основание любой меры. Такими же предстают и крыши, завершающиеся<br />
гидрами и маленькими бюстами, группами обезъян и другими глупостями. Драконы,<br />
соседствующие с божествами, Атлас, держащий на плечах не глобус, а пивную бочку. Если в голову<br />
придет мысль спрятаться от всех этих бессмыслиц внутри дворца, который, построенный отцом,<br />
обладает более или менее приемлемой внешностью, то недалеко от ворот увидим увешанную лаврами<br />
голову одного из римских императоров, посаженную на тело лилипута, который, в свою очередь,<br />
помещен на спину кита».<br />
14. Согласно исследованию Левецова о горгоническом идеале, развитие последнего проходит через<br />
три стадии. Вначале он был представлен животным обликом, позже стал маской с высунутым<br />
языком, а в конце концов, стал человеческим лицом, красота которого лишена характера, напоминая<br />
форму медузы только волосами и крыльями.<br />
15. Ансельм Фейербах. «Ватиканский Аполлон». Серия эстетическо-археологических размышлений,<br />
изданных в Нюрнберге (1833). Свои идеи Фейербах аргументирует тем, что большинство вылитых<br />
в бронзу фигур, которые были бы способны раскрыть полноту свободы мастера, не сохранились.<br />
Стр. 75: «Если бы сохранились вылитые в бронзу статуи живших в Олимпе атлетов и борцов, или мраморные<br />
оригиналы танцовщиц, слабая тень которых еще привлекает наш взгляд в посредственных<br />
барельефах и фресках, нам открылся бы новый источник радости и восторга, мы онемели бы перед<br />
мастерством этих художников, которые с такой смелостью стремились возвыситься до самых достойных<br />
вершин искусства».<br />
16. Под влиянием рисунков братьев Рипенхаусен Гёте приложил немало усилий к тому, чтобы<br />
упорядочить рисунки Полигнота. Они изображают некоторую эпическую панораму. Из сохранившихся<br />
описаний, какими бы они не были неполными, можно все же восстановить содержание картин<br />
и из него можно увидеть, что в них изображены любые ужасы. Обычные изображения, находя основания<br />
в рассуждениях Винкельмана и Лессинга касательно тонкости, с которой греческое пластическое<br />
искусство избегало безобразное, здесь не подходят. Я не хочу оперировать изрубленными телами,<br />
которые, вперемежку с соломой, можно было увидеть в яслях, брошенные лошадям как корм<br />
и другие явления такого же рода. Приведу лишь не самую страшную цитату из Паусаника о картине<br />
из дельфийской леши, на которой изображен спустившийся в подземный мир Одиссей: «Из пасти<br />
Харона торчит изрубленный собственным отцом провинившийся сын. Рядом наказывают вора, который<br />
осквернял храмы. Женщина, которая занята собственным наказанием, оказывается прекрасно<br />
осведомленной не только во всех лекарствах, но и во всех ядах, при помощи которых можно убить<br />
человека. Над всеми этими сценами истязания можно увидеть Ейриномес, относящийся к подземным<br />
зевсам. Утверждается, что он питается мясом мертвецов, оставляя за собой лишь голые кости.<br />
Он изоображен в черно-голубоватом тоне. Скалит зубы, сидя на шкуре хищного зверя» и т. п.<br />
17. Основным произведением Платона относительно этого отличия всегда будет «Филеб». В другом<br />
месте он показывает, что прекрасное — нечто большее, чем утилитарное удовольствие; больше<br />
того, что пробуждает любовь; больше, чем польза, но в этом диалоге Платон выходит на положительные<br />
определения. Базовым критерием здесь становится мера. Божественной природе должна<br />
быть свойственна царская душа и царское мышление, обладающее силой обобщения. Таким образом,<br />
из мышления и, в конечном итоге, из царской души Зевса рождается любой порядок и любой упорядочивающий<br />
принцип, так что несложно будет определить основание происхождения меры, ее понимания<br />
или идеи вещей, когда, согласно Платону, мера перемещается на первое место.<br />
18. В статье «Коллекционер и его сторонники» Гёте раскрывал противоречие между идеалистами<br />
и последователями характеризма, как они тогда назывались, и вывел как вывод следующее:<br />
1. Серьезность сама по себе; индивидуальная склонность: манера а) имитаторы; б) ригористы;<br />
с) миниатюристы.<br />
2. Игра сама по себе; склонность (индивидуальная тенденция); манера а) фантомисты; б) обнаженцы;<br />
в) схематисты или: а) имагинативисты; б) колеблющиеся; в) выдумывающие.<br />
3. Согласованность серьезности и игры: экзерцария универсального; стиль а) художественная<br />
правда; б) красота; в) совершенство.<br />
19. В тексте осталась опечатка. Дворец называется Мелхант, а не «Мейлхарт». Это интересное архитектурное<br />
произведение, но его нельзя даже отдалено сравнивать с дворцом в Мариенбурге.<br />
20. Из этой области творчества можно было бы составить более длинный список таких ужасных<br />
идиотских композиций, точнее говоря — поэтических декомпозиций. Но поскольку в трехтомном<br />
труде об опере и драме Рихард Вагнер с достаточной ясностью выделил антипоэтическое уродство<br />
современных оперных текстов, как и убогий характер их переводов, мы ограничились этим маленьким<br />
примером.<br />
21. Мариенбургский дворец был построен непоследовательно, и потому такая экспансия симметрических<br />
форм могла бы объясняться разнообразием эпох и накладыванием друг на друга различных<br />
стилей. Напротив, он был построен относительно быстро, на протяжении нескольких лет и на<br />
основании единого плана, что доказывает, что высокий художественный вкус архитекторов был свободным<br />
обходить во имя высшей гармонии второстепенные эстетические требования.<br />
22. Х. Геттнер. Введение в античное пластическое искусство. Ольденбург, 1848, т. 1, стр. 307<br />
и след.<br />
23. Важная для понимания безобразного в его карикатурной манере эстетическая критика этого<br />
романа встречается у Швенглера — «Jahrbuchern der Gegenwart», 1844, стр. 655 и дальше. Но в том<br />
же году В. Циммерманн взял на себя труд защитить культурно-историческую значимость «Парижских<br />
тайн» Э. Сю.<br />
24. Хенненбергер А. Современная немецкая драма, 1853, стр. 64 и дальше. Это маленькое произведение<br />
— одно из самых умных, объективных и содержательных из всех, написанных на эту тему.<br />
25. Сравнить с избранным Серо д’Агинкурта: «Живопись», т. I, стр. 40.<br />
26. Эта статуя находится сегодня в Нимском музее.<br />
27. Жервин. Шекспир, 1850, т. IV, стр. 36: «И сегодня еще необходимо признать истинность таких<br />
интерпретаций, которая не принимается во внимание даже в постоянно повторяющихся замечаниях<br />
о том, что Шекспир превратил население Рима в английских граждан и ремесленников. Поскольку<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
250<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО примечания<br />
251
массы в своем движнии везде одинаковы, особенно в случае двух близких по государственному устройству<br />
народов, упомянутое замечание является, на самом деле, похвалой. Не хочется повторять<br />
то, что было высказано как восхищение в адрес шекспировских пьес, а имено, что в них были возрождены<br />
характер, судьба, патриотизм, военная доблесть, подлинные убеждения и публичная жизнь вечной<br />
крепости. Но истинно то, что строгая обработка и художественное возрождение той малости, которую,<br />
с целью характеристики жизни античного Рима, Шекспир взял из Плутарха, является более<br />
ценной, чем самое точное описание из самых претенциозных исследований античности».<br />
28. «Гудвин» Брентано издан в Бремене в 1802 году в двух томах. Брентано подписал произведение<br />
псевдонимом «<strong>Мария</strong>». В его Полное собрание сочинений эта странная книга не включена как<br />
дань гипперромантизму ученических лет мастера, и только в пятом томе помещен из нее краткий<br />
фрагмент.<br />
29. В произведении «Размышления к эстетики растительного мира» Братранек правомерно посвящает<br />
целый раздел одушевленным цветам. На 306 странице он приводит следующие совершенно<br />
обоснованные рассуждения: «Уже в сценах из обособленной и коллективной жизни животных Гранвиль<br />
символическим образом выявил способ, которым в животном мире — благодаря животному<br />
в человеке или благодаря аналогии поведения человека и животного — отражен верный образ всех<br />
неестественных реальностей общественного происхождения. То же самое подходит и для его живых<br />
цветов, относительно которых он движется от первичного, традиционного (или условного) значения<br />
растения и до превращения его в мимику женщин, их поведения или способа одеваться. Одушевленность,<br />
которую посредством символизации получает растение благодаря симпатии к нему со стороны<br />
человека, придается художником человеческому силуэту — нам представлены очеловеченные<br />
цветы, в то время как символика содержит в себе цветочные виды человеческого. Всегда, везде и во<br />
всех формах Гранвиль умеет выделять при помощи таких человекоподобных растений гениальность<br />
пейзажа».<br />
30. В переводе Паули Лукиан в конце своего вступительного слова приводит подлинные истории,<br />
и пишет в связи с ними следующее: «Необходимо признать, что я так же мало мог упрекать этих людей,<br />
как много бы их не было, в лжи в и для-себя, чем больше я мог видеть, как часто это встречается<br />
даже у мужей, присваивающих себе титул философа. Меня удивляло только то, как они могли себе<br />
вообразить, что читатели не заметят, что ни одно слово из их рассказов (Гомер, Тамбол, Ктесий)<br />
не является правдивым. В то же время, я был достаточно самолюбивым, и захотел оставить последующим<br />
поколениям произведение, порожденное моим собственным пером, чтобы не отказаться в одиночку<br />
от права и свободы создавать мифы. Потому что нечто достойное рассказа у нас нет (то, что мы<br />
приобрели в качестве жизненного опыта, недостойно стать поводом для разговора) и поэтому я должен<br />
был выбрать ложь, но таким способом, чтобы поступить более корректно, чем мои предшественники.<br />
Потому что, по крайне мере, я признался в одной правде — в том, что лгу. Благодаря этому свободному<br />
признанию надеюсь предупредить все замечания, которые могут быть высказаны по поводу<br />
содержания моих произведений. Так что торжественно объявляю: пишу о вещах, которых я даже<br />
не видел, и даже не случались со мной, точно также как не слышал о них от других, и которые также<br />
мало правдивы, как и мало возможны. И поэтому пусть в них поверит тот, кто хочет в них поверить!»<br />
31. В первой главе — «Аналитика прекрасного» «Критики способности суждения» Кант отличает<br />
идеал от нормальной идеи прекрасного: «Эта нормальная идея не является произвольным словом<br />
в виде некоторых обусловленных правил, выведенных из опыта пропорций, но именно она делает<br />
возможными правила оценки. Она является образом, подходящим всему виду и преобладающим<br />
в интуиции всех, самых разных индивидов, образом, которого в качестве архетипа природа поместила<br />
в основание своих произведений этого нпаравления, но которые, кажется, полностью ни в чем<br />
не реализовала. Она ни в коем случае не является архетипом красоты этого вида, а только формой,<br />
выражающей необусловленное условие любой красоты, только точность в изображении вида».<br />
32. Др. Франц Кюглер. О полихромии и ее границах в греческой архитектуре и скульптуре. Берлин,<br />
1835.<br />
33. С. Х. Ульрих. О драматическом искусстве Шекспира. Галле, 1830, стр. 146, 174.<br />
34. См. введение в «Историю макаронической поэзии и коллекцию представляющих ее памятников»<br />
Гёте (Галле, 1829).<br />
35. Вейссе. Система эстетики, т. 1, стр. 177. На 178 странице указано: «Поскольку такие абстрактные<br />
детерминации как красота, уродство и др. не лишены содержания, а что-то собой обозначают,<br />
они даже в своей абстрактности должны вступать в противоречие, потому что, вследствие данной абстрактности,<br />
их диалектическая истинность и жизненность не утрачивается».<br />
36. Шиллер полемизировал с Фихте. Фихте оправил в его «Журнал» статью о мышлении и букве.<br />
Шиллер эту статью печатать не захотел, поскольку у него был к ней ряд замечаний. Фихте отстаивал<br />
свои идеи с чрезмерным пафосом, а Шиллер настаивал, чтобы в случае удовлетворительного эстетического<br />
изложения познание и образ взаимодействовали равнозначно. Эта полемика, которая сохранилась<br />
только в виде их нескольких изданных друг к другу писем, заставила Шиллера отредактировать<br />
статью «О необходимых границах в использовании прекрасных форм» (1765), из которой я и<br />
взял приведенную цитату.<br />
37. Руге. Новое введение в эстетику, стр. 75–77. Согласно с точкой зрения Руге, Фишер утверждает<br />
в «Диотиме» (стр. 198–199): «То, что мы обычно называем возвышенным в природе, в большей<br />
степени является выражением эффекта, чем эстетическим убеждением. Природа нас не возвышает,<br />
она всего лишь впечатляет».<br />
38. В прологе к «Орлеанской девственнице» Вольтер одной чертой раскрывает направление, которому<br />
следует на протяжении всякго произведения. Он преувеличивает совершенные Жанной<br />
д’Арк чудеса храбрости и мужества. «Жанна д’Арк обладала львиным сердцем / Вы убедитесь в этом<br />
в процессе чтения, / Вы будете потрясены ее подвигами, / И самый большой подвиг заключается<br />
в том, / что она сохранила девственность на протяжении целого года».<br />
39. Закон и права наследуются как вечные болезни — так выразился Гёте в «Фаусте». Но как вечная<br />
болезнь наследуются также и суждения о людях и книгах. Дидро и его произведения относятся<br />
к явлениям, в адрес которых ограниченные и малокультурные люди бросают собственные обиды,<br />
в жестких суждениях запечатлевая и заблуждения самого философа — автора аморальных романов,<br />
которого они никогда не читали и не знали. Остается раз и навсегда констатировать, что он и ему подобные<br />
достойны внимания исключительно в аспекте нравственного гнева. Раннее я пытался уже<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
252<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО примечания<br />
253
востановить справедливость по отношению к Дидро. Я отметил, каким образом его оценивают Лессинг,<br />
Гёте, Шиллер, Варнхаген, Мориц, Арндт. Жак Дидро вынуждает меня заметить в этом случае<br />
только то, что в этом романе Дидро защищает себя от обвинений в цинизме. […] Но ошибается тот,<br />
кто думает, что в «Жаке-фаталисте» были изложены только цинические истории. Трагическая повесть<br />
маркизы де Поммеро, рассказанная трактирщицей, занимает треть книги. Она была переведена<br />
Шиллером под названием «Удивительная повесть о женской мести».<br />
40. «Детоубийство» Хаусера изображает скопление несчастных матерей, с застывшим взглядом<br />
глядящих на труппы своих детей, раны которых еще кровоточат. Такая монотонность придает этой<br />
прекрасно написанной картине некоторый банальный и даже скучный характер. Совсем по-другому<br />
эта тема была раскрыта старым Ле Бруном. У него также изображены убитые младенцы и отчаявшиеся,<br />
пытающиеся спасти своих детей матери, бросающиеся на солдат и вступающие с ними в бой.<br />
«Мы видели, как материнская любовь сильно усложняет солдатам (многие из которых на коне) возможность<br />
выполнить ужасный приказ. А позади этих сцен взгляду открывается широкое пространство.<br />
Большая, открытая площадь, вдали — мост, на котором, в попытке спастись бегством, теснится<br />
группа мужчин и женщин. Этим завершением Хаусер навеял нам тюремную атмосферу.<br />
41. Гегель. Эстетика, т. 3, стр. 123: «Поэтому на нашем лице не присутствует чувство вульгарных<br />
страстей, а только то, что в низших классах представляет собой деревенское, приближенное к природе,<br />
то, что представляет собой веселье, хитрость, комическое. Идеальный момент просачивается<br />
именно благодаря этому добровольному расскрытию: это выходной день жизни, которая все уравнивает<br />
и устраняет любое зло; люди, которые от всего сердца так хорошо расположены, не могут быть<br />
абсолютно злыми и низкими! В этом смысле не безразлично, предстает ли зло лишь чем-то мгновенным<br />
или возникает как фундаментальная черта определенного характера. У голландских художников<br />
комическое подавляет зло ситуации и нам сразу становится ясным и понятным, что эти характеры<br />
могут быть и чем-то другим, а не только теми, которыми являются в момент их изображения.<br />
Ясность и комичность относятся к особой ценности голландской живописи. И, напротив, когда некоторые<br />
современные художники пытаются быть такими же пикантными, как и голландские, они<br />
производят нечто вульгарное или нечто характеризующееся дурным вкусом, лишенное примиряющего<br />
комического. К примеру, капризная, злобная женщина ругает в корчме своего пьяного мужа,<br />
но, как говорилось выше, отсюда вытекает только то, что изображено, а именно, что он является деградированным<br />
человеком, а она — ядовитой бабой».<br />
42. В. Грингмут. Рипарография: Философские размышления. Братислава, 1838, стр. 8. Это интересное<br />
исследование постигла судьба большинства академических диссертаций — потеряться в забвении<br />
непрочитанными. Ее автор привел в предисловии сотни определений безобразного, и в том, что<br />
относится к этой теме, он становится на позиции Вейсса, но при этом не разобрался с областью комического.<br />
43. О П. Видале см.: Фр. Диез. Жизнь и творчество трубадуров. Цвиккау, 1829, стр. 149 и след.<br />
44. Касательно гротеска стоит добавить, что в одной небольшой работе Лессинг выводит его происхождение<br />
из египетского универсума. Но происхождение гротеска в-себе и для-себя пребывает<br />
в сущности вещей. Не менее успешно мы могли бы выводить его из китайского или индийского мимария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
254<br />
ров. Процитированная мною книга называется «Страсти Господа нашего И. Х. в веселых стихах», изданная<br />
в 1649 году. В поэтическом аспекте — это плохая книга, но она была воспринята всерьез.<br />
45. Во все времена и у всех народов водевиль избыточно использовал эти средства. Эстетический<br />
снобизм всегда презрительно относился ко всему, что обладает характеристикой фарса и водевильности,<br />
но последние также имеют право на существование, как и изысканное комическое, которое<br />
у нас стало таким рафинированным, что по праву может называться и скучным.<br />
46. К. Фогт. Изображения из жизни животных. Франкфурт-на-Майне, 1852, стр. 433: «Разве<br />
не известна совершенно правдивая повесть о друге лесника, который, думая, что он один в комнате,<br />
издал непристойный звук, породивший тревожность у всех находящихся под стульями и столом<br />
собак, с громким и отчаянным лаем выпрыгнувших через открытое окно во двор. По возвращении домой,<br />
лесник сразу же догадался о подлинной причине приступа бешеного страха собак. Ведь когда<br />
та или иная из них была виновата в таком же проступке, он безжалостно избивал всех, так как<br />
не знал и не хотел знавать, какая именно из них была виноватой».<br />
47. Репродукции этих скульптур можно увидеть у Дизире-Рауля Рошетта в «Секретном музее»,<br />
рисунки 37, 40 и 42.<br />
48. Д. Л. Вольф. Общая история романа от истоков до наших дней. Иена, 1841, стр. 324 и дальше.<br />
49. Т. Делорд находит происхождение Пижона в практике уборки винограда в Бургундии. Песни<br />
и танцы Пижона считаются пародирующими любовь.<br />
50. См.: А. Шопенгауэр. Мир как воля и представление. Лейпциг, т. 2, 1844, стр. 531–564. Эта «метафизика<br />
сексуальной любви» в некоторой степени цинична, но полна бесконечно интересных замечаний<br />
о природе и воле.<br />
51. Среди гравюр и картин Палаццо Питти во Флоренции можно обнаружить множество произведений<br />
увеличенного изображения. Очень многие из этих произведений изображают пострадавших<br />
женщин и девушек, призывающих в помощь силы природы, но с такой стеснительностью и грацией,<br />
в которых никаких иных мыслей, кроме религиозных, не содержится.<br />
52. […] Жак-Андре Нежон в 12-м томе издания Сочинений Дидро (на стр. 255–266) привел обоснование<br />
того, что сохранил из так званого романа Дидро: «вся скандальность текста во всей его целостности»,<br />
кроме того, что было отброшено, иначе, как это демонстрирует история литературы,<br />
публика была бы шокирована стилем более ужасающим. Еще Лессинг, который в «Гамбургской<br />
драматургии» (прим. 84, стр. 1768) перевел фрагмент из «Les bijoux indiscrets» [Ювелирность<br />
посторнних], подчеркнув значение этого произведения для немецкой публики, как и Нежон, писал:<br />
«Эта книга называется “Les bijoux indiscrets”, и Дидро утверждает, что не писал ее. И правильно делает.<br />
Но все же, он ее написал, и если не хочет прослыть плагиатором, должен признать, что не мог<br />
ее не написать. Впрочем, эта книга могла быть написана исключительно молодым человеком, который<br />
впоследствии ее устыдился».<br />
54. В работе Ю. Шмидта можно найти много интересных страниц, посвященных Шекспиру, Расину,<br />
Вольтеру и немецкому романтизму — страниц, ставших возможными в результате глубокого исследования<br />
первоисточников.<br />
55. Хеннебергер в «Немецкой драме» (стр. 8) пишет: «Возможно, поэт мог бы ответить, что отталкарл<br />
розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО примечания<br />
255
бранный и переведенный из «Сатирикона» Гейне. Изданный, по-видимому, в Риме. — 1773, т. 1,<br />
стр. 132 и дальше.<br />
70. Здесь многое можно было бы сказать. К этой категории относится преимущественно живопись,<br />
к которой в силу повторяемости наш глаз привык настолько, что произведения уже не оскорбляют,<br />
но их можно считать отвратительными. Юная сунамистистка 1 Абизаг, отправленная в подарок<br />
царю Давиду; Лот, которого в лесной пещере напоили собственные дочери с целью соблазнить его,<br />
и т. д. В этом случае необходимо упомянуть серию мерзких картин, отражающих отвратительную<br />
чувственность, о которой практически нельзя говорить. Приведу единственный пример: в 1823 году<br />
в Коллекции Гёттингенского университета я видел картину с сюжетом, подсказанном таким случаем:<br />
Людовик XV поспорил с госпожой Помпадур, что она не сможет мочиться через кольцо. На картине<br />
изображена пытающаяся это осуществить госпожа Помпадур и его величество, который, опустившись<br />
на колени, держит кольцо.<br />
71. См.: Аристофан, т. III, стр. 204, издание Дройзена.<br />
72. Гораций. Книга Эподов, VIII.<br />
73. Панофка (цит. соч., стр. 4) видит здесь пародию на девственность, потому что это относится<br />
преимущественно к Атланте.<br />
74. Арден из Фэвешема, переведенный в работе Л. Тика «Введение в творчество Шекспира» (1823,<br />
т. 1, стр. 113 и дальше).<br />
75. Бездумная мания немцев переводить все, что угодно из английской и французской литературы,<br />
сильно калечит нашу жизнь — стоит провести статистическое сравнение того, сколько мы перевели<br />
с этих языков, и сколько они перевели с немецкого. Самые жалкие бумагомаратели, самые<br />
ничтожные авторы сразу же переводятся на немецкий. И если перелистать каталоги переведенной<br />
литературы, можно будет почти что считать, что Поль де Кок, В. д’Арленкур, А. Дюма, П. Феваль,<br />
Ш. Жаме-Луи и другие являются нашими классиками. Вспомним при этом, что только некоторые<br />
из наших национальных классиков были переведены на эти языки.<br />
76. По поводу <strong>проблем</strong> развода см. написанное мной в «Исследованиях» (Берлин, 1833, стр. 58–60).<br />
77-а. См. новеллы Балоу, 4 тома или (относительно итальянских) перевод Адальберта Келлера<br />
в его прекраснно избранных «Итальянских новеллах» (Лейпциг, 1851, 6 томов).<br />
77-б. Это ценное описание Гёте необходимо было бы воспроизвести в замечаниях, поскольку оно<br />
очень пространно. Но я подумал, что мало читателей дают себе труд изучить примечания, но очень<br />
хотелось, чтобы они обязательно ознакомились с этим текстом.<br />
78. Существует целая серия оперетт и водевилей, которые основываются на комическом потреблении<br />
фантоматического. К примеру, в Вене известно особенно комическое «Розовое привидение». Среди<br />
прочего, на сцене появляется похоронная процессия. Со сводом псалмов в руке, одетый во все розовое,<br />
под видом привидения покойник идет среди следующих за кортежем хоронящих его близких, и т. д.<br />
1 Сунамитизм — метод омоложения, получивший широкое распространение во Франции в XVIII веке, основанный<br />
на «вбирании в себя дыхания юных девушек» посредством интимной близости с ними. Феномен отражен в легенде<br />
о царе Давиде и юной Абизаг.<br />
киванием Парсифаля, когда узнал, что все было всего лишь игрой, Грисельда бросает на весы равновесия<br />
контртяжесть». Но является ли то, что здесь с любовью продается подлинной женской любовью?<br />
Можно забыть, что отдача себя без остатка полностью порабощает права личности, вплоть<br />
до некоторой степени человеческого достоинства, и приближается больше к инстинктивной животной<br />
зависимости, чем к свободе любви, которая должна усилить у влюбленных чувства человеческого<br />
достоинства».<br />
56. В «Истории немецкой и голландской живописи» Гото (стр. 60 и дальше) высказывает мысль,<br />
что можно отметить прогресс, начиная от Ван Дейка до И. Босха и от них к Шопенгауэру (Мартена<br />
Шона).<br />
57. С. И. В. Руссо. Драматургические параллели. Мюнхен, 1834, стр. 180 и дальше.<br />
58. Ш. Манен. История европейских марионеток, Париж, 1852, стр. 147.<br />
59. Жадная на рыбу госпожа Джеремунд была схвачена людьми.<br />
60. Это заражение Аристофана с тем же элементом, которого глубоко изучает Т. Рётчер в работе<br />
«Аристофан и его эпоха» (Берлин, 1827).<br />
61. С. Прутц. Избранные очерки о современной немецкой литературе.<br />
62. См.: Полное собрание сочинений П.-Ж. Беранже — иллюстрированное издание Гранвиля<br />
и Раффе. Париж, 1837, т. 3, стр. 195–380.<br />
63. О макабрских танцах написано много фундаментальных работ. Много в них и глубоких размышлений.<br />
И все же не могу не заметить, что последний танец макабру в Германии (имеется в виду<br />
не гравюра Ретелшена) обойден вниманием и не согласовывается с предыдущими. Он написан маслом<br />
преимущественно художником Бечером и состоит из ряда довольно больших картин, часто довольно<br />
удачных, размещенных по длине главного коридора эрфуртского монастыря Св. Августина<br />
XVIII века. Если отправиться от базельского танца макабру через Эрфурт и Любек, где тоже можно<br />
найти этот танец, можно провести диагональ. Все же эрфуртский, благодаря своей сложности, достоин<br />
хотя бы литографии. Анализ написанного Гольбейном танца макабру был осуществлен в работе<br />
«Замечания по поводу немецкой истории и литературы» (Кёнигсберг, 1830, стр. 25).<br />
64. «Генрих-Лев», героическая поэма, состоящая из 21 песен, с историческими и топографическими<br />
примечаниями Стефана Кюнца (Кведлинбург, 1817, 3 тома).<br />
65. См.: С. Ж. Л. Жделер. История древней французской литературы с первых начал до Франциска<br />
I. Берлин, 1842, стр. 248 и дальше. Впрочем, эта бледная аллегоризация преобладала во всей Европе,<br />
начиная с XIV и вплоть до XVI века.<br />
66. А. Шопенгауэр. Мир как воля и представление. 1819, стр. 262.<br />
67. Турлупин назывался также и Таберином, Гаргвиллем, большим Гийомом, сегодня — Grosvoyeur.<br />
В одном из произведений современных банкистов «Les francais peints par eux memes» Ж. де Прованс<br />
(стр. 150). Эмиль де Бедоллье рассказал о многочисленных опытах старых и более современных ахиней.<br />
68. Репродукция у Теодора Панофки: Пародии и карикатуры в произведениях классического искусства<br />
(Берлин, т. 4, 1851, рис. 4, фиг. 3).<br />
69. Кто не хочет или не может перечитать эту сцену из Петрония (изд-во Бурман), поскольку идет<br />
речь о раритетном издании, его кусочки можно найти во фрагменте «Приключения Энклопа», вымария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
256<br />
карл розенкранц ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО примечания<br />
257
79. Руге. Новое введение, стр. 106: «Все уродство поэзии и любого другого вида искусства принимает<br />
только видимое явление духа как нереальное бытие фантома. Фантом — это явление, но не реальное<br />
и истинное явление духа, которое аннулирует объективную напряженность этого явления» и т. п.<br />
80. И Гёте в 15-й книге своей автобиографии говорит, что титаны являются отговоркой политеизма<br />
и что дьявол не является поэтической фигурой. Но именно как отговорка он становится тем, что<br />
в-себе не может быть и определенным моментом поэзии и искусства. Любое уродство как таковое<br />
лишено красоты, является непоэтическим и нехудожественным. Только в аспекте некоторого контекста<br />
и при определенных обстоятельствах оно становится возможным и эффективным с эстетической<br />
точки зрения. К примеру, братоубийца Каин сам по себе омерзителен; Люцифер, который при<br />
помощи софизмов вводит его в заблуждение, также омерзителен. Но в «Каине» Байрона (получивший<br />
от поэта еще название «Загадочность») через Авеля Каин становится поэтическим, точно так<br />
же, как Ада, Зилла и Люцифер становятся поэтичными посредством Каина. Впрочем, христианская<br />
сатанология также отличается от простого монотеизма.<br />
81. Переведенное Л. Тиком «Введение в творчество Шекспира», т. 1. В труде «О драматическом<br />
искусстве Шекспира» (1839), стр. 221 Ульрич дельно пишет о колдуньях из «Макбета»: «Его колдуньи<br />
являются гибридными созданиями — наполовину они силы природы, относясь к ночному мраку,<br />
наполовину — это распущенные, погруженные в зло человеческие силы; они представляют собой некоторое<br />
эхо зла, которое, рождаясь из сердцевины и духовного пространства зла, находит отзвук<br />
в человеческом сердце, провоцируя зло и позволяя ему развиваться как определение и действие».<br />
82. Ж. А. Мёркер. Принцип зла в понимании греков. Берлин, 1842, стр. 58–162.<br />
83. Иллюстрацией игры теней Карагёз можно увидеть в журнале «Illustration universelle» (Париж,<br />
1846, № 150, стр. 301). В «Воспоминаниях о путешествии в Африку» М. Ф. Морнон пишет об этом<br />
чёрте следующее: «Гротескный символ всех пороков и всякого бесстыдства, он сочетает различные<br />
типажи, придуманные у нас с целью напугать детей, отнять дар речи у старых женщин, слушающих<br />
бред рассказываемых долгими зимними вечерами сказок или, во время политических противостояний<br />
с целью усыпления подозрительной бдительности широких масс перед государственным переворотом,<br />
и даже с целью подпитки этого источника подлинного безумия, которое часто составляет<br />
достоинство современных мужчин, Карагёз — это Арлекин, Паяц, Полишинель, Кроквемитен, Синяя<br />
Борода, Картуш, Майе, Роберт Макейр Центральной Африки; но, вопреки этим качествам, у зрителей<br />
он пробуждал только слабое восхищение; как образец гнусности, он получает всевозможное презрение.<br />
В этой роли он воспроизводит на сцене все, что наиболее отвратительно и ужасно в цинизме; его<br />
слова, действия обладают отталкивающей грубостью. Оскорбляя стыдливость и невинность, он пародирует<br />
их вплоть до уродств, которые в легенде приписываются Пасифае».<br />
84. А. Дидрон. Христианская иконография, Париж, 1843, т. 4, стр. 545. Вместо половых органов<br />
находится голова с высунутым языком. Впрочем, средневековые миниатюристы считали, что создают<br />
увлекательное произведение, если пишут дьявола по возможности как можно более карикатурно,<br />
потому что в своем религиозном фанатизме верили, что таким образом они над ним смеются. А обидеть<br />
дьявола считалось похвальным для каждого христианина.<br />
85. В 7-м томе Полного собрания сочинений.<br />
86. Переведен во второй части «Введения в творчество Шекспира» Л. Тика.<br />
87. У меня также есть гравюра из «Искушения Св. Антония» Калло. Художник посвятил эту чудесную<br />
картину аббату Антуану де Северу, королевскому проповеднику, со следующей надписью:<br />
«Si constant adversus me castra, non timeblit cor meum» [Даже если против меня восстанут полчища<br />
дьяволов, мое сердце не дрогнет]. Что касается дьяблерий, хочу еще заметить, что в Средние века<br />
такого рода чудеса назывались grande diablerie и предполагали участие в игре по меньшей мере четырех<br />
дьяволов.<br />
88. Репродуцирован в альбоме «Доктор Фауст» Шейбла (Шттутгарт, 1844, стр. 23).<br />
89. Относительно понятий пародии и травести с эстетиками происходит то же самое, что и с логиками<br />
в случае понятий индукции и аналогии. Один называет пародией то, что другой называет<br />
травести, и наоборот. В случае травести остается действительным фундаментальное замечание, что<br />
оно является и пародийным, но не только в общем смысле, но и, как на это указывает название, придавая<br />
тому же содержанию другую форму, что и содержание подводит под другую квалификацию.<br />
Пародия может быть и серьезной, но травести всегда комично.<br />
90. К. Фишер (цит. соч.) сравнивал Гаварни с Тёпфером, дельно охарактеризовав юмор последнего.<br />
Рисунки Тёпфера представляют беглое движение пера. Манера Тёпфера стала очень распространенной<br />
в силу ее широкого использования на юмористических страницах мюнхенских газет.<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
258
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ<br />
Формации<br />
и деформации<br />
основания
БЕЗОБРАЗНОЕ В СТАНОВЛЕНИИ,<br />
СТАНОВЛЕНИЕ В БЕЗОБРАЗНОМ<br />
К вопросу о месте «Эстетики безобразного»<br />
в логике истории*<br />
Что день, что ночь, различия не строги —<br />
Приходит мрак по смолкнувшим часам.<br />
Ведут в обход полдневные дороги,<br />
Полночные — стучат по черепам.<br />
Вновь мраку — срок, не снимешь окруженья<br />
С земель, навеки погруженных в тень,<br />
Где плоть живет без признаков движенья<br />
И календарь роняет черный день.<br />
Мервин ПИК<br />
Мера красоты или степень 1 безобразного человека раскрывается<br />
в его непосредственности — тогда, когда индивид пред-стаёт 2<br />
«не помня себя», таким, каким он сформирован. Это «пред-стаёт»<br />
суть проявление его таким, каким он есть перед становлением.<br />
Но поскольку в своем качестве — как единство бытия и ничто —<br />
становление не может быть, как и не может не быть, то его отсутствие<br />
пере-становится в виде обращенности в минусовую бесконечность.<br />
В собственной положительной прогрессии становление<br />
выражает себя явлением степени развития собственной сущностной<br />
меры, в которой обнаруживает себя снятый в филогенезе онтогенез.<br />
Как негативность отсутствия не-становление утверждает<br />
негативную сторону противоречия и становится уже предпосылкой<br />
безобразного. Не строги различия между «днем и ночью» становления,<br />
когда непосредственное и опосредованное соотносятся<br />
* Этот очерк нужно попытаться прочитать. Критически относясь к стилю собственного<br />
письма, смею утверждать, что изложенной другим языком поставленная<br />
<strong>проблем</strong>а быть не может, как невозможны интегрально-дифференциальное исчисление<br />
при помощи арифметических действий. А если не выйдет — отложить, конечно,<br />
нужно сразу. Но он должен быть написан и потому не написать его было нельзя.<br />
раздел второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ безобразное в ставновлении…<br />
263
классического человека» отказалась от необходимости опосредования «рациональностью»,<br />
по мучительному пути постижения которой «Мировой разум» шел тысячелетия.<br />
И это шествие не только теоретизировало чувства и страсти, но и пренебрежительно игнорировало<br />
противоположности своих крайностей. «Печаль многознания» пред-ставала<br />
не только осознанием пропасти между высоким и низким, величественным и ничтожным,<br />
но и между теоретическим бытием сущности и непрожитою, непережитой жизнью. Это<br />
еще одна (наряду с гносеологической) причина непритягательности теории («теория, мой<br />
друг, суха, лишь вечно зеленеет древо жизни!») и персонифицированного подвижничества<br />
ее восхождения.<br />
Правда, такое восхождение завершается подчинением чувственного (эстетического)<br />
абстрактному разуму, поскольку оно (восхождение) могло состояться при условии независимости<br />
от эмпирии чувственного 3 . Неклассическое отрицание классической рациональности<br />
попыталось утвердить чувственное за счет отрицания разума и породило эклектику,<br />
в которой признавался уже Ницше: «Наука, искусство и философия столь тесно<br />
переплелись во мне, что в любом случае придется однажды породить кентавров». Этот<br />
уродливой симбиоз форм общественного сознания, которые в сознании неклассических<br />
философов и художников условно подпирают друг друга в моменты бессилия творческих<br />
претензий, прополз в категориальное пространство неклассического искусства и продолжает<br />
искажать собой его современные мотивационные установки. Ведь тупики устремлений<br />
такого рода уже давно обнаружены, описаны, расписаны, выговорены и прокляты.<br />
Но «вечное возвращение» в их паутину продолжается.<br />
Неопосредованная непосредственность снова пред-стала тем, чем была перед-становлением<br />
— претендуя на подлинное начало после «конца» гегелевского выражения всеобщности<br />
разума, она неоправдано впала в изначальность исторического филогенеза.<br />
Но в силу своей ложности и обращенности, это начало предстало формой извращенности<br />
отношения разума и чувственности, «ключевым моментом» которой и выступило<br />
отсутствие опосредований по всеобщему типу. Если, следуя мысли Ф. Шеллинга, безобразное<br />
есть лишенность, то неклассическая непосредственность лишала себя необходимого<br />
момента, наделяющего человеческую непосредственность человеческой наполненности.<br />
Отсюда не только «цветы зла» как расцветающее зло, но и агрессивное отрицание<br />
необходимости, отречение свободы от необходимости 4 как стержня своей «неразумной<br />
действительности» 5 . Отсюда же трансформация субъективной меры свободы в субъективизм<br />
волюнтаризма и произвола, которые не могли утвердиться и не могли не впасть<br />
в пессимизм и агрессивность бессилия. Буйство неклассической непосредственности,<br />
выписывавшей себя не «серым по серому», но рафинированным языком метафор, аллегорий,<br />
образов, сравнений и другими формами художественного языка, стремительно отдавалось<br />
в плен психологических аффектов и откровенного, но не менее тягостного<br />
и ужасающего безумия 6 .<br />
Выглядит парадоксальным, но условием защиты непосредственности от деградации<br />
по типу внешних, с кажимостной самостоятельностью противоречий. Иными словами, непосредственность<br />
выступает критерием достоверности того, насколько действительно<br />
окультурена реальная персона и потому умозрительные рассуждения и даже добротные<br />
знания «по поводу» диалектики культуры отнюдь не способны выступить критерием истинности<br />
и реальной тотальности таковой в диалектическом единстве содержания и формы<br />
человеческой особи. Эффект Дориана Грея остается особо актуальным для современного,<br />
не менее рафинированного в своих рассудочных изощрениях и скрывающего не<br />
один «скелет в шкафу» своих общественных явленностей. Именно поэтому пребывание<br />
человека в культуре остается пока что искусственным пространством «этикета» — он<br />
должен «следить за собой», «помнить себя», «держать себя в руках» и т. п. Это говорит<br />
лишь о такой «простой» вещи, что красота еще не состоялась как непосредственное явление<br />
культуры и что человек лишь «бывает» красивым, но не есть таковым, или же остается<br />
трансцендентально красивым лишь в своей сущности.<br />
Исследуя феномен непосредственного и его коллизий в связи с безобразным, А. С. Канарский<br />
выводил семантические составные этимологии понятия, обосновывая, что непосредственное<br />
суть отношение, строящееся на основании «не по средству», отношение<br />
к другому «не как к средству». Положительное выражение первого и другого аспектов образовывают<br />
феномен посредственности, которая является, по меньшей мере, ординарностью<br />
и тем входит в розенкранцовское обоснование начальной стадии деформации. Если<br />
в начале (и в основании) абсолютная форма присуствует как без-образность, то начало эстетического<br />
обречено на самоопосредствование идеальным (искаженное значение которого<br />
в концепции Розенкранца принимает «неточное», «неправильное» как ложная форма<br />
отражения преодоления предела после первого самоотрицания непосредственного).<br />
Но пред-стающее перед становлением, являющее себя в своей неразвитой данности<br />
непосредственное не прошло историческую логику онтогенеза. Таким образом, непосредственность<br />
может быть аморфностью в детском начале филогенеза и в этом случае<br />
еще не безобразной, но может быть безобразной в значении деформации в том случае,<br />
когда она не опосредована сущностью развития, всеобщим принципом, или принципом<br />
всеобщего. В последнем необходимом случае она опосредована таким образом, что опосредованность<br />
именно содержанием всеобщего принципа покинула свою абстрактно-абсолютизированную,<br />
«гипер»-рациональную форму и уже снята в непосредственности<br />
в виде культуры, ставшей безусловным рефлексом. В историко-философском аспекте это<br />
ситуация, возникшая, но ложно поставленная теоретиками в пространстве неклассической<br />
«философии жизни», экзистенциализма, фрейдизма вместе с неофрейдизмом, ориентированных<br />
на значимость именно субъективной непосредственности, но пытающейся<br />
решить эту <strong>проблем</strong>у через игнорирование «насилия разума». Перемещение принципов<br />
неклассической философии в основание деформации последующей и современной истории<br />
было обусловлено тем, что требующая действительного освобождения от безжизненных<br />
абстракций классической рациональности, чувственная непосредственность «немария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
264<br />
раздел второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ безобразное в ставновлении…<br />
265
в деформированную меру является постижение и «распредмечивание-опредмечивание»<br />
опосредования в его противоречивом единстве всеобщего и особенного, предстающие<br />
и присутствующие в его (опосредования) транспарентной и одновременно неопределенной<br />
(из-за напряженности переходов) логике единством «бытия» и «ничто», видимым<br />
и невидимым, существующим и несуществующим. Но именно феномен опосредования<br />
относится к теоретическим <strong>проблем</strong>ам философии и искусства, который фактически<br />
не исследован и, соответственно, не постигнут. Следовательно, за пределами философских<br />
и эстетических рефлексий остается способ взаимоопосредования философии и искусства<br />
как форм общественного сознания, отражающие теоретическое и чувственное<br />
самосознание человека. В таком случае, философия продолжает свое аскетическое пребывание<br />
в замкнутом пространстве худосочного рассудка (бесконечно рассуждающего<br />
по поводу своих рассуждений и украшающий эти рассуждения комплектами цитат), а искусство<br />
продолжает утверждать эстетические фантомы и, не будучи в состоянии освободиться<br />
от иллюзии собственной самостоятельности, удовлетворяется безобразным как<br />
детерминантою бытия. И философия, и искусство дружно порождают и потребляют<br />
симулякры, запрашивая мир на это сомнительное пиршество неистинных истин, безобразных<br />
красот, безнравственных моралей. Соблазнить этим можно только нуждающихся<br />
в обосновании детерминизма лжи, безобразного и зла («такова жизнь»!) или же порождая<br />
таковых. Даже помимо воли.<br />
Следовательно, основательное опосредование разума и чувственности положено (атрибутивно<br />
присуще) в основание общественной меры взаимоопосредования материального<br />
и идеального, раскрывающего себя в историческом генезисе и восхождении утилитарного<br />
до категориально-теоретического познания идеального (в его гносеологическом значении)<br />
и конституирования принципов эстетической идеальности (совершенства), а также нравственного<br />
идеала (добра). Это первичное обнаружение принципов основания в его классическом<br />
онтогенезе, которое страдает абстрактностью (а потому не лишено возможности бесконечной<br />
вариативности логических фальсификаций и их активного потребления), но без<br />
которого невозможно утверждение опосредований «единичного-всеобщего» в непосредственном<br />
основании человеческой жизни как действительного основания особенной, логически<br />
не унифицированной непосредственности. Безусловно, смертельно увлекшиеся неопосредованной<br />
непосредственностью (или логической и образной галлюцинацией тождества<br />
непосредственности с собой) формы общественного сознания, человечество в целом и отдельный<br />
человек в частности не замечают, что деформация как апогей безобразного представляет<br />
собой совершенство в смысле совершившегося (свершившего все свои возможности)<br />
факта извращенного симбиоза лжи, зла и уродства. Этот симбиоз обладает такой разрушительной<br />
силой, что, возможно, уже успел разрушить волю к жизни.<br />
Разрешение противоречия разума-чувственности как противоречия опосредованноенепосредственное<br />
(в историко-философском значении классической и неклассической<br />
философии, в значении содержания, императивов и констант сущности общественных<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
266<br />
отношений, а также в отношении феноменологии духа и феноменологии чувств) требует<br />
постижения теоретической семантики опосредования. И каким «далеким» и «оторванным<br />
от жизни» он не казался бы современной обывательской рассудочности и искаженной<br />
зеркальности форм общественного сознания, извращенному самосознанию<br />
современности и способу интерпретации смысла вещей современным человеком, без постижения<br />
этого более чем сложного феномена, разрешить противоречие прекрасного-безобразного<br />
в пользу их субстанциальных «сторон» (а ложь, зло и безобразное не субстанциальны)<br />
невозможно.<br />
Вместе с тем, опосредование может пониматься исключительно в контексте его атрибутивности<br />
внутреннему противоречию — противоречию одного — единого — основания. Теоретическая<br />
слабость в понимании противоречия не только как «источника развития»,<br />
но как тотальной формы развития, предполагающего логику разворачивания противоречия(-ий)<br />
и его(их) разрешения, в нашем конкретном случае сильно усложнит, если не отобьет<br />
у многих охоту постигнуть теорию Розенкранца, ибо автор «Эстетики безобразного»<br />
выводит исследуемый феномен из природы противоречия не потому, что он является верным<br />
учеником великого диалектика Гегеля, а потому что логика возникновения, разворачивания<br />
из собственного основания, искажения опосредований и самого этого основания<br />
противоречий имманентна объективной логике становления классической истории. Приемами<br />
формальной логики к ней не подступиться и не стоит рассчитывать на доступную,<br />
раскрашенную «энциклопедию» примеров безобразного, которую можно освоить «с лёту».<br />
Следующий аспект феномена опосредования заключается в том, что он уже не раскрывается<br />
и не постигается на уровне и посредством статики форм — современная эстетика<br />
как образ-действие непосредственности современного мира вышла за пределы<br />
«состояний» (хотя, как ей кажется, именно «непосредственные состояния» она и воспроизводит<br />
в современном искусстве) и вошла в пространство «движения как самодвижения»,<br />
хотя, не рефлексируя объективно-историческое основание такого движения, не обладая<br />
и не овладевая им, она не способна превратить «самодвижение субъективности»<br />
в саморазвитие себя и мира.<br />
Но постижение дуализма природы становления в безобразном и безобразного в становлении<br />
невозможно с позиций искусствоведения. Как, впрочем, невозможно и с позиций<br />
чистой философии. Вместе с тем, именно в компетенции философия и больше<br />
ни в чьей способность выявить природу основания такого становления. И только после<br />
такого выведения возможна адекватная рефлексия основания такого становления.<br />
И именно основание, как уже говорилось раньше, остается «неизвестным», «Великим<br />
Анонимом» (Л. Блага) всеобщей истории теории и теории всеобщей истории в единстве<br />
их теории и истории всеобщего как логики становления и познания его атрибутивных<br />
модусов — мышления и чувственного, самосознания и эстетического, вплоть то саморазвития<br />
самосознания чувственного и чувственности самосознания. Известна мысль Цицерона,<br />
что темнота не заслуживает упрека в двух случаях: либо произносишь ее намеренраздел<br />
второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ безобразное в ставновлении…<br />
267
том как «онтологическом» в силу того же раздвоения основания) становлении субстанциального<br />
противоречия материального мира как первичного абстрактного «единства<br />
тождества и различия» (Гегель), демонстрируя превращенный характер «выходящих»<br />
из него противоположностей. Пожалуй, эта азбучная истина перестала бы носить схоластический<br />
характер и восприниматься такою, если бы превращенность опосредствования<br />
материального и идеального, мышления и чувственного, самосознания и эстетического<br />
в основании становления всеобщего не воспринималось (чем обнаруживается отсутствие<br />
способности теоретического основания в основании, «в-себе») бы до сих пор на уровне<br />
парадокса. В данной рассудочной форме (так как парадокс — логическая форма рассудка,<br />
который не справляется с природой противоречия) статус основания отождествляется<br />
или с логической предпосылкой, или с физическим, географическим пространством,<br />
или, в неопосредованной непосредственности, с физиологией.<br />
Но философско-эстетический анализ природы и сущности основания нуждается<br />
не столько в определении объективных, логических и гносеологических оснований каждой<br />
философской школы или системы, или образно-логических предпосылках искусства,<br />
сколько в том, чтобы выявить субстанциальность генезиса основы философии и искусства,<br />
до поры-до времени синтезирующих себя как философия искусства и искусство<br />
философии 8 . Как такое «чистое единство» оно обнаруживает себя в момент преодоления<br />
особенных форм практической, материально-производственной эволюции истории,<br />
отраженных в становлении особенных форм идеального, включающего и снимающего<br />
в себе практические и отраженные формы чувственного. Адекватной формой историкофилософского<br />
и историко-художественного выведения основания является осмысление<br />
логики, производящей содержание человеческих чувств как особенность общественных<br />
отношений через фундаментальный принцип тотальности человека.<br />
Исторически первичное самоопределение основания в качестве предмета понятия<br />
обусловливает необходимость совпадения начала исследования основания с началом его<br />
идеального самоопределения 9 , хотя идеальное, будучи в античной диалектике принципом<br />
и формой познания, не является еще основанием характера производственной деятельности<br />
и потому не является конкретно всеобщим. Следовательно, в утверждении необходимости<br />
такого начала исследования отсутствует какой-либо произвол. «Начало»<br />
и «основание» в логике исследования самого основания могут быть тождественными<br />
объективной предпосылке в том случае, если противоречие материального и идеального<br />
освобождено от стихийности способностью диалектической саморефлексии, которая<br />
отсутствует в первобытном сознании, но уже присуща античному миру. Такая саморефлексия<br />
нацелена на космические определения тождества материального и идеального<br />
(когда «человек суть микрокосмос макрокосмоса»), что не позволяет ей превратиться<br />
в индивидуальное самосозерцание. Хотя «раздвоение» основания здесь обусловлвиает<br />
и совпадает с возикновением теоретического самосознания, отсутствовавшего в первобытном<br />
синкретизме человека, сознание которого суь «осознанный инстинкт», а чувства<br />
но, как Гераклит, либо когда непонятность речи обусловлена темнотой предмета, а не<br />
слов, как у Платона в «Тимее». Но темнота может быть распространена на сущность<br />
основания и особенностями сложности его исследования, и необходимостью особенной<br />
логики изложения его генезиса в диалектике содержания и формы. Как в качестве всеобщего<br />
противоречия, так и в качестве конкретности меры всеобщего субстанциальность<br />
основания не поддается ни теоретическому, ни художественному, ни мудрствующему<br />
рассудку, но поиск его способен стать предметом такой страсти, которая сжигает, как<br />
это случилось с бальзаковским Валтасаром Клаасом, остальные радости жизни. Невзирая<br />
даже на то, что страсть поиска такой природы всегдя превращается в муку, справиться<br />
с которой посильно только смерти.<br />
Темнота основания проявляется уже в превращенной логике его самообнаружения.<br />
Историческое развитие теории познания подтверждает, что «только расположив весь<br />
процесс в диаметрально-противоположном порядке, мы получаем картину того, что происходит<br />
в действительности» [15]. В особенности вышеназванной трансформации логического<br />
и исторического вся предшествующая история предстает не только как процесс<br />
самообнаружения основания в форме антагонизма всеобщего и единичного, но и как процесс<br />
его затемнения в логике становления форм диалектики и в логике становления видов<br />
искусства — наполнение конкретностью первых и вторых приближает их к существенным<br />
неотъемлемым модусам общественно-исторического содержания сущностных сил человека,<br />
но тем самым и одновременно отдаляет их от базового «каркаса» основания развития.<br />
Более того, и формы диалектики, и виды искусства предстают двойственным выражением<br />
такого отдаления-приближения: с одной стороны, они конкретизируют существенные явления<br />
основания, но осуществляют это в пространстве особенных форм снятой в себе всеобщности,<br />
в силу чего сохраняют в себе определенную сущностную недоступность. С другой<br />
стороны, именно благодаря кажимой эмпиричности, такая конкретизация создает видимость<br />
доступности (а в просветительской упрощенности — догматический схематизм<br />
таковой) «субстанции» принципа мышления и общественного «материала», «вещества»<br />
искусства. Становление же по своей природе не знает собственного основания, выступая<br />
феноменальной противоположностью общественных форм эволюции его исторического<br />
содержания и форм его неуловимого теоретического и воспринимаемого художественного<br />
отражения. В своей теоретической и художественной форме становление сокрыто<br />
в предпосылках открытой Марксом тайны отчуждения и одновременно раскрывает себя,<br />
выявляя прогрессивную «линию» направленности генезиса самого себя в генезисе теоретического<br />
познания и эволюции видов искусства 7 , строит философские и искусствоведческие<br />
иллюзии относительно своей самостоятельности, свысока рефлексирует по поводу<br />
раздирающих мир антагонизмов, находят их уродливыми и ограничивается этим.<br />
Логика взаимоопосредования реальной истории и философии обнаруживает то, что<br />
возможность отчуждения философского духа с одновременным отчуждением «духа<br />
искусства» содержится непосредственно в объективном (для определенного этапа понямария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
268<br />
раздел второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ безобразное в ставновлении…<br />
269
еще пребывают в плену естественной целесообразности. Это самосознание человека-микрокосмоса,<br />
выражающего единство мышления и эстетического в нераздельности воплощения<br />
философии в искусстве. Если синкретизм рождающейся мысли и гносеологии<br />
эстетического в первобытном обществе представляет собой неопосредованную меру,<br />
то античный синкретизм мышления и чувственного как неопосредствованное собственным<br />
становлением противоречие «начала» самосознания и чувственного предстает становлением<br />
сущностных способностей человека уже в разорванном основании истории<br />
(ознаменовавшей, согласно выражению Дени Дидро, «начало гражданской войны внутри<br />
разделенного на две — идеальную и чувственную — «сущности» человека»).<br />
В процессе историко-философского понятийного самоопределения основание как абсолютная<br />
субстанциальная форма раскрывается взаимопревращенностью форм материального<br />
движения, но так, что последние становятся развернутой логикой предметности<br />
исторической практики, ее генезисом, отраженном в практике формирования философских<br />
понятий и форм отражения чувств в виде художественного опредмечивания их пространства<br />
и времени. «Вовлечение» форм материального движения в предмет общественной<br />
практики вызывает качественное изменение не только орудий труда и способов<br />
производства, но и форм воплощения и перевоплощения таковых в поэтический мир<br />
«орудийности» формы искусства, причем не только как «экстракта» красоты, но и как<br />
высвобождение чувства красоты от несвободы уродливого существования. На этом<br />
общественном основании формы материального движения конкретизируются в способах<br />
производства, представляющих в своем развитии конкретно-особенные ступени становления<br />
всемирной истории, утилитарной квинтэссенцией которых выступает уровень развития<br />
производительных сил. Но последние могут постигаться в основании развития<br />
исключительно при условии их перевоплощения в условие и способ перевоплощения творческого<br />
воображения саморазвивающегося индивида. Утилитарный подход к логике истории<br />
через ограничение производственного значения производительных сил является<br />
одной из определеяющих причин плоской меркантилизации развития, которое обладает<br />
предпосылками в политической экономии, но не обладает достаточным основанием эстетического<br />
саморазвития человека. Именно поэтому «древние греки были нормальными<br />
детьми человечества» (К. Маркс). И именно потому, что это было лишь детство человечества,<br />
античный синкретизм искусства и философии был обречен на то, чтобы пережить<br />
трагедию Сократа как поражения реального вопложения мудрости красоты и блага добра.<br />
«Производство» идеального (в его логической, эстетической и этической составляющих)<br />
начинается с опосредствованного всеми формами материального движения противоречия<br />
мышления и бытия, выраженного в противоречии содержания логического и чувственного.<br />
Причем все эти формы движения в обратном порядке воспроизводят себя<br />
в логике и способе их опредемечивания искусством (в логике их воспроизводства в видах<br />
искусства, осуществляющая себя через художественное распредмечивание-опредемечивание<br />
пространства и времени эстетики общественного развития). В этой триединой<br />
идеальной форме всеобщее «удерживается» категориальными самоопределениями<br />
особенных форм становления, хотя осознание атрибутивности форм движения (как<br />
необходимых исторических ступеней самосознания, самопознания и эстетического<br />
воплощения всеобщего) превращаются в достояние философского разума и разума искусства<br />
в конце исторического становления философии. Тем не менее, в изначальной<br />
синкретичности понятия и основания генетически заложена логика будущих исторических<br />
форм, которые будут приниматься основанием, и данная синкретичность является<br />
не только зарисовкой и единственной миниатюрой эстетической определенности основания.<br />
Доразвитие синкретизма понятия и основания до чувственно завершенной тотальности<br />
остается современной формой «основного вопроса философии», непонимание которой<br />
служит причиной ее консервации в пределах логических противоречий. В подлинном<br />
логическом завершении определение противоречия сущности человека и способа его общественно-исторического<br />
и личностного существования требуют выявления как<br />
конкретно-исторического противоречия разума и чувства истории, или исторического<br />
содержания своего мышления и чувств. Только «исторического» не в смысле «эволюционного»,<br />
а в смысле достоверной сущности. В кратком предисловии к лекциям по эстетике<br />
Гегель подчеркивает, что эстетическое тождественно не художественному, а чувственному<br />
10 . Следовательно, эстетическое не сводится к функции опосредствования форм<br />
общественного сознания и поэтому не является только категорией искусства. Напротив,<br />
диалектическое определение сущности материальности бытия с необходимостью выводит<br />
историко-философское сознание античного человека на эстетическое основание<br />
сущности человека. Непосредственной формой и содержанием основания всеобщего<br />
предстает эстетическая определенность индивидуальности в той степени, в какой мера<br />
истории представлена в непосредственном бытии человека как его личная мера, выступая<br />
в индивидуальном завершенной, свершившейся, а потому совершенной мерой (хотя историческое<br />
и содержательное здесь тождественны относительно).<br />
Завершенность в свершении всех исторически возможных форм жизни, пережитых<br />
в едином круге исторического времени, представляет главный итог античной философии<br />
и первого круга истории философии вообще. В аспекте постижения логического и эстетического<br />
феноменов основания необходимость сопоставления античного «круга» тождества<br />
самосознания и чувственного с отражением их трансформированного единства в немецкой<br />
классической философии обусловлена отнюдь не тем, что «логика Аристотеля есть запрос,<br />
искание, подход к логике Гегеля», а тем, что закон общественного формообразования<br />
субстанции постигает себя гносеологическим и эстетическим абстрагированием из безмерности<br />
«лишенного форм и линий» (Бодлер) основания. Субстанция как абсолютное основание<br />
материальна в абсолютном, бесконечном переходе всего во все, она — пред- и постграница<br />
перехода (скачка), момент возникновения и исчерпания преходящих мер. Будучи<br />
«ничто» как абсолютный переход, оно, субстанциальное основание, не расположено —<br />
не положено как чистое пространство, а являет себя космическим напряжением времени.<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
270<br />
раздел второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ безобразное в ставновлении…<br />
271
Стихийно диалектически субстанциальное основание представлено самым простейшим<br />
и абсолютно первичным противоречием притяжения и отталкивания — силы самой<br />
простой и самой могучей, названной Эмпедоклом силой «Любви» и «Вражды». Это сила<br />
«зыбкого хаоса», принимаюшего конкретные формы через разворачивание, развитие<br />
и разрешение противоречий становления. Не ставшая как форма наличного бытия, эта<br />
сила представляет собой «ничто» и является конкретной определенностью исключительно<br />
как становящееся противоречие. Противоречие основания при этом не привносится<br />
из наличных форм мышления и бытия, а понимается как внутренне необходимое, имманентное<br />
способу становления субстанции. При условии утраты субстанциальности<br />
«ничто» сила искусства иссушается «ничтойностью» образов даже в тех случаях, когда<br />
образы эмпирически сопоставимы с определенным содержанием 11 .<br />
Сведение Гегелем «бытия ничто» исключительно к логической предпосылке, к еще<br />
неопределенному бытию мышления, было совершенно правомерно, если исходить из теоретических<br />
оснований его системы. Но «бытие ничто» объективно и в материалистическом<br />
понимании как неопределенное, аморфное начало становления конкретно-исторических<br />
форм чувственного. «Великое Ничто» (К. Бальмонт) бесчувственно не безразличием,<br />
не отсутствием противоречия, самодвижения, а временным отсутствием пространственно-определенных,<br />
эмпирически противоречивых форм ставшего бытия. Так диалектика<br />
формы и содержания выступает в «ничто» отрицательной формой, когда и содержание,<br />
и форма реальности абстрактно положены в сущности (в абсолютном законе развития)<br />
как ее «бесформенное тождество» себе самой. «Материя не суть основание формы,<br />
а единство основания и обоснованного. Материя есть пассивное, форма — активное», —<br />
выводил Аристотель. Субстанция, как заметил Т. Тассо, суть то, «что еще не испытало<br />
мастерства эпического поэта», а с другой, становится предметом такого творчества, причем<br />
в наивной, именно эпической форме, то есть, становится предметом идеального определения.<br />
Позднее философы эпохи Просвещения заметили историческую особенность<br />
разума, проявившейся в поэтической форме становления теоретических понятий. Поэтичность<br />
понятий была обусловлена постижением основы мира как гармонического<br />
противоречия вечности и обнаружением всеобщего основания в качестве материальной<br />
формы, носящей не вещную (вещественную), а эстетически-чувственную самодостаточность<br />
прекрасного. Такая форма не формализуется, а господствует в той мере, в какой<br />
выявляет себя самоопределением индивидуального в моменте высшей степени свободы.<br />
В доплатоновской диалектике отсутствовало различение противоположности и противоречия.<br />
Не различалась еще и противоположность материализма и идеализма. У Хайдеггера<br />
«Греческий человек есть лишь постольку, поскольку он слушает сущее, почему в эллинстве<br />
мир и не может стать картиной. Зато если для Платона существо сущего определяется<br />
как эйдос (вид, облик), то это — очень рано посланная издалека опосредствованно<br />
и проникновенно правящая предпосылка того, что миру предстоит стать картиной» [18].<br />
«Картиной» не только теоретической, но и художественно-образной (со временем Хаймария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
272<br />
деггер огласит, что современная эпоха — это мир, который сводится к образам, что хараткеризует<br />
такую картину современного мира, когда одновременность состояния распада и<br />
мозаичного совмещения несовместимых оснований придает образу мира значение гносеологически<br />
смещенной аллегоричности и гностицизма). Поэтому перенос основания в сферу<br />
идеального выступает одновременно скачком в развитии предмета философии и «предметности»<br />
искусства. Именно с осознания необходимости обоснования всеобщего основания<br />
начинается принципиальная определенность историко-философских кругов познания<br />
и пространственно-временной генезис самосознания икусства. Ведь объективноадекватной<br />
основанию формой может быть только сфера, содержащая и снимающая в себе<br />
и через себя все геометрические и реально возможные формы бытия. На этом этапе основание<br />
постигается уже не со стороны его субстанциального содержания, но со стороны<br />
его существенной сотворенной формы. Гениальная догадка о сфере как идеальной и абсолютной<br />
форме всех реально определенных форм движения была обусловлена в начале<br />
свершением гармонии в жизни творящего свободного грека, свернутостью всех времен в<br />
развитии греческого полиса в целом. Догадка эта была высказана в наивной форме: «Он<br />
также утверждает, что бог вечен, один, подобен в каждой точке /своего существа/, конечен,<br />
шарообразен и обладает чувствительностью во всех /своих/ частях» [19, 1, 165]. «Обладание<br />
чувствительностью во всех своих частях» — постановка вопроса о связи сферы<br />
и чувственного как единства логической и эстетической полноты, но его актуальное значение<br />
состоит в том, что в непосредственно-чувственном бытии основанием сферы становится<br />
каждая точка кривой, обрамляющая формой ту или иную степень становящейся меры.<br />
Следовательно, эстетическая определенность основания — не точка, а пространство. Основание<br />
не имеет эмпирического тела. Оно — ставшая результатом напряженность силы<br />
противоречивости движения и такая сила обосновывает себя способностью быть, способностью<br />
оформить себя реальным существованием, наличным бытием рождения. В нем основание<br />
всеобщего раскрывается как круговая координата формообразующего движения,<br />
вектор которого тяготеет к притягивающему «центру», не имеющему пространственной<br />
локализации вне чувственно-практической деятельности человека. Только в ней источник<br />
развития может быть определен как конкретная сущность. В этом круговом движении заложены<br />
параболы и гиперболы поэзии и прозы человеческой жизни, феноменологического<br />
становления мира. И чем интенсивнее движение по неуловимой орбите, тем интенсивнее<br />
проявляется противоречие каждой «точки», стремящейся к перевоплощению в себя<br />
центрального звена микро- и макро- космоса жизни. Своеобразное отражение принимает<br />
эта невидимая ось и в древней архитектуре. В книге «Город Амфиона и город Прометея»<br />
итальянский исследователь Розарию Ассунто отмечает: «Исторический город возникает<br />
как пространственно-качественное изображение бесконечности времени через постоянство<br />
его соотнесенности к некоторому центру, и не только топографическому» (курсив мой.<br />
— М. Ш.) [20, 13]. Следовательно, сфера не является здесь формой в геометрическом значении<br />
и обоснована в истории философии как категория, выражающая логику человечесраздел<br />
второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ безобразное в ставновлении…<br />
273
кой жизни. В ней нет прямых, безразличных линий — «но и по кругу /демиург/ как бы<br />
загнул крайности» [19, 206]. «В природе, где все выпукло, нет линий», — утверждает один<br />
из героев Бальзака. Они, как отрезки кривой, в реальности являются метафизическими<br />
границами сферы, пределами той или иной меры, рассматриваемой не в плоскости, но как<br />
совершившая весь круговорот развития. И очертить сущие границы меры при помощи чистой<br />
линии невозможно, посокольку она может быть только контуром безразличного пространства.<br />
В сущности меры предел определен внутренними саморазличениями и слиянием различий<br />
содержания и сущности. Это не та обозначенность формы, которая, к примеру,<br />
равнозначна граням кристалла, ибо бытие даже неорганической формы не в ней самой,<br />
а в ее внутреннем и внешнем взаимопереходе, взаимопревращении в ином, во включенности<br />
в мировое единство мира. Так перевоплощение меры времени и меры пространства<br />
очерчивало себя в генезисе пластических видов искусства, становясь средством художественного<br />
выражения: «Я не вырисовывал фигуру резкими контурами, как многие невежественные<br />
художники, воображающие, что они пишут правильно только потому, что<br />
выписывают гладко и тщательно каждую линию, я не выставлял мельчайших анатомических<br />
подробностей, потому что человеческое тело не заканчивается линиями. В этом отношении<br />
скульпторы стоят ближе к истине, чем мы, художники. Фигура состоит из ряда<br />
окружностей, переходящих одна в другую […] Линия есть способ, посредством которого<br />
человек отдает себе отчет о воздействии освещения на облик предмета» [21, 19, 87–88].<br />
Возможно, что исторические закономерности генезиса видов искусства и развитие основополагающих<br />
принципов художественного творчества помогут обосновать утверждение,<br />
что в качестве абсолютной формы движение всеобщего абстрагировано из реальных<br />
определений абсолютного содержания, то есть, и эстетическая форма и идеальное содержание<br />
являются рефлексиями основания и только их взаимоопосредование порождает<br />
бесконечное богатство форм наличного бытия, вместе с их логико-эстетическим восприятием<br />
и воспроизведением. Тем не менее, идеальность содержания, совпадающая с абсолютной<br />
формой основания недоступно эмпирическому восприятию, но объективно,<br />
с необходимостью обладает такой формой. Это форма неутилитарной, свободной целесообразности<br />
их единства в его движении и самоотрицании. В начале исторического самоопределения<br />
основание предстает и синкретизмом, и становлением, точнее — преодолевающем<br />
первичный синкретизм становлением, и в качестве становящегося схематично<br />
определенным по отношению к собственному содержанию. В художественном сознании<br />
оно отражено как преодоление аморфности, симметрии и асимметрии. Словами Шлегеля:<br />
Но тем, кто волшебством моим пленен,<br />
Я в тесной форме ширь и глубь открою<br />
И в симметрии сплавлю все контрасты.<br />
В греческом полисе геометрическая форма основания несет нагрузку априорно необходимой<br />
формы наивно постигнутого закона сущности. «Геометрия — это язык разума<br />
и в универсуме знаков. Она схватывает все формы в их начале — в их принципе, в некоторой<br />
системе точек, линий и постоянных пропорций» [22, 56]. Так основание облекается<br />
в форму структуры, универсалии которой зашифрованы в формуле. Причем таким образом,<br />
что формула еще не играет роли формализации мышления, но процесс выведения<br />
формулы предельно диалектичен — со временем она будет выражать бесконечность многообразия<br />
взаимоперехода «ничто» в «нечто». Историческая и объективная адекватность<br />
формул законам развития выводила математику и геометрию на тайны геометрического<br />
способа обоснования красоты мира. В последующем это априорное обоснование оказалось<br />
удивительно производительным. Кеплер сравнивал обращение планет вокруг Солнца<br />
с вибрацией струн, говорил о гармонической согласованности различных планетарных<br />
орбит, о гармонии сфер. «Как же случается так, что с помощью упомянутого сияния красоты<br />
— сияния упреждающего — удается распознать великую связь точной науки даже<br />
еще до детального понимания этой самой важнейшей связи и до появления реальной возможности<br />
рационально продемонстрировать эту связь» [23, 55]? В упреждающем сиянии<br />
красоты кроется и опережающая сила искусства, схватывающее единство мира эстетически<br />
до того, как оно постигнуто и обосновано логически.<br />
Если в истории философии пространство фигурировало как некая абсолютная форма,<br />
не сводимая к эмпиричности реального бытия, то постижение пространства как внутренней<br />
формы принимает новое значение у Канта, где, в единстве со временем, оно дано в качестве<br />
эстетически первичной формы. Навязанная пространству априорность была<br />
ошибочной относительно общественного пространства, но, абстрагируясь от того, что<br />
в пределах кантовского трансцендентального обоснования тождества мышления и бытия<br />
иначе было невозможно, доведение пространства до формы чувственного нельзя переоценить,<br />
так как и истинность, и действительность рассматривались в качестве феномена<br />
всеобщего. Утверждение Шеллинга: «Пространство же мы, напротив, пояснили бы как<br />
то, что повсюду составляет только окружность и нигде не составляет центра» [24, 38] значимо<br />
тем, что уже здесь пространство освобождается от эмпирически-натуралистической<br />
семантической «нагрузки». Так отчужденная форма логики превращается в отчужденную<br />
ино-форму субстанции, в которой эстетическая форма предзадана «духом»<br />
и опредмечивает себя в трансцендентальном художественном акте.<br />
Кантовская теория эстетического изложена им в «Критике способности суждения».<br />
Но, написав ее после «Критики чистого разума» и «Критики практического разума»,<br />
философ впоследствии сделал вывод о том, что ее следует разместить между первыми<br />
«Критиками». Кант выходит за пределы философских принципов своей системы, так как<br />
основание мира в качестве непосредственно необходимого проявляется как чувственное<br />
совпадение необходимости (чистого) и свободы (практического) разума. Сделан первый<br />
шаг в лишении категорий «основание» и «всеобщее» статуса чистых категорий с абстрактно-логическим<br />
содержанием. Выявляя чувственно-эстетический характер тождества<br />
мышления и бытия, Кант дает последующим системам направление личностно-всеобщего<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
274<br />
раздел второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ безобразное в ставновлении…<br />
275
характера основания, проявляющегося здесь уже не как антиномия, но как диалектическое<br />
противоречие. С одной стороны, эстетика, которую «как науку о всех априорных<br />
принципах чувственности, я называю трансцендентальной эстетикой» [25, 3, 128], с другой<br />
— «именно потому, что все определения чувства имеют лишь объективный смысл,<br />
не может быть никакой эстетики чувства как науки, подобно, скажем, эстетике познавательных<br />
способностей» [26, 5, 126]. Важно, каким образом Кант обосновывает это противоречие:<br />
«Эстетическим суждением в общем (смысле) можно назвать такое суждение,<br />
предмет которого никогда не может быть познанием (понятием об объекте), хотя в общем-то<br />
может содержать в себе субъективное условие познания. В таком суждении определяющим<br />
основанием служит ощущение» [там же, 128]. И если целью чистого разума<br />
является не просто подведение единичного под необходимое и всеобщее, то такое подведение<br />
может осуществиться как возвышение индивидуально-особенного до всеобщего<br />
императива истины, нравственности и красоты. Ведь определения чувства, имея во всех<br />
проявлениях субъективный смысл, очеловечены тем, что, имея своим определяющим<br />
основанием ощущение, они имеют своим определяющим принципом разум, освобождающий<br />
стихию непосредственности от феномена безобразного. Поэтому красота является<br />
непосредственно-нравственной определенностью истины, становясь целью, как практического<br />
разума, так и эстетической способности суждения. Критика способности суждения<br />
представляет собой, таким образом, сферу исследования, где, казалось бы, категория<br />
основания может быть определена в ее объективном содержании. Ведь в качестве предмета<br />
философского анализа, эстетическое вынуждает выйти на осмысление момента совпадения<br />
«материального» и «идеального» как индивидуализированное тождество логического<br />
и эстетического. Но персонифицированная непосредственность основания в этом<br />
пространстве истории остается «исключением из правила», при котором, в случае философа,<br />
логическое преобладает над чувственным, в случае художника — чувственное преобладает<br />
над логическим. Но в каждом случае (если речь идет о великом философе или<br />
художнике, о величии человека как персонализации основания) это относительное<br />
преобладание одного над другим не нарушает всеобщую меру красоты, а утверждает ее<br />
в степени личностной меры самого становления.<br />
Почему это критика способности суждения Кант объясняет вполне доходчиво и, к сожалению,<br />
его трансцендентальное объяснение не утратило своей актуальности не только<br />
для классического времени, но и для современности, поскольку прекрасное еще не вырвалось<br />
из плена одиночества разума, не стало хотя бы способностью суждения, если<br />
не принципом практического самоопределения реального человека. Не перекликаются ли<br />
в таком случае объективные основания кантовской постановки вопроса с его современной<br />
неразрешенностью? Кант вынужден исторически определить возвышенное и прекрасное<br />
при помощи примеров. Но могло ли быть иначе, если «вся домарксовская эстетика, за исключением<br />
эстетики Н. Г. Чернышевского, не знала реальной потребности в эстетическом,<br />
т. е. отличной от потребности человека в искусстве, в духовных феноменах» [27, 101].<br />
В данном случае трансцендентальный априоризм лишает пространство эстетического возможности<br />
реального развития, поскольку конкретно-историческое понимание истины<br />
здесь принимает абстрактно-абсолютный характер. В системе трансцендентального идеализма<br />
возможно только отрицание практической всеобщности чувств, следовательно,<br />
объективному содержанию и объективной противоречивости последних навязывается абсолютная<br />
форма в идеалистическом понимании формы — форма, привнесенная духом из<br />
своей «чистой субстанциальности», а не выведенная из единства субстанции мира и субстанции<br />
чувств. Закономерно, что Кант отказывает чистому разуму в способности справиться<br />
с задачей возвышения индивида до высших принципов жизни, ибо такое возвышение<br />
могло быть достигнуто исключительно через практически-эстетическое возвышение<br />
самого разума. «Тщетно, — пишет он, — подвести критическую оценку прекрасного под<br />
принципы чистого разума и возвысить правила ее до степени науки […] Дело в том, что эти<br />
правила, или критерии имеют своим главным источником только эмпирический характер,<br />
и, следовательно, никогда не могут служить для установления определенных априорных<br />
законов, с которыми должны были согласовываться наши суждения, касающиеся вкуса,<br />
скорее эти последние составляют настоящий критерий правильности первых» [25, 3, 126].<br />
Разрешение указанного противоречия выливается в новое основание эстетического,<br />
когда принцип всеобщего развития становится основанием индивидуальной непосредственности.<br />
Необходимость такого совпадения в пределах меры отдельной жизни определяет<br />
величие, степень развитости сущности всеобщего в отдельном человеке. Зафиксировав<br />
историческую неразумность данного противоречия, философ ставит <strong>проблем</strong>у<br />
способности эстетического суждения в срезе основания возможности разумности<br />
чувств, исторически пребывающих еще в неразумных формах чувственного. Претендовать<br />
на очеловеченное содержание мера такого совпадения может лишь в том случае, если<br />
она опосредована философским духом. По этой причине Кант не дает типологии объекта<br />
по ступеням его становления в качестве объекта развитых чувств, а выводит градации<br />
субъекта по способности сотворить объективный мир явлений по законам красоты.<br />
Речь идет о том, насколько разум (по Канту — предпосылающий свои принципы рассудочному<br />
суждению) исторически готов предпослать ему верные принципы, насколько<br />
его логические принципы действительно представляют природу человеческой непосредственности<br />
и раскрываются в ней как основание ее (непосредственности) подлинного<br />
содержания. Кант тем самым ставит конкретно-историческую <strong>проблем</strong>у меры человека<br />
и связывает ее осуществление с самоопределением разума истории в непосредственноиндивидуальном<br />
сознании.<br />
Принципы, законы, понятия и категории кантовской философии носят априорный характер,<br />
но априорность предопределена особенностью их становления, происходящего<br />
свободно и независимо от объективного основания. В этом становлении основание носит<br />
еще абстрактное значение, так как как всеобщее оно не является. Но и логические формы<br />
нельзя считать совершенными средствами, поскольку к такому совершенству им<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
276<br />
раздел второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ безобразное в ставновлении…<br />
277
самим необходимо доразвиться и в нем же они находят свою смерть. Таким образом,<br />
общественно-культурное самоопределение времени и пространства эстетического в истории<br />
не тождественно с социальными определениями времени и пространства, хотя и содержит<br />
их в себе как количественный, внешний фактор. Чем более высокую логическую<br />
определенность принимает история, тем более безвременной, и даже несвоевременной<br />
выступает культура чувств. Ибо, рождаясь из потребности социального времени, она утверждается<br />
в противостоянии времени ее породившего. Точно так же неопределяемо<br />
«наличным бытием» пространство культуры. Ибо, становясь, культура не утверждается.<br />
Становление суть единство бытия и небытия сущности, оно нереализованная культура.<br />
Становление лишает культуру непосредственной реальности, а реальность — культуры.<br />
Бескультурье — несущественность жизни, но, одновременно — ее реальный образ.<br />
Культура изредка открывает для себя самой собственные источники и именно в эти мгновения,<br />
когда она проявляется в-другом и для-другого, признает их, чтобы через некоторое<br />
время снова от них абстрагироваться. В становлении культура презирает собственую<br />
несостоявшесть, превращающуюся в персональный надрыв эпигонов. Здесь, по-видимому,<br />
следует искать ключ к пониманию феномена «эстетической лишенности» трансцендентальности<br />
культуры. Она совершенно объективна для периода классического<br />
становления и в этом смысле не выдуманна Кантом, а выведенна логически и только логически,<br />
а все «иное» — ее случайные, незавершенные и трагические трансценденции.<br />
В этом причина того, что Кант не мог обосновывать «чистоту» разума как совпадение начала<br />
и всеобщего вне эстетики, как и без того, чтобы представить эстетику как непосредственную<br />
определенность пространства.<br />
Но названные выше <strong>проблем</strong>ы философии эстетического выводят на необходимость<br />
осмысления принципа развития в контексте становления разумности чувств и места превращенных<br />
форм разума в выведении исторического пути их объективного развития.<br />
Именно поэтому кантовский подход к осмыслению возможности истины эстетического<br />
исторически представляет собой преимущественно гносеологическую ценность как один<br />
из существенных и необходимых зигзагов самопознания обезразличенного к реальному<br />
миру эстетического.<br />
Но чем может быть ценен этот неразумный этап разумного, что может дать его логика<br />
современному неразумию? Может ли она помочь выйти за пределы безобразного в эстетике<br />
современного мироотношения? Снята ли антиномичность чувств и не рассматривается<br />
ли она и сегодня в кантовском ключе? Вопросы риторические. Входящая в полное<br />
определение предмета исторических чувств ложная жизнедеятельность истории, общества<br />
и не только «массового» человека, становится практикой ложных, возвращающихся<br />
в тождество «самодостаточности» ощущений. Кант исторически был вынужден ставить<br />
<strong>проблем</strong>у в гносеологической плоскости, но не законсервирован ли в современном «опыте»<br />
чувств его агностицизм? Ибо анархия или остракизм таковых предстают сомнамбулическим<br />
и симулятивным дополнением бессилия разума. В современном историческом осмария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
278<br />
новании повторяется бессилие кантовского разума эстетически утвердить человека<br />
в мире, и это именно то «нечто», которое необходимо выявить через контекст кантовской<br />
«Критики способности суждения» и ее связи с абсолютом деформации «Эстетики безобразного»<br />
Карла Розенкранца.<br />
Эстетически-универсальная способность суждения остается пробным камнем современного<br />
типа цивилизационного прогресса, продолжающего исчислять свои качественные<br />
скачки количественными параметрами (преимущественно в сфере научно-технической),<br />
но постоянно утрачивающего из своего арсенала тотальность человеческого. Этот<br />
процесс превращает человека из «единицы» в «дробь», расщепляя и разлагая его на «составные<br />
части», которые, как известно, есть только у трупа и для склеивания которых<br />
уже не найти «живую» воду в чистых философских рефлексиях и в симулированных искусствоведческих<br />
обоснованиях целесообразности отражения мира в том виде, который<br />
представлен современным искусством. Только в потребности утвердить человеческую<br />
сущность развития может произойти действительное совпадение тотальности логического<br />
и чувственного. И Кант считает такое совпадение внутренним, эстетическим содержанием<br />
прекрасного, проявляющемся не в качестве чистых, трансцендентальных принципов,<br />
а как совпадение внутреннего и внешнего, принципа и его действия, содержания<br />
и формы. В таком случае основание прекрасного (как абсолютная форма) оказывается<br />
реальным, а не субъективно-идеальным отождествлением идеи и идеала. Отсюда следует<br />
вывод, что «Критика способности суждения» имеет своей целью выявление реальной возможности<br />
прекрасного отношения между реальными людьми. «При каких условиях<br />
возможно прекрасное как общественное — обобщенное, обобществленное отношение?»<br />
— так, на мой взгляд, звучит сегодня кантовская постановка вопроса.<br />
Почему же Кант не стремится обосновать основание эстетического? Только ли потому,<br />
что априорные основоположения и сами «не имеют своего основания в высших и более<br />
общих знаниях»? «Однако это свойство. — продолжает Кант, — не всегда ставит их<br />
выше всякого доказательства. В самом деле, хотя доказательство нельзя было бы дальше<br />
вести объективным путем — скорее оно лежит в основе всякого знания своего объекта. —<br />
тем не менее это не мешает тому, чтобы можно было найти доказательство из субъективных<br />
источников возможности знания о предмете вообще» [23, 3, 228]. Но не пребывает ли<br />
такое обоснование в субъективной области, которая перестает уже носит случайный характер?<br />
Ведь понятийная неопределенность меры человека не нуждается в доказательстве<br />
в силу своей непосредственно переживаемой природы и в таком качестве становится<br />
несомненной истиной, которую не оспаривает даже обыденный рассудок.<br />
Представляется, что именно это противоречие выступает основным противоречием<br />
Кантовских трех «Критик». Оно выявляет собой внутреннюю теоретическую коллизию<br />
не только немецкой классической философии, но и философии современной. Это — <strong>проблем</strong>а<br />
единственно верного способа обоснования сути вещей и процессов — обоснования<br />
чувственно-практического, сворачивающегося в эстетической практике чувств. Выход нераздел<br />
второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ безобразное в ставновлении…<br />
279
мецких философов на принцип основания, развивающего историю через обоснование<br />
основного содержания противоречия мышления и бытия, не означал, что ими найден путь<br />
практического разрешения указанной коллизии, и даже не обязывал размышлять над такой<br />
<strong>проблем</strong>ой. Более того — последняя исчезала из поля зрения последующих поколений<br />
философов. Никто из них, за исключением Фихте, уже не спрашивал себя: «Что я<br />
должен сделать?» Но она еще и объективно не могла попасть в сферу самых острых<br />
теоретических противоречий, способствуя этим драматическому обострению последних.<br />
Следовательно, исторические основания эстетики Канта необходимо довести до логического<br />
завершения данной системы в исторической перспективе. То, что Кант снова впал<br />
в противопоставление субъективного мышления и объективных предметов, абстрактной<br />
необходимости и чувственной единичной воли обусловливает необходимость положить<br />
в основу метода анализа кантовской эстетики гегелевскую концепцию эстетического<br />
и розенкранцевскую эстетику безобразного. Ведь обе они — и логически, и исторически<br />
вытекают из эстетики Канта, развивая две стороны его антиномий. Если в «Эстетике»<br />
Гегеля чувство носит непосредственно-всеобщий характер и, как всеобщее, возможно исключительно<br />
в теоретической форме, то у Розенкранца непосредственное оказывается<br />
в стихии безобразного и движется к апогею безобразного как вершины абсолютизированной<br />
негативности единичного (не случайно квинтэссенция безобразного представлена<br />
«персонажами» потустороннего мира и обобщаются в разрушительной и карикатурной<br />
особи дьявола). В первом случае истина всеобщего дана теоретически, и она суть «чистое<br />
научное самосознание» (Гегель) в непосредственности созерцающее и переживающее<br />
себя как «вакхический восторг, все участники которого упоены» (Гегель). Во втором случае,<br />
прекрасное остается достоянием разума, но достоянием, не одухотворяющем безобразную<br />
непосредственность.<br />
В «Эстетике безобразного» всеобщность принимает превращенно-низменную форму,<br />
негативно количественную характеристику, подавляя в последней качественную определенность<br />
меры человека. Всеобщее выступает в данном случае превращением всего и вся<br />
в безобразное. Таким образом, «Эстетики» Гегеля и Розенкранца фиксируют антиномию<br />
разума и чувства «Эстетики» Канта в логико-историческом завершении его системы противопоставлением<br />
идеального (теоретического) и материального (чувственного) в качестве<br />
двух самостоятельно существующих сущностей. Такое положение дел и было позднее<br />
определено Марксом как отчуждение человека от своих сущностных сил. Всеобщая чувственная<br />
ограниченность расщепленно действующего по логике расщепленного предмета<br />
индивида в рамках общественного разделения труда 11 (со всеми его политико-экономическими,<br />
социальными и идеологическими производными) находит свое дополнение в ограниченной<br />
всеобщности как теоретической формы самосознания, так и эмпирической<br />
практики. На одном полюсе — «сверхприродное», «сверхчувственное», «надчувственное»<br />
социальное. На другом — не доразвившееся до общественного природно-биологическое.<br />
На «полюсе» умственного труда, квинтэссенцией которого выступает филосомария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
280<br />
фия, — идеальная, «чистая», односторонняя тотальность личности, индивидуальный образ<br />
возведенной в абстракцию сущности, предметом деятельности которой является идеальное<br />
всеобщее; на полюсе непосредственно материальной деятельности — тотальная<br />
односторонность индивидов, предметом деятельности которых выступает отдельная сторона<br />
наличного бытия (наличных предметов), эмпирия как таковая в грязно-торгашеской<br />
форме. Отчужденная форма превращенного опосредствования становления в человеческой<br />
деятельности порождает в первом случае абстрактного в своей мыслительной<br />
всеобщности субъекта, во втором — не менее абстрактного в своей чистой природности<br />
индивида, «существо и духовно и физически обесчеловеченное». Здесь «то, что присуще<br />
животному, становится уделом человека, а человеческое превращается в то, что присуще<br />
животному». Всеобщее в единичном бытии теряет свою материальную непосредственность<br />
как основание, в виде политико-экономической предпосылки непосредственность<br />
основания теряет свою всеобщность.<br />
Объективность этих крайностей обусловливает и целесообразность сопоставления<br />
«Эстетики безобразного» Розенкранца с теорией чувственного Л. Фейербаха. Логика инверсированного<br />
«восхождения» безобразного позволяет также найти точку пересечения<br />
крайностей эстетического, представленных и противопоставленных в философии Гегеля<br />
и Фейербаха. В эстетической теории Розенкранца эти крайности сходятся в ложном основании.<br />
Идеальный абсолют Гегеля впал в дисгармонию. Выдавая себя за абсолютную<br />
истину, он оказался неспособным к практическому отрицанию безобразного, а «дисгармония<br />
становится безобразной тогда, когда оно зряшно отрицает себя, так как в этом<br />
случае возникает противоречие в противоречии» (Розенкранц). Правда, в теоретической<br />
форме дисгармония не способна внушать отрицательные чувства, поскольку она не заметна.<br />
Более того, будучи познанной в своей логической необходимости, она выглядит<br />
возвышенной, ибо носит в себе величие принципа и способна очаровать, захватить область<br />
мышления. Напротив, обусловливающие ее историческую возможность реальные<br />
формы бытия способны внушить самые отрицательные чувства — от неприятия до отвращения,<br />
так как заведомо отчуждены и только как отчужденные выполняют роль объективного<br />
основания логики.<br />
Необходимость рассмотрения триединства «Эстетик» Канта, Гегеля и Розенкранца<br />
в основание исследования последующего концептуального развития основания тем более<br />
значима, что такая предпосылка представляет собой субстанциальную необходимость генезиса<br />
гносеологических оснований принципов последующих систем и элиминации ими<br />
эстетического из сферы реальной тотальности пространства в сферу персонализации<br />
основания. Своеобразная «экспроприация» немецкими классическими философами становления<br />
и основания в персонально-рефлексивном пространстве (где Фихте и Шеллинг 12<br />
играют некоторую роль опосредования «начал» Канта и «результата» Гегеля–Фейербаха–Розенкранца)<br />
обозначила границы предела, перед которыми, как перед развернутой<br />
пропастью, оказалось противоречие логического и эстетического. Если персонализирораздел<br />
второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ безобразное в ставновлении…<br />
281
ванное и крайне абстрактное логическое претендовало на абсолютную истинность, то эмпирическое<br />
чувственное оказалось в плену завершенного уродства. Эта зияющая пропасть<br />
и обозначила разделительную линию между классическим и неклассическим искусством<br />
— линию, которая на самом деле проходит не «между» лишенной реальной эстетики «рационализированной<br />
жизни классической философии» и чувственной достоверностью неклассической<br />
иррациональной «философии жизни», не «между» разумом и чувством, а,<br />
как в ужасном триллере, разрезает и разум и чувства на тонкие «ремешки». И никакой образности<br />
в этом выражении нет, как нет никакой художественной образности в дурной<br />
бесконечности его воспроизведения в большинстве творений современного искусства.<br />
Таким образом, безобразное в становлении как становление в безобразном являет<br />
собой две стороны единого процесса отчуждения и возводят себя в абсолютные крайности<br />
в момент, когда в логическом аспекте становление всеобщего завершено,<br />
а в предпосылках исторического движения они не преодолеваются, не разрешаются<br />
как противоречие.<br />
Лишенное такого многообразия и отвлеченное от него, «линейное снятие» основания<br />
как способ развития «чистой» сущности во времени (что тождественно становлению<br />
фылософского метода) превращает основание всеобщего в голое «ничто», в мертворожденное<br />
дитя объективистского разума. Осуществление бесконечного возвращения и по<br />
Шеллингу, и по Гегелю, оказывается деградацией основания в его объективном содержании,<br />
ибо в абсолютной истинности (идеальности) его тождества, существенность саморазличий<br />
всеобщего утрачивается. В идеальном, абстрактно-теоретическом, понятийном<br />
единстве, в слиянии с таковым, оно утрачивает свою определенность. Это тождество без<br />
субстанции, логический абсурд, содержание которого равно неслышимой симфонии, где<br />
музыка суть абсолютное молчание, а стремление к абсолютной красоте и абсолютной истине<br />
превращается в бессильное безразличие к торжеству безобразного.<br />
Но «философия будущего имеет задачу вернуть философию из царства душ «усопших»<br />
в царство душ живых и телесных», — заявил Фейербах. Карл Розенкранц писал<br />
свою эстетику фактически одновременно с произносившем эти слова Фейербахом. Чем<br />
обернулось для искусства и эстетики факт непреодолимости сформулированного выше<br />
предела? Мысль Фейербаха, что только истинное, великое, классическое достойно предметом<br />
мышления опровергнута современностью, ибо низменное и низкое, ложное и безобразное<br />
как отрицательные явления классического времени перестали носить частичный<br />
характер и подменили собой возвышенность устремлений классического сознания.<br />
Таким образом, совпадение «начала» и «конца» становления классической истории<br />
имманентно совпадению «начала» и «конца» видового становления искусства и категориальному<br />
становлению прекрасного, а также совпадению «начала» и «конца» категориального<br />
оформления безобразного. В античном «начале» этого триединого становления<br />
прекрасное и безобразное завершаются тождеством противоположностей эстетического<br />
идеала красоты и его отрицания в эстетике киников. В «конце» этого становления<br />
прекрасное и безобразное предстают поляризацией объективно-идеалистического Идеала<br />
красоты в Идее всеобщности и завершенным распадом прекрасного в деформированной<br />
завершенности безобразного. Этим инверсированным становлением обусловлена<br />
объективная логика становления безобразного, отраженная в структурной логике «Эстетики<br />
безобразного» Розенкранца:<br />
Первая ступень. Отсутствие формы (в виде: аморфности, асимметрии и дисгармонии)<br />
представлено как ступень абстрактного становления той или иной меры, где существенность<br />
формы может нарушаться в количественно-качественных параметрах такого становления.<br />
Попутно замечу, что в силу абстрактности «слепого» начала становления<br />
любого феномена, безобразное не только имеет одни и те же «шансы», что и прекрасное,<br />
но является равнодействующей прекрасного, его одновременностью. Более того, следуя<br />
ранее высказанному тезису о том, что начало истории в его существенности начинается<br />
с периода способности логического самопознания той или иной общественно-культурной<br />
меры, замечу, что безобразное может быть наличной определенностью некоторого<br />
бытия лишь с того момента, когда вообще возникает постановка вопроса в мышлении<br />
о красоте. К примеру, в его логически абстрактных определениях, этот момент невозможен<br />
для первобытного общества. В полном значении своих смысловых характеристик,<br />
и прекрасное и безобразное являются существенными модусами меры становящейся как<br />
ее имманентная саморефлексия и непосредственность. Нарушение равновесия идеальной<br />
значимости меры и ее реального проявления может считаться ее существенной асимметрией,<br />
приводящей к дисгармонии и впадению в безобразное.<br />
Вторая ступень безобразного связывается Розенкранцем с «неправильным», рассматриваемое<br />
в аспекте субъективно-логических и эстетических оснований художественных<br />
форм и методов воплощения содержания искусства в его видах. Эта ступень связывается<br />
с процессом и степенью опосредствования субъектом искусства сущности вещей и ее чувственных<br />
данностей. Розенкранц трактует феномен «неправильного» в зависимости<br />
от совершенства или несовершенства игры актера, исторической достоверности писателя,<br />
музыканта, способности художника удержать в своем творчестве единство идеала<br />
отражаемого в форме отражения. Тождество «идеальности идеала» и «идеальности<br />
отражения» своеобразно вплетает в себя мотивационную сферу, поскольку великие люди<br />
как субъекты искусства всегда своеобразно сочетают в себе величие и обыденность,<br />
бывая в жизни тираничнее самых тиранических тиранов. Поэтому, то, каким образом<br />
трансформируется в «неправильном опосредствовании» реальности великое и низменное,<br />
гениальное и эгоистическое, одухотворенность и падение, история демонстрирует<br />
явлениями «жизни замечательных людей». Они и остаются замечательными со всеми<br />
своими слабостями, ибо главное в них то содержание «Я», которое было прорывом<br />
исторического, а стало прорывом феноменологического. Сочетание объективного и субъективного,<br />
случайности и свободы, необходимости, детерминизма и волюнтаризма в личностной<br />
воплощенности истории в искусстве и искусства в художественном творчестве,<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
282<br />
раздел второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ безобразное в ставновлении…<br />
283
со всеми нюансами дополнения реальности «на сцене» жизни в искусстве, демонстрирует<br />
желания человека, которые остаются неизбывными в этой же реальности. В этом смысле,<br />
подлинная жизнь происходит не в самой жизни, а в пространстве игры «в жизнь».<br />
Будучи одновременно связана с прозрением великого смысла в отдельном человеке,<br />
как и с ограничением этого смысла конкретно-историческими рамками, сфера опосредствования<br />
имеет принципиальное значение в становлении истории. Следовательно, «неправильное»<br />
опосредствование простирается не только на область эстетики, но и на область<br />
этики. И в первую очередь — на область логики. Правда, с одной особенностью — для<br />
классической истории опосредствование идеального онтологично обусловлено как тождество<br />
истинного и неистинного. Причем истина находит свою меру в ложности, как<br />
и ложность отыскивает свою меру в истинности. Такое положение дел отражает феноменологические<br />
параметры «классического прогресса», базирующегося на расщепление<br />
сущности и существования. В логическом отношении особенно интересным представляется<br />
то, что классическая история имеет больше оснований для интерпретаций (гносеологических,<br />
эстетических и т. д.), но не принимает их. Не только бальзаковский Клаас занят<br />
поиском Абсолюта. Вся предыстория суть теоретический поиск сущности под видом<br />
абсолюта и перерывы в этом поиске, отмеченные возникновением и временной устойчивостью<br />
субъективных форм идеализма (яростного врага всяких абсолютов и преданного<br />
друга всевозможных интерпретаций) как будто обрывают эту нить, но ненадолго. Потому<br />
и феномен субъективного идеализма требует сегодня нового осмысления как по предпосылкам<br />
его возникновения, так и по новому его звучанию в пространстве субъективации<br />
истории.<br />
Третья ступень безобразного — «Деформация» — имеет более «громоздкую», разветвленную<br />
структуру, поскольку, чем «совершеннее» становится безобразное, тем полнее<br />
оно становится не только по форме и содержанию, но и по объему. Деформация<br />
включает в себя ординарное (состоящее из низменности, слабости; низости. Низость,<br />
свою очередь, заключается в посредственности, случайности, черствости (жестокости);<br />
отвратительное (включающее в себя грубое, пустое и мертвое) и омерзительное (состоящее<br />
из абсурдного, отталкивающего и зла. Зло, в свою очередь, характерно беззаконием,<br />
мистическим и сатанинским). Этими негативными «категориями» Розенкранц обозначает<br />
не только суть ступеней распада формы, но и реальные явления исторического «подземелья».<br />
Момент мистификации содержания завершенной деформации обусловливается<br />
не только объективным идеализмом автора, но и эстетикой абсурда обозначенного предела<br />
истории, который исчерпал себя, но продолжает быть, не преодолен. Розенкранц завершает<br />
деформацию карикатурой, так как в русле объективного идеализма ему достаточно<br />
только поднять безобразное на смех. Но достаточно ли этого реальному человечеству?<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
284<br />
Примечания<br />
1 Поскольку безобразное есть форма деформации меры, ее отсутствие как внутренней, сущностной<br />
гармонии количества и качества (наличного бытия и сущности человека) = без-мерности;<br />
2 «Пред-ставшее» и «пред-ставляющее — две («деятельностная» и гносеологическаяч») стороны<br />
одого и того же не прошедшего становление. У Розенкранца то, что не прошло становление представляет<br />
собой один из моментов деформации, то есть — конечной стадии безобразного как грубое,<br />
неоформленное, неотесанное. Вместе с тем, в «начале» они еще не обладают с необходимостью деформированным<br />
содержанием, поскольку здесь «неоформленное» оправдано непосредственностью<br />
самого начала.<br />
3 Отданный чувственному перевес и является наибольшим «шармом» и притягательностью неклассических<br />
концепций. Притягательность «освобожденного от пут разума», ненапряженного императивами<br />
долженствования чувственного сохраняет соблазн. Благодаря обещанной радости неотягощенного<br />
непосредственного, почитатели неклассической философии абстрагируются от ее пессимистичности,<br />
обозначавшей, в том числе, иллюзорность и неизбывность радости свободы подобного<br />
рода. Тайну этой притягательности объясняет Стефан Цвейг в очерке о Казанове: «Никогда<br />
не ощущает этот игрок громадной ответственности истинного художника, не ощущает под чувственной<br />
теплотой мира темной нелюдимой барщины в рудниках труда. Он ничего не знает о пугающем<br />
наслаждении начинаний и трагическом, подобном вечной жажде, стремлении к завершениям; ему неведомо<br />
молчаливо повелительное, вечно неудовлетворенное стремление форм к земному воплощению<br />
и идей — к свободному сферическому парению. Он ничего не знает о бессонных ночах, о днях,<br />
проведенных в угрюмой рабской шлифовке слова, пока наконец смысл ясно и радужно не засверкает<br />
в линзе языка, не знает и о многообразной и все же невидимой, о неоцененной, подчас по прошествии<br />
веков получающей признание работе поэта, не знает о его героическом отречении от теплоты<br />
и шири бытия. Он, Казанова, — бог свидетель! — всегда облегчал себе жизнь, он не принес в жертву<br />
суровой богине ни одного грамма своих радостей, ни одного золотника своих наслаждений, ни одного<br />
часа сна, ни одной минуты своих удовольствий: он ни разу в жизни не двинул пальцем ради славы,<br />
и все же она потоком льется в руки этого счастливца. […] Не в том, как описал и рассказал свою<br />
жизнь Казанова, проявляется его гений, а в том, как он ее прожил. Само бытие — мастерская этого<br />
мирового художника, она и материал и форма; именно этому истинному, глубоко личному художественному<br />
произведению он отдался с той страстью к воплощению, которую обычно поэты обращают<br />
на стих и прозу в пламенной решимости придать каждому мгновению, каждой нерешительно<br />
настороженной возможности высшее драматическое выражение. То, что другому приходится изобретать,<br />
он испытал в жизни. […] Все они (великие художники. — М. Ш.) дилетанты в наслаждении,<br />
как он — дилетант в творчестве. Ибо в этом вечная трагедия человека, отдавшегося творчеству: именно<br />
он, призванный и жаждущий познать всю ширь, все сладострастие существования, остается прикованным<br />
к своей цели, рабом своей мастерской, скованным принятыми на себя обязательствами,<br />
прикрепленным к порядку и к земле. Каждый истинный художник проводит большую часть своей<br />
жизни в одиночестве и единоборстве со своим произведением; не непосредственно, а лишь в творчераздел<br />
второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ безобразное в ставновлении…<br />
285
ском зеркале дозволено ему познать желанное многообразие существования, — всецело отдавшись<br />
непосредственной действительности; свободным и расточительным может быть лишь бесплодный<br />
жуир, живущий всю жизнь ради жизни …Каждый художник обычно создает то, что он не успел пережить»<br />
[16, 11–12]. Правда, Цвейг выражает это противоречие в его крайних формах, считая, что<br />
эти крайности не сходятся, а расходятся. Иными словами, считая это противоречие неразрешимым,<br />
что совершенно верно в рамках отчужденного основания истории. Но в таком случае остается только<br />
смириться с этим основанием и оставаться перед вечным выбором без выбора — между совершенствованием<br />
эстетического в виде одиночества творчества и бытия вечности и радостями бытия, утопающими<br />
в конечных и распадающихся формах эгоизма. От последнего можно было бы вполне абстрагироваться,<br />
если бы его реализация не входила бы в жесткое и жестокое противоречие с возможностями<br />
и условиями «радости бытия» реального мира.<br />
4 Необходимость в данном случае имеет категориальное значение закона развития, а не обыденный<br />
статус потребности, хотя в действительном развитии необходимость как принцип и является<br />
первым условием окультуривания — очеловечивания потребности в действительной тотальности человеческой<br />
сущности, которая и является абсолютным условием достоверности человеческой чувственной<br />
непосредственности.<br />
5 Вполне закономерно, что на таком логическом основании Шопенгауэр противопоставлял гегелевскому<br />
«Все разумное действительно, все действительное разумно» антитезис: «Все действительное<br />
неразумно, все неразумное действительно».<br />
6 «Именно такой путь ищет Ницше — путь отрицающего все и вся, путь демона, который проклинает<br />
мир и себя вкупе с ним; который просит одарить его безумием; который уничтожает сам себя<br />
и будет сам себе потусторонним миром», — так вкратце выразит этот общий для неклассического<br />
пространства духа и эстетики исследовательница Ф. Ницше Бригитта Лахан [14, 211].<br />
7 По этой причине, незряшное преодоление гегелевской теории генезиса видов искусства предполагает<br />
постижение закономерности и правомерности его концепции становления таковых как<br />
восхождения пространства и времени чувственного в понятийной без-образности теоретического<br />
самосознания. В ином случае, критика псевдо эстетизма современного искусства осуществляется<br />
при помощи шаткого противопоставления эманации другого варианта эстетического в качестве той<br />
же лишенной самосознания неопосредованной непосредственности.<br />
8 Если искусство философии представлено в начале (античности) Сократом, то неклассическая<br />
философия (в конце после конца классической философии) ставит вопрос такого синтеза в виде философа-художника.<br />
9 Необходимость такого совпадения здесь не несет в себе чисто гносеологическую нагрузку Такое<br />
совпадение имманентно преодолению его внешне обманчивых, кажимых форм, скрывающих его<br />
классическую деформацию.<br />
10 Представляется необходимым привести весь ход рассуждений классика по этому вопросу, так<br />
как в контексте эволюционных «турбуленций» (А. Соловьев) современного искусства, они приобретают<br />
более чем актуальное звучание): «Эти лекции посвящены эстетике; ее предметом является обширное<br />
царство прекрасного, точнее говоря, область искусства или, еще точнее, — художественномария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
286<br />
го творчества. Правда, термин “эстетика” не совсем подходит к нашему предмету, ибо «эстетика»<br />
означает, скорее, науку о чувстве, чувствовании. Понятая таким образом, эстетика возникла в школе<br />
Вольфа в качестве новой науки, или по крайней мере в качестве зачатка будущей философской<br />
дисциплины. Тогда в Германии было принято рассматривать художественные произведения в связи<br />
с теми чувствами, которые они должны вызывать (курсив мой. — М. Ш.), — например, чувством приятного,<br />
чувством восхищения, страха, сострадания и т. д. Так как название «эстетика» неудачно<br />
и носит поверхностный характер, возникли попытки создать другой термин. Предлагали, например,<br />
каллоистика (от греческого “каллос” — красота). Однако это название также представляется<br />
неудовлетворительным, ибо наука, о которой идет речь, рассматривает не прекрасное вообще,<br />
а только прекрасное в искусстве. Поскольку слово само по себе нас не интересует, мы готовы сохранить<br />
название “эстетика”, тем более что оно утвердилось в обычной речи. И все же единственное<br />
выражение, отвечающее содержанию нашей науки, это — “философия искусства”, или, еще более<br />
определенно, — “философия художественного творчества”» [2, 1, 5].<br />
11 Исследуя феномен творческого воображения, Э. В. Ильенков отметил обуловленность<br />
гениального воображения со схватыванием «невидимой» необходимости и отражения ее в художественных<br />
образах, что недоступно широкому кругу художников: «Реже индивидуальная “игра” воображения<br />
представляет собой форму, в которой высказывает себя не только и не столько личность<br />
художника, сколько общая, назревшая в обществе и чутко уловленная художником необходимость,<br />
потребность. Здесь мы и имеем дело с гением. Эстетически схваченная, художественно осознанная<br />
необходимость, оказывающая давление на всех и каждого, но не осознанная пока никем, не выраженная<br />
еще в строгом формализме понятия, и есть свобода художественного воображения, художественной<br />
фантазии. Она-то и рождает всеобщий, общезначимый эстетический продукт в форме<br />
индивидуального сдвига в системе образов, созданных предшествующей деятельностью воображения.<br />
Тем самым в виде «индивидуального» сдвига в прежних нормах работы воображения рождается<br />
новая, всеобщая норма работы воображения. Ее затем опишут в учебниках по эстетике, выразят<br />
в “алгебре” понятий искусствоведения и эстетики, ей станут следовать как штампу плохие художники<br />
и как всеобщей норме работы воображения, которая требует новых индивидуальных вариаций<br />
и отклонения, — хорошие художники. Работа подлинно свободного воображения поэтому-то и состоит<br />
в постоянном индивидуальном, нигде и никем не описанном уклонении от уже найденной<br />
и узаконенной формы работы воображения — причем в таком уклонении, которое хотя и индивидуально,<br />
но не произвольно. В таком уклонении, которое есть продукт не личной изобретательности,<br />
а личного умения чутко схватить всеобщую необходимость, назревшую в организме общественной<br />
жизни. Такое, как сказал бы Гегель, “химическое” или “органическое” соединение индивидуальности<br />
воображения со всеобщей нормой, при котором новая, всеобщая норма рождается только как<br />
ин дивидуальное отклонение, а индивидуальная игра воображения прямо и непосредственно рождает<br />
всеобщий продукт, сразу находящий отклик у каждого, и есть и секрет свободы воображения и сопровождающего<br />
его чувства красоты» [17, 247–248].<br />
12 Во избежание отождествления специализации труда с общественным разделением труда<br />
напомню, что общественное разделение труда заключается в отчужденном разделении предметнораздел<br />
второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ безобразное в ставновлении…<br />
287
практической, материально производственной и теоретической (так называемой духовной) форм деятельности,<br />
включающие в себя все формы общественного сознания — философию и искусство в том<br />
числе. В этом смысле общественное разделение труда предстает расщепленным основанием самой<br />
сущности человека, обособляя его мышление и чувственную непосредственность. Положительное<br />
значение общественного разделения труда в логике исторического развития и состояло в том, что<br />
без него становление всеобщего в форме принципа было невозможно. Это расщепление «земной основы»<br />
было отчужденной формой становления необходимости в качестве абстрактного принципа<br />
свободы, которая лишь в конце становления могла осознать содержание своей утраты.<br />
13 Чем больше обнаруживается разорванность объективного основания на две иллюзорно самостоятельные<br />
сущности, тем упорнее философский разум тщится обосновать свою истинность в качестве<br />
абсолютного понятия внутренних саморазличий основания. В последнем, по Шеллингу, действует<br />
только закон тождества, причем так, что «принцип закона тождества выражает не то единство,<br />
которое, вращаясь в сфере одинаковости, не способно к продвижению и поэтому само бесчувственно<br />
и безжизненно. Единство этого закона непосредственно творческое. Уже в отношении субъекта<br />
к предмету мы выявляем отношение основания к следствию. И закон основания поэтому столь же изначален,<br />
как и закон тождества». Подменяя историю, философия задает себе абсурдную предпосылку,<br />
утрачивает в ней свободу, и, пытаясь освободиться от добровольных пут, заключает с историей<br />
компромисс, подстраиваясь под ограниченные формы последней. Такого рода компромисс особенно<br />
ярко демонстрирует Гегель, когда диалектика понятий вынуждает его ретушировать, загонять<br />
в спекулятивное мышление реальные противоречия, опровергающие логику как чистую науку. И сам<br />
Шеллинг, заметив данное противоречие, все же не вышел за его пределы. «Потенция как акт» —<br />
не только шеллинговская трактовка самоопределения основания в процессе объективации собственных<br />
различий. Но, определенная им сначала как идеальная способность, в дальнейшем (в основании)<br />
она принимает форму опосредствованно-эстетическую, в философии Шеллинга — художественную,<br />
форму.<br />
ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗЛОМЫ<br />
И ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕСТРУКЦИЯ<br />
В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ<br />
Чистый рассудок не порождает<br />
ничего рассудочного,<br />
как и чистый разум не порождает<br />
ничего разумного.<br />
Иоганн ГЁЛЬДЕРЛИН<br />
…когда не находишь вечность в себе,<br />
не найдешь ее больше нигде.<br />
Константин НОЙКА<br />
Завершенный дуализм мышления и чувственного, логического<br />
и эстетического в коллизиях немецкой классической философии<br />
и эстетике обнажил предел, который требовал преодоления как<br />
процесс снятия этого и именно этого дуализма. Дальнейшее<br />
развитие искусства и философии (как и остальных форм общественного<br />
сознания) могло быть возможным исключительно в направлении<br />
разрешения отчужденного противоречия двух основных<br />
сущностных способностей человека. Иными словами, образовавшиеся<br />
после классической философии два самостоятельных<br />
направления философии выступали и двумя противоположными<br />
предпосылками дальнейшего развития эстетического. Одно<br />
из этих направлений — диалектико-материалистическое, предполагавшее<br />
снятие этого противоречия через смену отчужденного<br />
основания истории. Другое — неклассическая философия —<br />
предполагала снятие классической «бесчувственной рациональности»<br />
в субъективности «философии жизни» как новой непосредственности<br />
искусства. Логические предпосылки современного<br />
искусства связаны именно с неклассической философии, с ее<br />
пониманием непосредственного, когда, в противовес гегелевскому<br />
«все разумное — действительно, все действительное — неразум-<br />
раздел второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ феноменологические разломы<br />
289
но» противопоставляется шопенгауэровское «все неразумное действительно, все действительное<br />
неразумно». Освобождение эстетического из плена чистого разума перемещает<br />
его в пространство иррационального, что является зряшным отрицанием необходимости<br />
опосредования непосредственного идеальным содержанием культуры как явления<br />
универсальности человеческой сущности.<br />
Таким образом, «неклассическая история» и неклассическая философия представляют<br />
собой своеобразно превращенную форму класического дуализма в виде зряшного отрицания<br />
«философии чистого разума» и волюнтаристсткого, иногда — драматичной<br />
(С. Кьеркегор, А. Камю), иногда агресивной (Ф. Ницше, М. Хайдеггер) «философии<br />
чувств». В этом бессильном противостоянии чувственного рациональному основание<br />
предстает негативной трансенцденцией, поскольку порожденный уже неклассическим<br />
дуализмом рационального и чувственного анархистский субъективизм не только<br />
стремился подменить собою это основание, но и был вынужден объявить закони мира абсурдными.<br />
В методологическом отношении «логическим завершением» данного алогизма<br />
стала негативная диалектика Т. Адорно с ее инверсированной адекватностью субъективированной<br />
онтологии, ведь онтологические измерения неклассической истории (через их<br />
волюнтаристсткие отклонения от объективныхдетерминант) отражали трансформацию<br />
основания из «единства тождества и различия» (Гегель) в разрозненность тождества<br />
и различий (Адорно). В категориальном отношении это сопровождалось распадом гегелевской<br />
системы диалектики, который в случае «модерна» отмечал себя распадом «категориальных<br />
пар» и признанием достоверности (причем субъективной) только категорий<br />
производных (явления, формы, следствия и т. п.).<br />
«Постклассическая история», как и все «постклассические» вариации философии,<br />
искусства и теории эстетики является ничем иным, как неклассическая иррациональность<br />
в виде искусственного пространства исчерпанного содержания классики, которое<br />
«сходит с ума» симулякрами в непреодоленном пределе истории. По сути, «постклассическая»<br />
история является неестественным заменителем «действительной» истории как<br />
таккая, что разрешает дуализм сущности и сущестивования по основанию. При условии<br />
неразрешенности фундаментального противоречия основания «постклассическая история»<br />
предстает приращением неклассического иррационализма, который обусловливается<br />
исчерпанностью онтологических, логико-гносеологических, этико-эстетических<br />
и научно-технических аспектов классического времени при сохранении субъективистских<br />
предпосылок и производных этого исчерпания. Феномен единства объективной<br />
и субъективной исчерпанности предшествующего развития в явлении аморфности нового<br />
основания превращает «постклассическую» историю на феноменологическую болезнь<br />
(не говоря о тотальном кризисе всех форм существования общества). В этом пространстве<br />
основание полностью лишено закономерности и категориальности, подмениваясь<br />
постмодернистской «игрой в бисер» в виде «деконструктивных конструкций», игрой<br />
«моделирования субъективстских оснований». Поэтому постклассическая история<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
290<br />
отождествляется с «постмодернизмом», характерный таким историко-феноменологическим<br />
распадом, который отрицает категориальность мышления вообще, то есть, утверждает<br />
фрагментаризацию и делогизацию мышления как формы его видимой свободы. Поскольку<br />
в историческом аспекте такой разрыв несовместим не только с возможностями<br />
развития, но и с феноменологической нормальностью человека, закономерным является<br />
«логический аккорд» признанного авторитета теории «постмодерна» П. Козловски<br />
о том, что «эпоха постмодерна представляет собой время, который остается человечеству<br />
для того, чтобы достойно умереть» [28, 34]. В категориальном отношении — это пространство,<br />
в котором уже каждая из бывших возможных категорий расщепляется, разрушается,<br />
логически аннигилируется.<br />
Таким образом, феноменологические разломы и онтологическая деструкция в современном<br />
искусстве отражают регрессию исчерпанного предела отчужденного соотношения<br />
мышления и чувственного, логического и эстетического. И только это различие («неклассического»<br />
и «постклассического») распада объективного содержания категорий<br />
является главным и подлинным критерием различения этих вполне условных «подпериодов»<br />
философии и искусства. Это ситуация феноменологического разлома субъективности,<br />
которая не находит себя положительно в постмодернистском «хаосмосе», разрываясь<br />
в симуляционных временах. Человек живет во всех измерениях и в то же время<br />
не живет ни в одном из них. Это одновременно гипертрофированная и мозаичная субъективация<br />
разорванного основания и объективация разорванной субъективности делаеют<br />
невозможной подлинную свободу чувств, прикрывая такую невозможность псведо свободой<br />
псевдо художественных «импровизаций». Вся агрессивнность современного искусства<br />
рождается как раз из несвободы чувств, а несвободные чувства не бывают. Поэтому<br />
не стоит отождествлять «онтологическую» актуализацию екзистенциализма с его современными<br />
эстетическими транскрипциями. Последние представляют собой эманацию<br />
«постмодернистких» состояний сознания в его чувственных регрессиях.<br />
Следовательно, <strong>проблем</strong>а окультурених трансформаций основания может разрешиться<br />
и через интеграцию границ философии и искусства. Но воинствующая пошлость схематических<br />
подмен развития разразилось не только симулякрами в истории, но и симулякром<br />
самой истории. Эта «гностическая гнусность» (Ф. Гиренок) особого полета шмеля<br />
в историческом сознании индивида и всего того, что он вытворяет, сопровождается<br />
не только «ощупью во тьме», но и регрессией от упрощенного субъекта к второсортной<br />
субъективности и, в конечном итоге, к творческой бессубъектности мира. Парадокс<br />
заключается в том, что эта регрессия сопровождает иллюзию самосознания, мнящего<br />
себя расцветом субъективности. Это тот единственный и угрожающий миру случай, когда<br />
становится понятным, почему во французском языке слово «личность», «персона»<br />
(personne) пишется также как местоимение «никто».<br />
В контексте регрессии истории феноменологические разломы современного искусства<br />
как основание его регрессии от аморфности к деформации обусловливается одноврераздел<br />
второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ феноменологические разломы<br />
291
менным напластованием разрушения генезиса индивидуального сознания, начиная с чувственного<br />
восприятия феноменов и заканчивая ложными и схематичными императивами<br />
рассудка. Возникает новая регрессия в уже пресытившуюся однообразной повторяемостью<br />
рефлексов «природную чувственность» и в логическую фрагментаризацию мышления.<br />
Оба эти феномена и откладываются в двух основных направлениях современного<br />
искусства — в «натуралистическом» и «абстрактном» искусстве («Мои картины выглядят<br />
будто видения наркоманов, они похожи на галлюцинации, но мне для этого не надо<br />
принимать никакой отравы», Аманда Ли). Применение новых технологий в новых инсталляциях<br />
сути дела не меняют. Безумие распада чувственного в физиологическом («Безмолвная<br />
серия действий или чувственная интериоризация: «голос» тела» и рассудочного<br />
(в том числе, как «чрезмерное сближение смысла с выражением, в основном языковом»,<br />
М. Кулэ) описали Гваттари и Делёз в своей непростой, но педантичной (если учесть сложность<br />
описания этих бесконечных деталей) книге «Капитализм и шизофрения» [29].<br />
Представленный «постструктурализм» чувственного деструктивизма (что только не сочетается<br />
в «распаде после распада», так красиво названном Деррида «деконструкцией»!),<br />
обращенность форм движения вспять обусловливает и обращение вспять рефлексии эстетического<br />
1 , как будто освобожденное от отредуцированного общественного пространства,<br />
но, на самом деле, увлекающего его за собой в неживую материю. Это уродливое<br />
«поэтическое» обозначение «небытия» и поддающееся ему стремление к изображению<br />
деструктивной деконструкции истории порождает образы жизни в смерти и психопатологический<br />
интерес к подобной «образности».<br />
Неразрешимость фундаментального противоречия «феноменологии» и «онтологии»<br />
возвращается в ложную форму видимости их единства, из которого вы-ползает симулятивная<br />
онтология и у-скользает герменетизированное сознание. Такая инверсия фундаментального<br />
противоречия субстанции жизни обусловливает все существующие и всевозможные<br />
инверсии, которые трансцендируют и в современном искусстве. Деконструкция,<br />
которая, согласно Жаку Деррида, суть «явленный, реализованный опыт невозможного»,<br />
раскрывает в-себе и через себя эту невероятную и ужасную подмену сущности вещей<br />
видимостями их интерпретаций, а в искусстве — их воплощениями. Ложная субъективация<br />
мира в предсмертных судорогах сомкнулась с не менее ложной объективаций<br />
этой же ложной субъективности. Именно это судорожное объятие породило феномен,<br />
определенный когда-то Экклесисастом как симулякр и по-своему актуализированный<br />
Ж. Бодрийаром: «Симулякр — это совсем не то, что скрывает истину, это истина, которая<br />
скрывает, что ее нет» [30, 3]. Но если невозможно категориально распредметить<br />
инверсированное противоречие, то уж то, что именно в нем инверсировано, распредмечиванию<br />
поддается. И тут, на мой взгляд, современному искусствоведению есть о чем<br />
думать. В контексте поставленной <strong>проблем</strong>ы это вопрос исторических оснований и логических<br />
предпосылок феномена современного искусства как причин его отнесенности<br />
к эстетике безобразного.<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
292<br />
В аспекте вышеназванной соотнесенности возникновение после классического периода<br />
двух направлений философии обусловливало и две возможности тенденции «смерти<br />
искусства». Марксистская философия видела такую тенденцию в сворачивании, отмирании,<br />
снятии форм общественного сознания в непосредственное самосознание и развитую<br />
чувственность человека. Неклассическая философия со свойственным ей пессимизмом<br />
видела тенденцию искусства одновременно как непосредственность образа жизни и творчества<br />
(отсюда эстетическая форма «философии жизни» — метафорический язык, образность,<br />
выпуклость идей, притягивавших не столько содержанием, сколько этим выражением<br />
и т. п.) и как исчерпавшее себя в исчерпанной эволюции культуры (как это было<br />
выведено в «Закате Европы» Шпенглера). В чем же заключается противоречивость феномена<br />
«смерти искусства»?<br />
Феномен «смерти искусства» рассматривается искусствоведением в двух в равной мере<br />
ограниченных ракурсах. Первый отображает негативные процессы в логике развития<br />
искусства и, соответственно, связывается с кризисными особенностями его постмодернистского<br />
периода. Другой представляет собой не столько упрощение, сколько полное<br />
непонимание положительной траектории «смерти искусства» в контексте логики сущностного<br />
развития человека в реальной истории. Не только искусствоведение, но и элитарное<br />
мышление в целом шокируется допущением, что «искусство может умереть»,<br />
поскольку положительность прогрессии искусства в непосредственное, художественноэстетическое<br />
богатство реального человека «понимается» буквально и именно так, что<br />
человечество перестанет творить художественные образы в архитектуре, скульптуре, живописи,<br />
литературе, музыке, театре, кино, их бесконечных взаимопревращений. В вульгарной<br />
трактовке логики развития человека как единой меры мышления, воли и чувственности<br />
искусствоведение демонстрирует не только неправомерное самоограничение<br />
собственными «специализированными» предпосылками и, соответственно, «консервирование»<br />
в обособленном статусе, но и непонимание того, что <strong>проблем</strong>ы художественно-эстетического<br />
развития человека не осуществимы с позиций искусства как такового. Как<br />
форма общественного сознания искусство только «исполняет роль» художественного<br />
отражения общественного пространства и времени в его образно-чувственном измерении,<br />
а также теоретической рефлексии собственных методологических предпосылок<br />
и технических приемов. Только относительно можно утешиться искусством, но совершенно<br />
невозможно утешиться философией. Но в современном «прощании с философией»<br />
(Ю. Хабермас) присутствует не только расставание философии с собой, но и расставание<br />
с собой искусства.<br />
Таким образом, как негативный, так и положительный ракурсы феномена «смерти<br />
искусства» связаны не с основанием искусства как такого, ибо, как и другие формы общественного<br />
сознания, не обладая собственным основанием, искусство обладает лишь<br />
относительно самостоятельными предпосылками. Поэтому феномен его «смерти» только<br />
опосредовано связан с его же предпосылками, непосредственно обусловливаясь основараздел<br />
второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ феноменологические разломы<br />
293
нием его (и остальных форм общественного сознания) исторического возникновения<br />
именно как формы общественного сознания 2 . В историческом развитии таким основанием<br />
выступило общественное разделение труда. При этом, абстрактно-теоретическое<br />
становление универсального способа мышления в философии является абсолютной предпосылкой<br />
формирования тотальности человеческой чувственности. В становлении все<br />
формы общественного сознания предстали необходимым опосредующим моментом<br />
диалектики чувственно-предметного самосознания и теоретического самосознания человечества,<br />
представленные в диалектики искусства и философии, которые взаимоопосредуются<br />
моралью как теоретической формы свободы (блага, добра).<br />
Обособление форм общественного сознания и конституирование их в статусе теоретического<br />
самосознания человечества отсутствовали в синкретизме первобытного общества.<br />
Эта академическая истина упоминается только потому, что деградация в новую первобытность<br />
современного искусства отличается от искусства и образности первобытного<br />
мира распадом синкретизма художественно = эстетического, нравственного, логического<br />
3 . Какое отношение к пространственно-временному и видовому генезису искусства имеет<br />
общественное разделение труда? На первый взгляд искусствоведения — никакого.<br />
Думая, что оно исследует «конкретные» явления искусства, оно замыкается в абстрактном<br />
пространстве именно потому, что «оперирует» абстрактными образами (что само<br />
по себе не содержит ничего плохого и соответствует «предмету» науки о искусстве, потому<br />
как по своей сути искусствоведение является наукой и должно быть научным). Другое<br />
дело, что в этом «хирургическом» оперировании художественными образами в лучшем<br />
случае объясняются причины их возникновения, но не исследуются процессы и основания<br />
возвращения их в непосредственность эстетического процесса тотальной развитости<br />
чувственного. Поэтому совсем не случайно, что искусствоведение может осмысливать,<br />
в лучшем случае, «влияние искусства» на индивидуальное или «массовое сознание», его<br />
«ценность» как «зеркала общественных процессов» (хотя в пространстве постмодернистской<br />
субъективности и это становится не актуальным). А фундаментальная <strong>проблем</strong>а разрешения<br />
противоречия искусства и эстетического остается за пределами внимания.<br />
Но, будучи фундаментальным основанием и причиной «расчленения» человека<br />
на «дуализм сущности» — на мышление (которое в разных аспектах закрепилось за содержанием<br />
самосознания форм общественного сознания) и чувственности (закрепившейся,<br />
прежде всего, за сферой «низменного бытия) (каждая из этих «дуальностей» представляла<br />
«свое другое самого себя» (Гегель), оно переходило и в содержание отчуждения<br />
мышления и эстетического в виде неразумной чувственности и бесчувственного разума —<br />
разума, существовавшего всегда, но не всегда существовашего в разумной форме. Это<br />
тождество противопложностей воспроизводит себя во всех общественных явлениях.<br />
В формах общественного сознания оно воспроизводится в виде противоречия абсолютного<br />
основания истории и общественного развития (особенным образом трансформированного<br />
в каждой из этих форм) и условной предпосылки (предпосылки каждой из этих<br />
форм). В искусстве — это его противоречие с теорией эстетического и его художественной<br />
непосредственности (генезис видов искусства отражают сложный процесс эволюции<br />
теории и «практики» чувственности человека через эстетическое овладение пространством<br />
и временем чувств. В философии — это противоречие теории сущностного самосознания<br />
и универсального развития человека и жизнедеятельного способа воплощения<br />
пространства-времени истории в нем. В морали — это противоречие теории морали как<br />
генезиса императивов и практики нравственной воли. В науке — это противоречие генезиса<br />
научных систем познания, отражающие не только накопление знаний, но, прежде<br />
всего, логику науки в контексте науки логики и логики истории, а также практику научного<br />
знания в логике технологического развития производительных сил. В религии — это<br />
противоречие иррационального генезиса отчуждения в его абстрактном воплощении в образе<br />
Бога как образа «совершенного человека» и практика обращенного снятия исторического<br />
пространства и времени истории несостоявшегося реального человека. Бог и является<br />
художественным образом совершенного существа как существа страдающего.<br />
Означенные противоречия наполнены крайне напряженными, богатыми и неожиданными<br />
событиями и знаниями, которые не ограничиваются схематизмом логического каркаса<br />
их взаимосвязи. Но именно этот «схематизм» необходим для адекватного понимания внутреннего<br />
«кода» искусства и форм общественного сознания вообще. Без него методология<br />
искусствоведения не может быть имманентной сущности искусства в статусе формы общественного<br />
сознания и не способна помочь справиться с вульгаризированным пониманием<br />
прогрессивного значения «смерти искусства» как условия и процесса реального присвоения<br />
человеком своей окультуренной эстетичности, способа мышления и нравственности.<br />
Поскольку общественное разделение труда выполняло «роль» исторической предпосылки<br />
идеально-всеобщего оформления принципа сущности человека, а, как отмечалось<br />
в предыдущем очерке, такое становление соответствует эволюции классический способов<br />
производства и сопровождается отчуждением материальной и теоретической форм деятельности,<br />
то экстраполяция и исчерпание дуализма сущности обнажает свою природу<br />
в пространстве классической — капиталистической — промышленности как отчужденной<br />
универсализации материальной, производственной деятельности, вступающей в конфликт<br />
с отчужденной универсализацией идеальной, теоретической деятельности. Говорилось<br />
уже, что в таком виде завершенный дуализм отразился в абсолютизированной разорванности<br />
мышления и чувственности через крайности гегелевского и фейербаховского понимания<br />
сущности человека. Таким образом, фейербаховская чувственно-предметная ограниченность<br />
отчужденного человека находит свое дополнение в ограниченной (абстрактно<br />
идеализированной и омертвленной в ней) гегелевской всеобщности теоретической формы<br />
самосознания как другая интерпретация сущности человека. Но эта философская дихотомия<br />
«разумно опустошенного, зависимого от природы» и «абстрактного» человека отражает<br />
не только реальную — общественную — дихотомию, но и воспроизводит себя в каждой<br />
из форм общественного сознания.<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
294<br />
раздел второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ феноменологические разломы<br />
295
лософии от разума и ее трансфузия в иррационализм «философии жизни», когда картина<br />
мира ссуживалась до объема субъективности не могло не спровоцировать первый шок<br />
«конца истории». Что это был шок исчерпанного основания классической истории не понимали<br />
или не хотели понимать. Понятым должно быть, что дальнейшая формализация<br />
и жизненная опустошенность искусства была лишь отзвуком и сопровождающим моментом<br />
категориального и жизненного опустошения философии 4 , а вместе они отражали завершение<br />
классического отчуждения, необходимость преодоления его политико-экономических<br />
и социокультурных пределов и осмысления своей роли в этом преодолении.<br />
Можно сколько угодно говорить о том, что эти «дихотомии», «антиномии», «разрыв<br />
противоположностей» относятся к классическому «линейному познанию», которое вписывается<br />
в ньютоновскую механку мира, где четко ясно, где «верх», «низ», «левое»,<br />
«правое» и противопоставлять аргумент в пользу «полилинейной синергетичности»<br />
современного «пост» мира. До тех пор, пока основание классическогоотчуждения не преодолевается,<br />
«полилинейный мир» превращается в хаотическую полифонию смешения<br />
и смещения аморфности и деформации, регресса и сознательного истребления мира<br />
«постмортальным» существованием человека. На этом основании мир не имеет ниаких<br />
шансов для того, чтобы стать гармонией истории и индивида, ибо в этом основании история<br />
лишается возможности выжить, провоцируя процессы, которые никак могут утешиться<br />
самодостаточностью философии, искусства и культуры как таковой.<br />
Современное искусство и искусствоведение могут «утешиться» только тем, что негативная<br />
смерть состоялась во всех формах общественного сознания, что убедительно отображено<br />
в их методологическо-семантичном вакууме — в неклассических предпосылках<br />
(и «постклассических» как их агония) негативным образом покончила с собой философия,<br />
в позитивистских (а также неопозитивистских и постпозитивистских) предпосылках<br />
покончила с собой наука, в неотомизме покончила с собой религия, в постмодернизме,<br />
по выражению директора венского Музея современного искусства «агонизирует и бросается<br />
под колесами цивилизации» искусство, в обеспечении неомальтузианських и неодарвинистских<br />
«аргументов» в пользу «дегуманизации информационной эры» как условия<br />
ее «разумной прагматизации» покончила с собой мораль как нравственность. Таким<br />
образом, теоретические аспекты форм общественного сознания совершили над собой<br />
операцию «харакири». В осадке осталась только их сомнительная практика.<br />
Формализация искусства, которое «производит как таковое», объявляет миру о потере<br />
своей содержательности. В представленности современного искусства наблюдается<br />
процесс превращения его в чистую форму «потрясенного сознания» (Е. Анчел). Но тот<br />
же самый способ производства, который приводит искусство к потере диалектики чувственной<br />
содержательности, превращает последнюю в теоретико-философское содержание<br />
мышления. Формы общественного сознания принимают в начале видимость самостоятельного<br />
существования, они действительно начинают представлять себе что-либо,<br />
не представляя ничего действительного, они «эмансипируются» от мира и переходят<br />
В этой ситуации сложилось впечатление, что движение познания, теоретическое и художественное<br />
опредемечивание императивов истини, добра и красоты закреплялось<br />
за формами общественного сознания, а ложь, безобразное и зло укоренялись в бытии<br />
не окультуреного (безкультурного) социума. Но это впечатление довольно поверхностно.<br />
Во-первых, к порожденному способом его исторического существования и производственными<br />
функциями «некультурному социуму» претензий не может быть — он бескультурен<br />
не по собственной воле. Во-вторых, синдром Дориана Грея был и остается «атрибутом»<br />
«субъектов» форм общественного сознания, а также их посредником. И не<br />
только по объективной причине индивидуалистической природы интеллектуальной и художественной<br />
деятельности, но, прежде всего, из-за их места в системе общественного<br />
производства, поляризации материального интереса и идеологической природы форм общественного<br />
сознания, провоцирующей сложные и далеко не чистоплотные мировоззренческие<br />
мутации («идеология» как «учение о идеях» перерождается в «идеологию»<br />
как «духовного оружия» порабощения человека).<br />
Проблема заключается в том, что в системе отчуждения основания истории становление<br />
категориального содержания истины, добра и красоты происходит одновременно<br />
со становлением некатегориальности, но устойчивой реальности осознанного содержания<br />
неистинности (успешность технологий манипулляция общественым сознанием подтверждают<br />
преднамеренность ложных форм знания, их осознанного симулирования),<br />
безобразного и зла. «Похвала глупости» Эразма Роттердамского, «Цветы зла» Шарля<br />
Бодлера и «Эстетика безобразного» Карла Розенкранца в этом смысле образовывают<br />
новое сочетание и представляют собой отдельные ступени и констатирование бесконечных<br />
трансфузий и перекрещиваний красоты и уродства, истины и не столько заблуждения,<br />
сколько лжи, добра и зла, мимикрии и сокрытия несубстанциальности этих производных<br />
форм.<br />
Таким образом, разворачивание неразвитого идеала в принципе его самосознания как<br />
всеобщего («общезначимого», Аристотель) идеала истории состоялся как процесс его окончательного<br />
отрыва содержания чувственной культуры индивида. Поэтому с первым историческим<br />
фактом «смерти искусства» (хотя тогда такое словосочетание не применялось), мы<br />
сталкиваемся у Гегеля, когда завершение генезиса видов искусства «преодолевает» «несущественность<br />
чувственного» (Гегель). Спор Гегеля и Гёте в вопросе о природе эстетического<br />
констатировал уже факт замкнутости немецкой классической философии искусства<br />
и необходимость утверждения теории эстетического как отражающего и реального процесса<br />
жизни. Если гегелевская философия икусства отражает завершенность становления,<br />
то гётевская теория эстетического утверждает опережение реального преодоления классического<br />
предела экстракции эстетического в абстрактные формы идеала красоты.<br />
В неклассическом пространстве <strong>проблем</strong>а «смерти искусства» поставлена Шпенглером<br />
в его «Закате Европы». В одном и том же измерениии, она содержала в себе три аспекта:<br />
первый вписывался в известное отрицание, зряшное отречение неклассической фимария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
296<br />
раздел второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ феноменологические разломы<br />
297
к образованию «чистой теории» философии, морали, искусства и т. п.<br />
На самом деле эта крайность выражала завершенность отчуждения, дуализма сущности.<br />
Она проявилась не только объявленной Шпенглером первою «смертью искусства».<br />
Проблема «смерти искусства» связана с <strong>проблем</strong>ой исчерпания основания, из которого,<br />
наряду сдругими формами общественного сознания, искусство рождается и в новом качестве<br />
которого оно должно вернуться в преображении эстетической непосредственности<br />
культуры. В новом качестве основания формы общественного сознания обречены на положительное<br />
отмирание, на преобразование в непосредственную тотальность человеческих<br />
способностей. Наука не исчезает как научное познание, но становится научной картиной<br />
мира и знания каждого, философия трансформируется на сущностное самосознание каждого,<br />
искусство отмирает не в смысле исчезновения художественных форм отражения<br />
и творчества мира (напротив, они получают интергральный и интенсивный характер жизнедеятельности,<br />
превращаясь в развитую эстетическую способность и непосредственность<br />
развитой до меры чувств чувственности), религия отмирает как возвращение человека к самому<br />
себе в его всечеловечской образности, мораль отмирает как процесс утверждения<br />
действительной нравственности. Это кажется утопией? Утопией является попытка вступить<br />
в эру информационных технологий с убогим эстетическим отражением и воображением,<br />
со смесью эрзац-знаний в пустой голове, которую даже «многознание не научает<br />
уму», с такой «нравственностью», в целом — с таким пониманием «развитости» индивида<br />
и с таким уровнем «понимания» исторических противоречий. Отличие этихдвух подходов<br />
заключается в том, что второй вариант ведет к смерти истории (о чем довольно много написано,<br />
но… надежда на чудо — страшная в своей инфантильности вещь).<br />
Неклассические философия-искусство как первый вариант стремления к превращению<br />
жизни искусства на искусство жизни за счет новой крайности — гиперболизации<br />
чувственности и игнорирования универсальными императивами культуры мышления —<br />
предстает «сворачиванием» объема видов искусства в неопосредованной чувственности.<br />
Этот феномен сопровождается и особенным «сворачиванием» видов искусства в современном<br />
искусстве, в частности, в нем отражается маргинальная антропология с ее «ускользающим<br />
бытием» (Ф. Гиренок), которая сворачивается как шагреневая кожа в акцентуации<br />
собственного «уменьшения». Отказ от «рациональности» тут создает условия<br />
не только для личного (Ницше и др.), но и для общественного сумасшествия 5 . «Философия<br />
жизни» стремилась освободить чувственную непосредственность от рационального<br />
«балласта», ведь невыносимость мышления представала невозможностьюего его снятия<br />
в практике чувств, когда «чувства в своей непосредственной практике становятся теоретиками»<br />
не только в значении «чувствовать сущность» (А. Платонов). Проблема глубже<br />
— радости чувственного на самом деле являются радостями духа, так как чувственное никогда<br />
не знает, когда оно одухотворено.<br />
Реинверсированная феноменология искусства в формах самоуничтожения фундаментальых<br />
значений эстетического уподобляется попытки его (эстетического) «реинкарнамария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
298<br />
ции» в тело общезначимой субъективности. Но дело в том, что такая субъективность<br />
не может быть общезначимой. Чувствуя это расхождение, она пытается довести несущественность<br />
для себя именно того, к чему в скрытом виде стремится. В одном и том же времени<br />
и пространстве она ищет то, от чего будто бы отказывается, и отказывается от того,<br />
чего желает с печалью и тоской того, кто осознает, что именно потерял и отсутствием<br />
времени на овладение временем. Спокойствие человека, прикладывающего максимум<br />
усилий, чтобы скрыть свои утраты и надежды, которые умирают последними, потому что<br />
остаются даже тогда, когда у него уже ничего не остается. Это спокойствие ужаса потерянного<br />
времени, привыкшее к себе настолько, что подменило собой страсть к жизни. Это<br />
«постмортальное сществование» человека, свыкшегося с собственной смертью, и последнняя<br />
выкрикивает себя заклинанием желаний, которые уже не могут осуществиться.<br />
Что этой феноменологиим еще осталось? Любые крайности проявляются в виде агрессии<br />
несостоявшегося, или чувством поражения «сосланного на Землю» (К. Нойка) человека.<br />
«Морской волк» Дж. Лондона, «степной волк» Г. Гессе? Или просто возвращение<br />
в галлюцинацию смеси юнговских «архетипов» (как освобождение от ответственности<br />
за образ жизни, переноса ее на «предзаданность») и фрейдовского «подсознания», в котором<br />
живут призраки прошлых и несостоявшихся времен. Метафизика измерения времени<br />
чувств временем/длительностью повседневности («ежедневным временем», П. Элюар)<br />
предстает инверсированной мерой высшей несвободы современного человека.<br />
Преодоление дуализма философии и искусства содержит в себе необходимость преодоления<br />
дуализма разума и чувственного. Вместе с тем, отсутствие такого преодоления<br />
актуализирует модификацию ситуации кентавра — соединение спиритуализма философии<br />
с вульгарным натурализмом в трактовке чувственного (крайности, продолжающие<br />
симулировать себя герменевтическими злоупотреблениями в фантоматических самоидентификациях)<br />
плавно перетекают в крайности абстракций современного искусства и в<br />
не менее натуралистические проявления непосредственного. В обоих случаях — смертельный<br />
приговор единству духа и чувств — отказ от разума как теоретического самосознания<br />
чувственного провоцирует искусство на вариативные ситуации неклассического<br />
времени. С одной стороны, такая ситуация «смерти» философии и искусства удостоверилась<br />
и ограничилась необходимостью превращения абстракций крайностей этих двух<br />
форм общественного сознания в неклассическую непосредственность Я. Суть заключалась<br />
не только в том, что в случае Ницше сумасшествие было предзадано болезнью —<br />
неклассическое время как новая форма трактовки и утверждения эстетического было обречено<br />
на безумие — с ума сошла история и тем перенеслась в пространство бредящих<br />
чувств. Это была не высокая трагедия — это была обращенная трагедия раздробленной<br />
личности, которая агрессивно предлагала философию истребления человека (Ницше),<br />
пессимизм распада культуры (Шпенглер), напрасные усилия воли (Шопенгауэр), превращения<br />
непосредственного в крайности физиологизации бессознательного (Фрейд), перенесения<br />
эстетики в область тошноты (Сартр, Камю) и т. п. Отсюда — болезненный анамраздел<br />
второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ феноменологические разломы<br />
299
ру теории и истории, достоверным основанием которого может быть только достоверность<br />
сущностной меры человека, совпадающая с действительностью основания исторического<br />
развития. В современном искусстве такой процесс представлен попыткой сворачивания<br />
видов искусства в едином произведении и изменением статуса произведения.<br />
В этом аспекте феномен арт-факта требует осмысления принципиально с иных позиций.<br />
Примечания<br />
1 Ребра — самая красивая часть<br />
скелета, представляются<br />
крылья или нечто вроде<br />
гармони где жизнь в- и вы-ходит<br />
лучше всего их видно<br />
у изголодавшихся или в общей могиле<br />
это борозды на песке<br />
когда море отступает после прилива<br />
это оставшиеся от деревьев<br />
ломкие ветки когда их<br />
на открытых грузовиках<br />
увозят.<br />
Мириам Ван Хи. Пер. Дм. Сильвестрова<br />
Или же:<br />
А интересно дожить до того<br />
Когда все вокруг умрут<br />
Когда не останется никого,<br />
Кого б я знала тут.<br />
И между живых уже ни одного<br />
Не будет, кто знал меня.<br />
И я лишь одна посреди всего<br />
Зажившаяся змея.<br />
Одна среди злейших друзей и подруг<br />
Раздавленные очки. Печатка,<br />
Слетевшая со всех рук.<br />
Расправленные крючки<br />
Дотарахтеть до эпох до тех.<br />
И зачерстветь в ломоть.<br />
Но пережить и себя среди всех<br />
Не приведи Господь.<br />
Василина Орлова<br />
нез рассудка и эстетического. Негативная диалектика эстетического Адорно не только<br />
основывалась на мистификации диалектики логики, но и опиралась на такую мистификацию.<br />
Впрочем, она выявилась странно продуктивной в исторической перспективе, которая<br />
на самом деле была началом исторической ретро-спективы, ретро эстетики вообще. Причем<br />
не в понимании рефлексии истории, а в понимании теоретического обоснования ее регрессиии.<br />
Процесс умирания философии шел рядом с процессом умирания искусства —<br />
они взаимоопределяли и взаимодополняли друг друга. Ведь разум не может сойти с основания<br />
чувственного без того, чтобы чувственное не соскакивало с оснований разума.<br />
Цветовое разнообразие оказалось неудачным смешиванием некачественных красок, которые<br />
еще сохраняли убедительность, лишь копируя природу. Белое и черное исчезли как<br />
контраст прекрасного и деформированного, но просачивались сквозь отражения света<br />
и тени субъeктивности, когда тень служила сокрытому, а свет не проникал в пространство<br />
сознания и бытия. Более того, пространство пыталось замкнуть время («Жернова времени»<br />
Виктора Сидоренко) — классическая скульптура вошла в конфликт с эстетическим пространством<br />
современного человека — она вышла из пространства вокруг нее, но не может<br />
преобразовать его в собственное внутреннее пространство — в пространство собственного<br />
действия (кризис театра как несовместимость пространства действия и пространства истории<br />
— неубедительность и даже фальшь игры из-за несоответствия содержания историческому<br />
времени, — деструкция восприятия, комедийный мелодраматизм трагедии и фарс<br />
театрального искусства). И не только театрального — сомнительное теоретизирование<br />
по поводу роли современного кино как такого, что должно предложить современности новый<br />
миф, основывается на новой волне идеологизации кино, но не на осмыслении особенностей<br />
превращения пространства и времени в эстетике исторического действия. Вместе<br />
с тем, именно эти трансформации (в положительном смысле и современном отрицательном<br />
проявлении) представляют собой фундаментальную <strong>проблем</strong>у проекций искусства в пространстве<br />
действительной непосредственности пространства и времени истории как<br />
пространство и время очеловеченного, окультуренного единства разума и чувств.<br />
А за этим — «ужас вечного сомнения» (Андрей Белый) и тирания слова «никогда» —<br />
никогда ничего не будет, все сказано в культуре, а единственная оставшаяся необходимость<br />
— осуществление сказанного — стала неосуществленным остатком. Возможно,<br />
навсегда. Воля к жизни также ушла. Сон, не ставший явью. Восприятие другого как бесполезную<br />
«безмерность» и сам как проект такого восприятия. Во сне проходит жизнь,<br />
в жизнь приходит смерть. Эта пограничная ситуация, маргинализация непреодолимыхграниц<br />
порождает новый пессимизм, который более опасен для мирового самосознания,<br />
чем все предыдущие формы.<br />
Поэтому положительный процесс отмирания форм общественного сознания является<br />
процессом несуммарного, а диалектического сворачивания отчужденно опосредованных<br />
форм в жинедеятельность человека, творящего основание всеобщего в качестве всеобщего<br />
основания. В целом — это процесс превращения истории и теории культуры в культумария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
300<br />
раздел второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ феноменологические разломы<br />
301
2 Формы общественного сознания в значении опосредованных форм общественной практики<br />
и форм определения идеальных форм всеобщего нередко отождествляются с эмпирическими формами<br />
обыденного сознания. В таком случае утрачивается субстанция их особенной природы, содержащей<br />
в себе субстанциально-категориальный характер человеческой чувственности, мышления и воли.<br />
3 На большом объеме исторического материала это отличие представлено в очерках «Письма без<br />
адреса» и «Искусство и общественная жизнь» Г. В. Плехановым, как и в работах К. Леви-Стросса<br />
и представителей антропологической философии. Эстетическая антропология истории в учебные<br />
программы не включена. А жаль — материал для современного обучающегося не только интересный<br />
и доступный, но и эффективно постигающийся. Вместе с тем, не следует упрощенно понимать первобытный<br />
синкретизм. Как отмечает Мих. Лифшиц, «структурная антропология настаивает на том, что<br />
капризы первобытной «ментальности» подчиняются правилам формы, но они подчиняются им как<br />
общие случаи нарушения правил» [31, 65].<br />
4 Нераздельная связь опустошенности философии и искусства отражается и в логическом и художественном<br />
опустошении воображения, что характерным образом отражается в современном искусстве.<br />
В очерке «Об эстетической природе фантазии» советский философ Э. В. Ильенков раскрывал<br />
таким образом: «Свобода вообще — а свобода воображения (фантазии) есть ее типичный и притом<br />
резче других выраженных вид — есть вообще только там, где есть целенаправленное действие,<br />
совпадающее с совокупной необходимостью. Это аксиома диалектико-материалистич-ской философии.<br />
В эстетике эту аксиому тоже забывать нельзя. Что воображение (фантазия), то есть деятельность,<br />
формирующая образы и затем изменяющая, развивающая эти образы, должно быть свободным<br />
от власти штампа, мертвой схемы, это, по-видимому, не приходится доказывать. Действие (как<br />
реальное, так и в плане представления), совершающееся по строго формализованному способу, педантично<br />
разработанному рецепту, вообще не нуждается в помощи силы воображения, а не только<br />
«свободного» воображения. Такое действие способно только повторять, только воспроизводить, но<br />
неспособно производить, творить, рождать. В такого рода действиях человека на сто процентов способна<br />
заменить машина. И не только в производстве материальной жизни, а и в производстве «духовной<br />
жизни». Машина уже сегодня умеет писать стихи и музыку, причем нисколько не менее<br />
совершенную, нежели та, которую умеют писать ремесленники от музыки и стихоплеты. Здесь<br />
не требуется не только свободное воображение, но и само воображение. […] Надо сказать, что действительно<br />
большие художники (даже буржуазного мира) эти вещи никогда не путали. Протестуя<br />
против понимания художественной фантазии как капризной игры личного воображения, великий<br />
Гете говорил, что эта форма фантазии свойственна лишь плохим художникам, а художественный гений<br />
определил как интеллект, «зажатый в тиски необходимости», имея при этом в виду совокупную,<br />
интегральную необходимость развития человечества». Если же необходимость развития аннигилируется<br />
консервацией предела стагнации истории, то воображение утрачивает и свое историческое<br />
основание, эманируя из самого себя и потому скоропостижно исчерпывая себя.<br />
5 Достойно особого внимания исследование М. Фуко «История безумия в классическую эпоху»,<br />
в котором представлено его восхождение от массовых болезней до персонализации отчужденного<br />
разума.<br />
ИСКУССТВО В «ЧАС БЫКА»*<br />
Я любил вас, когда сотворил,<br />
теперь — презираю.<br />
Моя душа, сжавшись, увяла.<br />
Тело стало ей велико, не по размеру.<br />
Луиза ГЛИК<br />
Я умер и рассмеялся.<br />
Велимир ХЛЕБНИКОВ<br />
В древней мифологии «часом быка» назывался промежуток<br />
от первого до двух часов ночи как время беспокойства, страхов, наступления<br />
смерти. Но «час быка» опасен после полуночи, если<br />
в полночь обеспокоенные сознание и чувства не посещает мудрая<br />
Сова Минервы. Неведомо ведомое коллизиями неклассической<br />
философии (отнюдь не только «философией жизни», но и позитивизмом<br />
со всеми его логическими тупиками), ложно отождествив<br />
формы классического искусства с его субстанциальным содержанием<br />
в логике опосредованного становления человеческой непосредственности,<br />
современное искусство напрочь отреклось и от<br />
субстанциальной природы чувственности. «Арт-факт» как его<br />
«высшее» достижение предстает единственным приемлемым актом<br />
«смерти искусства», пытающегося избежать свой уход в основание<br />
тождества мышления и бытия меры того человека, который «есть<br />
мера всех вещей существующих, потому что они существуют, и не<br />
существующих, потому что они не существуют» (Протагор).<br />
Иными словами, искусство, уходящее в основание развития<br />
непосредственной меры человеческой целостности, есть искусство<br />
человека творить свои отношения через бесконечность форм<br />
творения жизни. В этом смысле высшим, совершенным и могущественным<br />
арт-фактом подлинной реальности современности явля-<br />
* Очерк впервые был опубликован в книге: Воля к Безмерному: Опыт постижения<br />
метафизического / Авт. идеи и куратор А. Клименко. — К., 2008. — С. 58–61.<br />
раздел второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ искусство в «час быка»<br />
303
ется команданте Маркос — мыслитель и лидер партизанского движения в Мексике на переломе<br />
ХХ–ХХІ веков. Этот арт-факт есть сама жизнь, но в скрытой подтасовке феноменальности<br />
подлинной жизни псевдо эстетическими формами бессознательного современному<br />
искусству он совершенно недоступен.<br />
Феномен постмодерна (возведенные в виртуальные степени его последующие «пост»<br />
сути дела не меняют), обозначенный как время «возможности человечества с достоинством<br />
умереть», возник вследствие неразрешенного противоречия дуализма сущности<br />
человека. Того самого дуализма, представленного первобытным искусством в виде человека<br />
с головой животного и античным искусством в виде человека с телом животного.<br />
В этой антиномии головы и тела — разума и чувственности — было представлено противоречие<br />
лишенного самосознания и отраженного таковым в синкретизме первобытного<br />
искусства первобытного человека и осознавшего («Познай самого себя» — было написано<br />
на воротах у входа в Дельфы) свою «животность» античного человека периода оформления<br />
искусства в самостоятельную форму общественного сознания.<br />
Антиномию Кентавра классическая философия и искусство разрешило в пользу разума.<br />
Поэтому впервые искусство «умирает» в конце классического становления сущностных<br />
сил человека, заключенных в гегелевской философии в его Абсолютном Понятии.<br />
Место искусства и логика становления его видов были подчинены самой природой становления<br />
самоопределению человека в виде Абсолютного понятия (понимания) своей<br />
сущности ценой превращения «древа жизни» в «древо познания» и признания (Гегелем)<br />
чувств исключительно теоретических. Эстетика стала теорией чувственного, а процесс<br />
«восхождения Духа к собственному самопознанию» предполагал безжалостное отсечение<br />
ветвей от «древа жизни», которые мешали росту «теоретической кроны». И когда<br />
неклассическая философия решила вернуться «к жизни», противопоставив тавтологическому<br />
гегелевскому тезису «Все разумное действительно, все действительное разумно»<br />
антитезис «Все неразумное действительно, все действительное неразумно» (Шопенгауэр),<br />
когда она решила «спуститься на землю», оказалось, что отсеченные и казавшиеся<br />
уже зажившими обрубленные ветви кровоточат.<br />
«Неразумная форма разума», каковой Маркс называл гегелевский Разум, обернулась<br />
неразумной формой чувственного. Возникла логическая ситуация, когда и философия,<br />
и искусство сошли с ума. Как хорошо известно, нередко эта ситуация приобретала феноменологическую<br />
персонализацию. В этой ситуации можно было бы успокоиться замечанием<br />
Лессинга: «Если при определенных обстоятельствах человек не теряет разум, это<br />
означает, что ему нечего было терять». Но утешение сомнительное, поскольку уступка<br />
смерти и есть торжество некрофилии завершенной деформации эстетического. Основная<br />
же <strong>проблем</strong>а заключается не только в необходимости понимания причин возникновения<br />
этой ситуации и выведения из нее гносеологических выводов, а в выявлении причин неестественной<br />
продолжительности ее агонии.<br />
Для снятия мрачной тональности последующих размышлений, необходимо напомнить<br />
о природе форм общественного сознания. Это необходимо не только потому, что его неусвоенность<br />
серьезно умаляет теоретическую добротность критических исследований<br />
искусства в целом, но может также сместить акценты феномена «смерти искусства»<br />
из оптимистического пространства в пространство пессимизма. Это чревато и тем, что<br />
названный феномен может приписаться волюнтаристскому капризу современного художника,<br />
который является жертвой этого же неведения, а потому бессилен изменить ракурс<br />
художественного отражения действительности в соответствии с фундаментальной<br />
логикой ее развития.<br />
В фундаментальном же измерении <strong>проблем</strong>а «смерти искусства» связана с <strong>проблем</strong>ой<br />
основания его возникновения. Это основание является общим для всех форм общественного<br />
сознания и коренится в общественном разделении труда, имевшего значении разделения<br />
идеального и чувственного модусов человека (названого в философии дуализмом<br />
сущности). Именно это разделение могло быть основанием становления сущностных сил<br />
человека, зафиксированных философией в абстрактных понятиях Абсолютной истины<br />
Гегеля, а искусством в высших образцах Идеала Красоты. В траектории развития истории<br />
как подлинной меры человека и человека как действительной меры истории, истинное отмирание<br />
форм общественного сознания — их возвращение в реальное основание развития<br />
человеческой целостности — имманентно присвоению человеком собственной сущности.<br />
Но это основание такого исторического развития, которое не только несовместимо с отчужденным<br />
дуализмом, но и возможно как его практическое преодоление в характере человеческой<br />
жизнедеятельности.<br />
Таким образом, категориальным содержанием и предназначением форм общественного<br />
сознания выступает их «роль», опосредующая становление всеобщности самопознания<br />
всеобщей сущности человека. Теоретическое завершение этого становления в его логическом,<br />
эстетическом и феноменологическом смысле исчерпывает и историческую<br />
«функцию» форм общественного сознания как «опосредующих форм человеческой деятельности»<br />
(Плеханов). Предел этого становления является имманентным пределом искусства,<br />
философии, морали, науки, религии в качестве абстрактных и отчужденных<br />
форм сущности человека. Их «смерть» и есть подлинное начало очеловеченной истории.<br />
То, что это начало пока что не состоялось, вынуждает исчерпанные формы существовать<br />
в пределе, который они должны были преодолеть в себе и себя в нем. Но искусственность<br />
существования в исчерпанном пределе провоцирует неестественную смерть<br />
таковых, когда они не могут освободиться от бремени собственной абстрактности — чтото<br />
наподобие сказочных проклятий нарушивших табу красавиц, обрекающихся на невозможность<br />
разродиться.<br />
Поскольку естественная «смерть искусства» (и остальных форм общественного сознания)<br />
связана с исчерпанием основания, из которого они исторически возникают,<br />
то сохранение такого основания порождает такую смерть в деструктивном смысле подмены<br />
красоты безобразным. «Смерть искусства» в его постмодернистском выражении<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
304<br />
раздел второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ искусство в «час быка»<br />
305
ли с женщиной ню, изображенная, как правило, обезличенной. И тогда самоотречение<br />
разума представало в юном облике как «еще не родившийся дух», в зрелом облике как<br />
«уже не родившийся дух», в старческом облике как ярко выраженный признак деградации.<br />
Освобожденная от «тяжести разума», от его невыносимости, неразумная чувственность<br />
предстала исступленностью без страсти,упоением без восторга, истощением чувств<br />
до того, как они так и не родились, «цветами зла» (Ш. Бодлер).<br />
Речь о том, что, сколь это ни выглядит парадоксальным, современное искусство как<br />
раз не «эротично», ибо принципиальная трансформация отношения субстанции и формы<br />
здесь подменена тем, что, в отличие от классической, женщина «ню» наделена атрибутом<br />
аморфной субстанции. В этом художественном образе она лишь «по умолчанию» обещает<br />
бесконечность, которую у нее уже изъяли. Форму присвоил себе художник, не предполагая,<br />
какая опасность для самих мук творчества его ожидает — присвоив себе уже лишенную<br />
субстанциальности форму, он обрек себя на утрату источника развития таковой.<br />
Отныне форма должна порождать себя из самое себя, находя свое основание в бесконечности<br />
видимостей «ничто».<br />
Крайности сходятся и в этом случае — утрата субстанциальности основания = формы,<br />
придающей ему (основанию) бесконечные модусы «нечто», обусловливают абстрактное<br />
направление современного искусства. Увы, классическое апостериорное не становится<br />
неклассическим априорным, но снова утверждается тривиальность принципа<br />
«бытие определяет сознание». В данном случае перенесенные из эстетики внешней<br />
границы в логику внутреннего содержания пределы чувственного становятся началом<br />
абстрактного. Ординарность кажимого преодоления антиномии чувственного и логического<br />
дополняет гипертрофию чувственного гипертрофией логического. Имя последней<br />
— абсурд. Интересно, что в «Эстетике безобразного» Розенкранц связывает деформацию<br />
как «совершенство (то, что совершило все свои возможные формы. — М. Ш.) безобразного»<br />
с крайними формами этих двух гипертрофированных феноменов человеческой<br />
сущности. И не случайно, так как именно этим завершенным раздвоением сущности и завершилась<br />
классическая история, классическая философия и классическое искусство.<br />
Печально, но факт — «постмодерн» (в философии и искусстве) не только не убрал (как<br />
думал о себе) эти крайности, но лишь породил бесконечные формы новых видимостей<br />
старого «дуализма сущности».<br />
За логическим суживанием, «свертыванием» содержательного объема категорий современного<br />
искусства (а за ним следует своеобразное «свертывания» объема видов искусства)<br />
— взаимопревращения крайностей в содержательной деградации искусства как<br />
сферы чувственности. Художественное отражение бесчувственного разума и неразумной<br />
чувственности — два основных направления современного искусства. Чувственное отреклось<br />
от разума, отдав его на истребление абстрактному искусству. Абстрактное искусство<br />
отреклось от чувственности, без сожаления отдав его на растерзание противоположному<br />
жанру. Но, сходясь, крайности угасают друг в друге взаимодополняясь — в первом<br />
опирается на соединении животной головы первобытного человека (ставшего основанием<br />
абстрактного искусства) и животного тела античного Кентавра (ставшего основанием<br />
чувственного жанра в современном искусстве). Поэтому его боль — это боль несбывания<br />
в реальности, вынужденного переносить себя в симулякры «действительности в снах».<br />
Поскольку же страшнее боли, чем боль несбывшести, не существует, то и сопровождающие<br />
ее сны заполнены кошмарами и фантасмагориями.<br />
Доведенный до крайности, дуализм сознания и чувственного принял форму окончательного<br />
расчленения человека, присутствующего сегодня на собственных похоронах<br />
и несущий свои отдельные части на вечный погост исторического бытия. Бесславная<br />
смерть. Тщетные усилия. Хватило бы сил разразиться гомерическим хохотом, а не истерическим<br />
смехом. Не сняв, а зряшно отринув теоретические императивы классического,<br />
современное искусство переживает боль последнего дыхания с единственным преимуществом<br />
— оно обладает возможностью описывать свою смерть.<br />
Таким образом, в современных крайностях художественного отражения представлены<br />
антиномические формы логического и эстетического, расчленяющиеся уже по отдельности<br />
на бесконечное количество изощренно изголяющихся псевдо эстетических форм.<br />
Несмотря на то, что современное искусство преодолевает (каким образом и с каким<br />
результатом — это другой вопрос) лишь относительную самостоятельность видов искусства<br />
в их классическом выражении, в фундаментальном смысле его определяющие<br />
направления могут быть «нотариально заверены» в соответствии с содержанием означенной<br />
выше антиномии, а именно — художественной гиперболизации чувственного и логического.<br />
Но фундаментальная мера любого феномена философии и искусства имеет свое основание<br />
в отношении субстанции и формы. Субстанция бесконечна не благодаря некоему<br />
экстенсивному пространственному пределу, а благодаря временной бесконечности преодоления<br />
конечности форм. Внесением неестественных «турбуленций» именно в этом отношении<br />
современное искусство питает себя. Что они собой представляют? В трактате<br />
«О причине, начале и едином» Джордано Бруно доразвил аристотелевскую диалектику<br />
противоречия субстанции и формы до эстетического отношения. Субстанция есть<br />
мужское и потому пассивна и консервативна. Форма — это женское. Она активна и бесконечна.<br />
Вследствие своей бесконечности, форма никогда не бывает удовлетворенной,<br />
достигая свою удовлетворенность исключительно в бесконечной изменчивости. Некоторые<br />
утверждают, что эта мысль развита Бруно очень эротично. Думаю, суть глубока,<br />
но к простой «эротике» не сводится, а может получить свое развитие лишь в культуре<br />
чувств человеческих.<br />
Но не об этом речь. Согласно природе крайностей, на первый план выпячена чувственность<br />
в ее неопосредованности разумом непосредственности — унифицированная форма<br />
не была снята в диалектике чувств, а укоренилась в клонах одномерности собственных<br />
множеств. Уже чувственность предстала лишенной «духовности». Ее снова отождествлямария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
306<br />
раздел второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ искусство в «час быка»<br />
307
случае они предстают в женщине без лика, что избавляет от необходимости отразить «духовное».<br />
Во втором — чувственностью наделяются не столько линии, сколько краски.<br />
В этом мозаичном панно, сложенного из дурной бесконечности клонированных фрагментов,<br />
ни анамнез логического, ни новые соблазны чувственности, предложенные Ж. Бодрийаром,<br />
не спасут искусство от самопотери.<br />
И не в том дело, что абстрактный рассудок выдержал это. Вследствие своей ограниченной<br />
частичности, причащающийся (он в лучшем случае — причастие, но не деепричастие)<br />
от нее и ею, этот блудливый осколок сознания питается и вульгарной чувственностью,<br />
и мертвыми абстракциями. Ибо находит себя повсюду. Не способный понять, что<br />
именно теряет, он спокойно теряет все. И лишь по тому, чем довольствуется этот тлетворный<br />
дух «несчастного сознания», можно судить о его потере. И никакой истины, являющейся<br />
в виде «вакхического восторга, участники которого упоены» (Гегель) ему не изведать.<br />
Возможно, не следует осуждать и разум за то, что и он выдержал самоотречение.<br />
Ведь цена этого оказалась жестокой — разум «сошел с ума». Иногда, под видом самоотречения<br />
от имени «философии жизни» (под разными — более или менее удачными симуляциями<br />
свободы и непосредственности), он устраивал себе пир во время чумы, но чем<br />
дальше, тем больше такая жизнь превращалась из персонифицированного сюжета (феномен<br />
Ницше, но не только) в незавершенный фрагментарный эскиз неосуществленного.<br />
Попытка вернуться «в земную основу» человеческих чувств за счет отказа от разума в виде<br />
«абстрактной рациональности» оказалось очередной иллюзией — унифицированная<br />
форма философии и искусства не была снята в диалектике чувств, а укоренилась в клонах<br />
одномерности собственных множеств. Плохо, что самоотречение человека выдержало<br />
его сердце. Ведь пиррова победа инстинкта самосохранения состоялась за счет приспособления<br />
к формам смерти — смерть подменила жизнь, жизнь развлекается имитацией<br />
смерти. Именно эта преграда является последней причиной рефлексии логики самое себя<br />
как перемещение и смещение пространства, ставшегося в реальности прошлого времени,<br />
откуда и происхождение рефлексивной временной логики. Но только в ХХ веке, когда перед<br />
спекулятивним духом возникло задание осуществить свою последнюю ретроспективу,<br />
последний regressum in infinitum, осуществился распад теоретического разума.<br />
Мы живем в песках. И увязли намного выше колен. Дурная бесконечность бессмысленных<br />
кругов движется к песчаному «водовороту». Кругов осталось совсем немного.<br />
Если бы это были круги хотя бы Парменида! По крайней мере, те отражали попытку<br />
восхождения по логике восходящего мира — пытаясь выстроить картину Вселенной,<br />
Парменид был вынужден искать формы космогонического бытия за границами уже найденных.<br />
Но каждый раз, когда он замыкал пределы, автоматически возникал вопрос:<br />
«А что за этим пределом?» Приходилось выдумать новый круг. Но не обусловленное субстанцией<br />
определенности космических форм воображение философа исчерпало себя.<br />
Пришлось осознать тщетность принципа лишенного качества чистого количества и отказаться<br />
от такого конструирования мира.<br />
Но это и не круги Архимеда, бесконечно рисовавшего, стиравшего и вновь рисовавшего<br />
их на песке. Ибо Архимед владел этими кругами. Растоптанные убившими его римскими<br />
легионерами, они остались впечатленными в вечность под телом упавшего на них великого<br />
творца.<br />
Круги, обрисованные современным философом и художником — это не круги, обозначающие<br />
новые формы бытия. Это замаскированные под наличные формы бытия формы<br />
небытия. И весь сплав наших мук никчемен не потому, что лишен страсти и усилий,<br />
а потому что лишен счастливого — жизнеутверждающего — конца. В этой зыбкости бытия-небытия<br />
последнее становится сильнее — «круг» замыкается обратным свертыванием<br />
кругов. В них тотальность человека подменивается зряшным отрицанием времени<br />
и пространства переживания мира (Ж.-П. Сартр), неопосредованностью перенесенного<br />
в сознание психологического «инсайта» (Л. Стеффанини), мистификацией реальности<br />
в виде ее мифологической виртуализации (Ж. Лесчи), стиранием сущностных граней бытия<br />
и их предельной банализацией (Л. Жерфаньон), подтасовкой прогрессирующих форм<br />
жизни их «ничтойными» тенями (Е. Том), превращением жизни в опустошительную потерю<br />
(Д. Рошка), логико-гносеологическим самоотрицанием сознания (Э. Чоран), другими<br />
негациями человеческой сущности.<br />
Искусственно возведенный, превращенный в самостоятельную сущность, современный<br />
лабиринт небытия, со своими бесконечными отступлениями в «ничто», стремится<br />
укорениться в бесконечное множество регрессий, которые насыщаются небытием. Именно<br />
отрицательность приняла форму устойчивости, поэтому «отрицательная диалектика»<br />
современного искусства актуализируется возможностью стать самостоятельным модусом<br />
наличного бытия, атрибутивно невыносимой ситуацией, когда «тождественность<br />
индивида с самым собой» трансформируется не только в «логическую галлюцинацию»<br />
(Гегель), но и в этико-эстетическую деформацию. Ведь абсолютизация отрицательности<br />
исключает тождественность Я с социумом, из которого Я поспешно и с трагической<br />
успешностью редуцирует себя.<br />
А что за этими проявлениями небытия? Бытие, которое недоступно современной философии<br />
и искусству. И снова захохотал Мефистофель — старый соблазн вновь удался.<br />
Но урожай богаче — одиночество Фауста раздробилось, трансформировавшись в множество.<br />
Это стало возможным благодаря изменению «ареала» — ведь если философский<br />
дух уязвим для соблазна именно из-за его многотысячелетней усталости от одиночества,<br />
то художественная непосредственность уязвима массово — такова природа эмпирической<br />
эстетики.<br />
Реинверсированная феноменология искусства в формах самоуничтожения фундаментальных<br />
смыслов эстетического уподобляется попытки его (эстетического) «реикарнации»<br />
в тело общезначимости субъективности. Закавыка в том, что такая субъективность<br />
не может быть общезначимой. Ощущая это разногласие, она пытается доказать несущественность<br />
для себя именно того, к чему страстно стремится. В одном и том же времени<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
308<br />
раздел второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ искусство в «час быка»<br />
309
и пространстве эта художественная субъективность ищет то, от чего якобы отказывается,<br />
и отказывается от того, чего желает. Желает с неизбывной печалью того, кто сознает,<br />
что именно утратил и осознает отсутствие времени на художественное овладение временем.<br />
Сомнительна индифферентность человека, прикладывающего максимум усилий<br />
для того, чтобы скрыть себя, свои потери и надежды. Это ложный покой страха утраченного<br />
времени. Это человек умерший и продолжающий жить с привычкой к собственной<br />
смерти. Поэтому — умерший в последний раз и эта смерть высказывает себя заклинаниями<br />
желаний, которые живут лишь своим именем. Возможно, от страха за страх утратить<br />
эту условную, равновесомую с мизерным историческим бытием химерную свободу<br />
(а вдруг чувства будут жить меньше?) метафизика измерения времени чувств длительностью<br />
обыденного времени («каждодневным временем», П. Элюар) и есть высшая несвобода<br />
современного человека, философии и искусства.<br />
Ужас этой несвободы заключается в том, что она сопровождается добровольным отказом<br />
от красоты. Теоретические болезни духа сомкнулись с эстетикой безобразного<br />
и породили в современном искусстве чудовище изуродованных «сиамских близнецов»<br />
чувственного и абстрактного. Вслед за «древом познания» иссякло и «древо жизни». Оказавшись<br />
на краю мира, человек то ли обнимает высохшее дерево, то ли вцепился в него.<br />
Жизнь искусства действительно должна стать искусством жизни, но это возможно<br />
при условии, что философия и искусство должны преодолеть свои отчужденные, представленные<br />
друг в друге крайности и вернуться в основание сущностных сил реального<br />
человека. Но это возможно принципиально в другой истории.<br />
ОТЧУЖДЕННАЯ<br />
ОТРИЦАТЕЛЬНОСТЬ БЕЗОБРАЗНОГО<br />
В КОНТЕКСТЕ ЛОГИКИ ИСТОРИИ<br />
…все сказанное поначалу мы позабыли,<br />
а дальше не поняли, ибо не помнили начала.<br />
Каким бы ни было наше деяние, минует всего<br />
одно поколение, правда становится многоликой,<br />
и ни одного лика истинного.<br />
Генрик ПАНАС. Евангелие от Иуды<br />
В очерке «Безобразное в становлении, становление в безобразном»<br />
показана роль и место «Эстетики» Розенкранца в историкофилософской<br />
логике становления теоретической рефлексии идеально-всеобщего.<br />
Показано, что концептуальное конституирование<br />
феномена безобразного отражает не понятое до сих пор, но<br />
требующего понимания двойственность основания становления<br />
«предыстории». А эта двойственность заключается в том, что основание<br />
становления выступает и «внутренним» противоречием<br />
— то есть, противоречием единого основания как становления<br />
единого принципа единства мира, и «внешним» противоречием,<br />
поскольку общественное разделение труда с его эффектом разрыва<br />
сущности человека на «дуализм» чувственно-практической<br />
и идеально-теоретической псевдо самостоятельных «сущностей»,<br />
предстает внешними противоречиями — противоречиями разных<br />
типов. Причем, не просто «внешними», так как таковые они «безразличны»<br />
друг к другу по основанию. Это антагонизм как форма<br />
не только внешних, но и внутренних противоречий. Именно особенность<br />
такого совпадения в едином пространстве и времени истории,<br />
опосредованного (через восхождение способов материального<br />
производства) становления практических и теоретических<br />
раздел второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ отчужденная отрицательность<br />
311
способностей человека как основополагающего принципа и меры исторического развития.<br />
И именно непонимание такой особенности основания «предыстории» обусловливает<br />
отождествление диалектики «отрицательности», «негативности» (как феномена<br />
разворачивания тождества противоположностей «внутреннего» противоречия основания<br />
развития) с метафизикой смысла, получаемого ими как явления отчужденности<br />
противоположностей противоречия «внешнего» в его антагонизме с сущностью развития.<br />
Из такого отождествления вытекает онтологическая неразрывность категориального<br />
становления прекрасного и безобразного, как и ложное понимание их неразрывности.<br />
Логика мышления в данном случае переносит внутреннее единство «положительного»<br />
(«стороны» противоречия, стремящейся к консервации ставших форм, из-за чего в перспективе<br />
развития «положительное» выступает консервативной противоположностью)<br />
и «отрицательного» («стороны» противоречия, стремящейся к интенсивному «снятию»,<br />
преодолению ставших форм, из-за чего «отрицательное» предстает диалектическим моментом<br />
опосредования противоположностей, развития противоречия и реального развития<br />
вообще) на их соотношение в пространстве внешнего — антагонистического, отчужденного<br />
взаимоотношения противоположностей. Вследствие такого переноса понимание<br />
неразрывности «положительного» и «отрицательного» во внутреннем противоречии<br />
в инверсированном виде распространяется на ложный императив ложно абсолютизированной<br />
неразрывности «положительного» и «отрицательного» во внешнем противоречии<br />
с характером антагонизма. В аспекте становления эстетической теории происходит то же<br />
смещение, которое бытийствует и закрепляется в обыденном сознании, а именно, что прекрасное<br />
не может существовать без безобразного, добро не может существовать без зла,<br />
как и истина не может существовать без лжи.<br />
Последствия такого смещения содержания внутреннего и внешних противоречий печальны,<br />
и они заключаются в неправомерном уравнивании вечности красоты (добра, истины)<br />
и исторической относительности безобразного (зла, лжи). Это заблуждение имеет<br />
«далеко идущие» (способные на какие угодно мерзости) выводы — если уродство, зло<br />
и ложь неотъемлемы от прекрасного, добра и лжи, то они также обладают «субстанциальностью»<br />
и потому неистребимы. Следовательно, требуют онтологического признания<br />
своей правомерности. Дело остается только за тем, чтобы одним осуществить нравственный<br />
выбор быть «хорошими», стремящимся к красоте и истине людьми, а другим<br />
«плохими», осваивающими искусство лжи и уродства. В противоречиях мотиваций ее<br />
коллизий отчужденная история действительно развивается через нравственный выбор<br />
первых и деградирует благодаря безнравственному выбору вторых. Только суть дела заключается<br />
в том, что, до тех пор, пока выбор первых опирается только на самого себя, они<br />
обречены на регрессию в абстрактный гуманизм и на мораль пораженческого страдания.<br />
Потому как при условии сохранения основания истории в пространстве только нравственного<br />
выбора, в противостоянии красоты уродству, истины — лжи, добра — злу победа<br />
остается не за первыми.<br />
Но уродство, зло и ложи не субстанциальны. В логике внутреннего противоречия<br />
истине противоречит заблуждение (в эстетике безобразного — «неточность») как момент<br />
ее (истины) собственного становления, а не ложь. В отчужденном становлении заблуждение<br />
обладает онтологическими (общественными, идеологическими, эгоистично феноменологическими)<br />
предпосылками стать ложью, но в нормальном развитии заблуждение<br />
должно преодолеваться и сниматься в возвращении истинности к самой себе. В логике<br />
внутреннего противоречия добру (как мотивированного и осмысленного деяния того, что<br />
развивает человека) противостоит не зло, а то же заблуждение добра, фиксированное<br />
в терзаниях известного афоризма о «благих намерениях», которыми «вымощена дорога<br />
в ад» или в антиномиях «цели и средств» их осуществления. В логике внутреннего противоречия<br />
красоте противостоит не безобразное, а некрасивость как то же самое заблуждение<br />
и несформированность эстетической целостности. (Непреодоленность таких<br />
заблуждений превращается в предпосылку превращения противоположностей внутреннего<br />
противоречия в ставшие формы уродства, лжи и зла как торжествующих модусов<br />
антагонизмов. «Канат», на котором в данном случае балансирует «некрасота» и «уродство»,<br />
— это степень возможности причинения зла другому, как перетекание «неосознанного»<br />
зла (неосознанностью отнюдь не оправданное) в зло осознанное 1 .)<br />
Очевидно, что разрешение этих коллизий подвешено в зависимости от истинности<br />
познания, от универсальной культуры мышления. Следовательно, нравственное и эстетическое<br />
самосознание подвешены в зависимости от теоретического самосознания, а истинность<br />
искусства и морали пребывают в непосредственной зависимости от истинности<br />
философии. Сама философия в этом — гносеологическом — аспекте зависит исключительно<br />
от самое себя, с необходимостью обязанная включить в свою ответственность<br />
императивы добра и красоты. Единственным критерием всеобщности императива своей<br />
истинности философия имеет в логике развития материального субстрата всеобщности,<br />
а именно культуры реального развития истории, общественных отношений и человека как<br />
ансамбля общественных отношений.<br />
Теоретической самообусловленностью философии и ее соотнесенностью с реальным<br />
развитием (хотя такая соотнесенность также выступает двойственной — она и непосредственна<br />
и опосредована) обусловлена зависимость всех этих измерений человеческого<br />
от становления всеобщего основания в теории всеобщего 2 , и печальные последствия<br />
отношения к этому — предельно абстрактному и потому, предельно конкретному феномену,<br />
требующему для своего постижения высокую культуру мышления, принципиально<br />
другой системы образования и принципиально новую систему общественных отношений.<br />
В контексте логики истории, коллизии одновременности единого и расщепленного основания<br />
истории раскрывают и тайну присутствия аморфности, неточности и деформации<br />
(обозначенные Розенкранцем как три существенные ступени становления безобразного)<br />
в логике тех же способов материального производства. Такому утверждению «свободная<br />
эстетика» может предъявить обвинения в «схематизме». Но легкомысленность<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
312<br />
раздел второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ отчужденная отрицательность<br />
313
подобного обвинения возможна разве что из-за чрезмерной «освобожденности» и безразличной<br />
отстраненности от общественных предпосылок природы эстетического и его<br />
конкретного содержания. Во-первых, логика становления материальных способов производства,<br />
точнее — общественно-экономических формаций, требует доведения до их фундаментального<br />
понимания как способов производства самого человека в его сущностном<br />
«измерении» — как способа «производства» его универсальных способностей. Во-вторых,<br />
становление способов материального производства необходимо имманентна логике<br />
становления теоретических форм (самопознания и самосознания) всеобщего. В третьих,<br />
эта отчужденная логика и содержит в-себе собственное самоотрицание. Западноевропейская<br />
культура остается высшим выражением культуры только потому, что именно она<br />
и только она прошла через все эти «ступени восхождения духа». Именно поэтому все системы<br />
философии могли состояться исключительно в пространстве этого становления,<br />
а «Эстетика безобразного» Розенкранца не только является одной из таких систем, но<br />
и отражает феномен полноты становления безобразного в логике этих способов производства.<br />
Как и аналогии, любой схематизм «хромает». Тем не менее, можно соотнести<br />
тождество аморфности и одновременного становления красоты с античностью, где<br />
«аморфность» представляет собой модус только начатого на собственном основании<br />
становления. Выхолощенная «неточность» как форма познания и теоретического отражения<br />
человека в мире выражена иррационализмом средневековья. А деформация как<br />
иррациональная мистификация основания истории соответствует капиталистическому<br />
промышленному (отчужденно универсальному) способу производства. Этим и объясняется<br />
и логика возникновения концепций эстетики безобразного.<br />
Отчужденная «отрицательность», несубстанциальность эстетики безобразного в неменьшей<br />
степени обусловили факт ее несвоевременной оценки. В самом деле: там, где<br />
фундаментальные вещи проявляют себя в форме негативности, они не воспринимаются<br />
в качестве перспективного предмета познания, а их феномен предстает как нечто одиозное,<br />
из ряда вон выходящее, поскольку отрицательная изнанка восхождения всеобщего<br />
не воспринимается как эмпирическая ступень «линейного ряда» становления. Верность<br />
этого положения можно заметить по тому, что теория безобразного Розенкранца по-своему<br />
повторила судьбу кинической концепции безобразного. Ведь относительно киников<br />
все свелось к неприятию одиозности опустившихся до животного состояния людей. Таким<br />
образом, эстетика киников сводилась не просто к форме субъективного произвола,<br />
но и не была постигнута их современниками в той четкой формулировке, которую позже<br />
выразит А. Ф. Лосев: «Киники и киренаики — деклассированная и задушенная интеллигенция,<br />
которой было, собственно говоря, даже и не до эстетики. А та эстетика, которую<br />
они признавали […] была не только упадочной эстетикой, но и эстетикой трагически погибавшего<br />
полиса периода греческой классики» [32, 118].<br />
Феноменологическая утрата основ в кинической и розенкранцевской эстетике обладает<br />
некоторыми параллелями:<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
314<br />
1) обе суть выраженное эстетическое переживание завершения двух «циклов-мер» исторического<br />
становления. Киники представляют первый — античный цикл, Розенкранц —<br />
последний, буржуазный. По логике закона отрицания отрицания, они обладают внутренними<br />
опосредствованиями и генетической взаимосвязью, которая обусловливается становлением<br />
идеальной меры человеческой чувственности. Но, поскольку универсалии<br />
становления закрепляются в абстрактно-всеобщем идеальном, то чувственное (эстетическое),<br />
в свою очередь, не только закрепляется в статусе частного (в наличном бытии<br />
чувственное всегда индивидуально), а предстает универсальностью в превращенной<br />
(вплоть до откровенных извращений) форме;<br />
2) отличие фундаментального порядка обоих «концов» двух драматических по своему<br />
содержанию кругов предыстории заключается в том, что теория безобразного Розенкранца<br />
не только опосредована предшествующим становлением классической, входящей в полное<br />
определение деформированной негативности безобразного истории, и не только представляет<br />
собой изнаночное лицо этого становления. Она и по логике изложения отображает,<br />
каким образом ступени становления безобразного удерживают каркас отчужденной<br />
логики становления истории. Удерживает его понятийно — Розенкранц как последователь<br />
Гегеля сохраняет и применяет в области эстетики принципы диалектического исследования<br />
и изложения. Они имманентны «восхождению» безобразного к своим абсолютным самоопределениям.<br />
В то же время Розенкранц периодически выходит за пределы объективного<br />
идеализма, выводя предпосылки безобразного из характера общественной жизни: «Мы<br />
пребываем не только в среде зла и страдания, но и безобразного» [9, 32], которое имеет<br />
вполне реальное происхождение в том, что «некоторая эпоха патологически деградирует<br />
материально и нравственно, утрачивает способность постижения простой, но истинной<br />
красоты и хочет вкушать от искусства лишь то, что противоестественно человеческой<br />
природе. Для возбуждения притупленных ощущений здесь апеллируют к грубому, гипертрофированному,<br />
возбуждающему, ко всему отвратительному и извращенному [9, 71].<br />
Нельзя не заметить совпадения во времени розенкранцовской трактовки причин безобразного<br />
с такой же трактовкой К. Маркса: «Частная собственность не умеет превращать грубую<br />
потребность в человеческую. Ее идеализм сводится к фантазии и прихотям, причудам,<br />
и ни один евнух не льстит более низким образом своему повелителю и не старается возбудить<br />
более гнусными средствами его притупившуюся способность к наслаждениям, чтобы<br />
снискать к себе его милость, чем это делает евнух промышленности» [33, 42, 129]. Розенкранц<br />
не углубляется до способа производства как предметно-практического основания<br />
«нечеловеческих, рафинированных, неестественных и надуманных вожделений», но он выходит<br />
на реальные предпосылки притупления человеческих ощущений и чувств, примеры<br />
проявлений которых в его тексте встречаются относительно аристократии, но никогда<br />
не относительно крестьян, — а именно эти два класса затрагиваются в исследовании;<br />
3) и эстетика киников, и эстетика Розенкранца по внутренней напряженности, по невыносимости<br />
переживания человеком его каузально непонятой, но онтологически обураздел<br />
второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ отчужденная отрицательность<br />
315
разного начинается с осознанным отказом средневековья от эллинского и, в целом,<br />
греко-римского идеала красоты. С точки зрения Э. Машека, это был идеал «скорее формальной<br />
красоты с биологическим субстратом, который опирался на ценность нормы,<br />
общности, естественности и здоровья. Скульптура и живопись изображали гармонически<br />
развитое тело, литература — героические, стойкие характеры, а музыка — приятные,<br />
успокаивающие или возбуждающие ритмы и тональности. Любой аспект деградации,<br />
отклонения от нормы, старения или уродства старательно обходился. Особенное, оригинальное,<br />
индивидуальное не занимало античных художников, которые реализовывали<br />
свой талант исключительно в фиксации общего человеческого типа, в некоторой степени<br />
анонимного, лишенного характерных черт. Начиная со Средних веков, место жреческого<br />
искусства прекрасного понемногу заменяется христианским искусством безобразного.<br />
Отрицая значение земной жизни, следовательно, и ее естественные, биологические<br />
характеристики, которые питали античный идеал красоты, христианская мораль рекомендовала<br />
самоотречение, аскетизм, умерщвление тела. Ее идеал красоты уже не идентифицировался<br />
с мощью, здоровьем или бодростью» [34, 11].<br />
Редукция человека к «красоте души» обусловило и то, что искусство отказывается от<br />
поиска созерцаемой красоты, а ищет красоту духовную, которая ассоциируется со страданием,<br />
жертвой, с искаженными болезнью и страданием телами. Средние века порождают<br />
уродство как онтологическое явление гносеологического (точнее — гностического)<br />
происхождения, в то время, как в античности оно представляет собой досадную и осуждаемую<br />
производную онтологии истории. Обосновывая, что безобразное «является<br />
порождением христианства», М. Раля напоминал о доминировании идеи смерти, видений<br />
ада, уродливых фигур абсурдных животных, которые присутствовали в архитектуре каждого<br />
готического собора. Произведения живописи изображали иногда скелет, напоминающий<br />
смертным о тщете жизни. Только эпоха Возрождения представляет собой момент<br />
отхода от мрака безобразного, в силу ее возвращения к классическим принципам природных<br />
оснований красоты и развивающемся стремлении искусства к ее универсальным<br />
возможностям. Но еще перед Возрождением (точнее — в его начале) Данте выводит на<br />
свет белый и осмеивает уродливые персонажи подземного царства. На живописных<br />
холстах иногда еще возвращаются изображения ада и царства мертвых. Особенностью<br />
этих форм безобразного является их временная двойственность как совмещение различных<br />
исторических пространств эстетического в плане соотношения религиозного иррационализма<br />
и реальных предпосылок эскалации отчуждения. Этой двойственностью<br />
будут обусловливаться странность нереальных персонажей в творчестве Шекспира<br />
от персонификации уродства в искусстве начала и последующего Нового времени. Кульминационной<br />
точкой этого генезиса будут «Цветы зла» Бодлера, в которых изысканность,<br />
«совершенная» рафинированность деформации выглядит воспеванием безобразного<br />
и его ставших реальными новых — оживленных — форм смерти чувств. И все же,<br />
думается, Бодлер не воспел безобразное, а описал его бесконечные формы.<br />
словленной и субъективно обреченной самодеструкции, представляют собой переживание<br />
«конца». Различие заключается в том, что для древнегреческого полиса, постигающего<br />
себя и мир только в настоящем времени, это был абсолютный конец. Поэтому эстетика<br />
киников была трагической, с примесью скептицизма и стоицизма. Розенкранцовская<br />
эстетика представляет собой конец предыстории, с которой «человечеству следует весело<br />
попрощаться как со своим прошлым» (Маркс), активно выбирая, по утверждению<br />
Н. А. Бердяева, «между умиранием в старом мире и возрождением в новом». То есть, розенкранцовская<br />
эстетика носит не трагический, а трагико-комический характер. И вполне<br />
закономерно, что завершается она разделом «Карикатура» и самоотрицается «смешным».<br />
Если у киников мы имеем дело с активным утверждением отсутствия красоты, то в<br />
случае безобразного Розенкранца речь идет об апофеозе утверждения безобразного, которое<br />
является логическим и чувственным следствием «отчуждения духа от самого себя».<br />
Логика разворачивания и «сворачивания», концентрации безобразного до своих наивысших<br />
определений (а Розенкранц демонстрирует, каким образом, реализуя все свои<br />
возможности в соответствии с собственной природой, безобразное становится совершенным)<br />
выявляется имманентной логике становления классической истории. И дело<br />
не только в том, что: 1) генезис безобразного показан Розенкранцем в логике видообразования<br />
искусства, которую он перенимает у Гегеля. А видообразование искусства у Гегеля<br />
представлено как генезис форм становления чувственной всеобщности и имеет<br />
своим основанием логику реального разворачивания предметно-чувственной деятельности;<br />
2) логика становления безобразного повторяет, копирует, воспроизводит «каркас»<br />
становления классической истории, первичные чувственные формы которого повторяются<br />
в виде чувственной первичности (без-образного), а идеально-всеобщие формы<br />
повторяются в завершающих формах «совершенного» безобразного. Таким образом,<br />
в логике становления безобразного Розенкранц воспроизводит логику реального становления<br />
от простого, абстрактного, аморфного начала до ложно-опосредствованного<br />
самим собой наличного бытия. У Гегеля завершением становления является «Понятие<br />
всеобщего» как абсолютная истина и абстрактно-совершенная форма идеального. У Розенкранца<br />
завершением становления выступает «совершенное» безобразное как завершенная<br />
деформация и абсолютная ложность эстетического. В конечном итоге, безобразное<br />
предстает аналогом исторической деструкции свободы и, соответственно, — аналогом<br />
деструкции необходимости и красоты.<br />
Следовательно, в концептуальном, теоретически рефлексивном отношении «Эстетика<br />
безобразного» была возможна в конце исторического завершения становления и эволюции<br />
такого феномена как деформированной объективной реальности истории.<br />
Обозначенные моменты концептуального самосознания безобразного важны для понимания<br />
соотнесенности «начала» и «конца» истории в ее отражении в «начале» и «конце»<br />
отчужденного самосознания (или уродливого самосознания отчуждения). Потому как<br />
реальным безобразное становится в эпоху Средневековья. Реальность эстетики безобмария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
316<br />
раздел второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ отчужденная отрицательность<br />
317
Таким образом, отчужденная отрицательность эстетического (уродливого) отличается<br />
от диалектики отрицательности тем, что перввая отражает и исполняет антагонистическую,<br />
разрушительную «функцию» красоты и основания развития. Диалектика<br />
отрицательности в логике разворачивания внутреннего противоречия представляет<br />
собой необходимый момент становления красоты и содержанием такого момента является<br />
его рефлексивность самого себя, гносеологический момент самопознания, двигающегося<br />
не к ложной неточности, а к истинности самосознания. Антагонизм этих двух (внутренних<br />
и внешних) противоречий и преодолевается трансформацией основания во всеобщий<br />
принцип логического, этического и эстетического развития истории.<br />
Примечания<br />
1 Для понимания феноменологических предпосылок такого рода трансформаций, возникающих<br />
в самосознании человека при условии «бифуркаций» его сущностной и экзистенциальной самоидентификации,<br />
отмечу три «пороговые» ситуации, в которые попадает «феноменология духа и чувств»<br />
индивида. В сущностном аспекте Я = Другому Я. Неравность экономических, социальных, политических,<br />
культурных условий общественной идентификации человека обусловливает то, что такое<br />
равенство нарушается на уровне существования, но нерушима в-себе. Общественное неравенство<br />
вносит себя и в формулу Я = Другому Я. Первая ситуация может быть обозначена как Я меньше Я<br />
(самого себя). В таком случае индивид обладает «уменьшенным объемом» самосознания и, соответственно,<br />
регрессивностью собственной меры и своих возможностей, что обусловливает отсутствие<br />
развития через неспособность разрешать противоречия собственного развития, а также психологию<br />
«самуменьшения». Кажимая самокритичность такой ситуации заключается в том, что она предстает<br />
оправданием пассивности, приспособлением к обстоятельствам и нигилизмом устремлений. В психологическом<br />
аспекте это личностная ситуация может впасть в транс «самокопания» по примеру<br />
достоевских персонажей или претендовать на симулированную уникальность. В аспекте эстетики<br />
безобразного она идентифицируется со слабостью, ведущей за собой суживание границ и самоограничение<br />
ими в деятельной, мыслительной и эстетической способности. Вторая ситуация характеризуется<br />
отношением Я меньше Другого Я и может сопровождаться особой формой самоуменьшения<br />
относительно другого, конституируясь, как правило, в состоянии комплекса неполноценности. В аспекте<br />
эстетики безобразного — это ситуация, порождающая феноменологические предпосылки<br />
смещения личностного смысла творчества, границы которого вырождаются в плагиат, в копирование<br />
другого и скрытой зависимости от саморазвития другого. Третья ситуация определяется отношением<br />
Я больше Другого Я. И снова речь идет не о самосознании преимущества отдельной личности перед<br />
другой, а о гипертрофии собственного Я. Психологически — это ситуация «мания величия»,<br />
в социокультурном отношении — это ситуация оправдания насилия, деспотического нарушения свободы<br />
другого. В аспекте эстетики безобразного — это ситуация грубости как деформированной<br />
предпосылки превращения насилия в ложную форму свободы. В онтологическом разломе целостности<br />
человека и эстетического все эти ситуации легко взаимотрансформируются.<br />
2 Писать о таких явлениях — значит дать повод, чтоб тебя закидали камнями. Они относятся<br />
к <strong>проблем</strong>ам философии, которые другим — простым — языком не выговариваются. По поводу<br />
иллюзии возможной доступности изложения таких <strong>проблем</strong> Э. Чоран восклицал: «неужели я написал<br />
так плохо, что всем сразу стало все ясно?» В стремлении к упрощениям, философия ХХ столетия<br />
породила бесконечность собственных профанных форм. Безусловно, легче создать тепличные условия,<br />
в которых освоение нескольких букв философского алфавита ограниченного лексикона «философскоподобных<br />
истин» легко объявляется гениальностью. Бедная, многострадальная философия!<br />
Никто больше не измывался над ней, чем ее недоучившиеся «дети». И как же жестоко эти «дети»<br />
мстят ей за ее доступную недоступность! Но затаскать философию можно до бесконечности. Причем<br />
совершенно безнаказанно: в ее всеобщем пространстве находится место и для «нудизма», и для<br />
«стриптиза», и для «эксгибиционизма», и для откровенной дискредитации, и для небескорыстной<br />
профанации. Беда в том, что искреннее отождествление себя с философскими истинами сопровождается<br />
отождествлением таких истин с самим собой. И здесь-то больное самолюбие больного самосознания<br />
становится не только опасным, но и крайне агрессивным.<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
318
СВЕТ И ТЕНЬ<br />
В ЛОГИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ<br />
КОЛЛИЗИЯХ РЕВОЛЮЦИИ ОСНОВАНИЯ<br />
Так двигалось Старое, наряженное под Новое, но в своем триумфальном<br />
шествии оно влекло и Новое за собой, но это Новое было представлено<br />
как Старое… Новое шло в оковах и в отрепье, которое все-таки не могло<br />
скрыть цветущую плоть.<br />
Бертольд БРЕХТ. Парад Старого Нового<br />
Какой темный, оплошный путь мыслим отсюда к пропасти, к внутреннему<br />
позору, которому уже не противишься, к гибели в самозабвении?<br />
Только тот, по которому впереди идет красота! Но она всегда, на добрых<br />
и на скверных путях, идет впереди художника. Только через нее приходит<br />
чувственное к духовности и к своему благородству. А в час усталости,<br />
ослабевающей самозащиты и, может быть, страха стареющего<br />
человека перед жизнью, она, красота, может потянуть его в беспредельность,<br />
может превратить культ формы в опьянение и вожделение, а озадачивающее<br />
ощущение — в преступную разнузданность чувства; именно<br />
поэтому он уже «во власти смерти».<br />
Томас МАНН. Смерть в Венеции<br />
Отличие основания всеобщего от всеобщего основания<br />
принципиально — речь идет об отсутствии практической достоверности<br />
первого, компенсирующая себя абстрактным конституированием<br />
в теоретическом самосознании, и наличии непосредственной<br />
действительности второго, компенсирующей себя силой<br />
реального движения, но испытывающей трагический недостаток<br />
глубины теоретического самосознания. Именно в связи с последним<br />
противоречием Б.Брехт говорил об оставшихся в прошлом<br />
трудностях «преодоления гор» и о наступающих трудностях<br />
«движения по равнине».<br />
В логическом аспекте всеобщее основание феноменально тем,<br />
что его опосредствование самим собой носит непосредственный<br />
характер. Иными словами, опосредствование вырывается здесь<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
320<br />
из границ «древа чистого познания» и находит критерий своей истинности в непосредственном<br />
движении самодвижения основания. Но здесь и опасность утверждения в виде<br />
всеобщей истины профанного, ибо обнаружение основания создает видимость его доступности.<br />
В художественном аспекте отражение всеобщего основания сочетает в себе<br />
величие высокой истины и профанной «правды», облекающиеся друг в друга вынужденно<br />
(первая) и по «нужности» (вторая). Протест первой выдаст себя за непосредственную<br />
свободу (и это один из самых существенных содержательных моментов и принципиальных<br />
причин «авангардных» течений в искусстве, со временем отрывающиеся полностью<br />
от объективного основания свободы), «долженствование» второй опредмечивается<br />
в «массовой» доступности пониманию «свободы как осознанной необходимости», так<br />
и не вырывающейся из «онтологии предпосылок». И первая, и вторая обнаруживают коллизии<br />
основания как коллизии эстетики истории, взрывающейся самим основанием<br />
и врывающейся в его адекватное воспроизведение-доразвитие.<br />
Интересна в этом аспекте концепция эстетического пространства революции, представленная<br />
на примере эстетики французской революции Жаном Старобинским 1 в монографии<br />
«1789. Символы разума» [66]. Через <strong>проблем</strong>у возможности адекватного понимания<br />
эстетического пространства феноменологии французской революции им выводится<br />
особенность характера такой эстетики и способ ее трансформируемого отображения<br />
в искусстве. Как автор писал в работе «Порождение свободы», противоречивость такого<br />
рода отображения обусловливается тем, что противопоставление стиля революционного<br />
события и стиля произведений, которые возникают во время таких событий, является<br />
не только правомерным, но и необходимым, поскольку искусство и реальные процессы<br />
взаимоопосредствуются даже тогда, когда, вместо того, чтобы взаимоутверждаться, они<br />
взаимоотрицаются.<br />
Достижение целостности восприятия и понимания «разрыва времени» (как автор<br />
называет революцию) на уровне тождественности того, что осознается, и того, что переживается<br />
в момент разрыва постепенности истории 2 возможно, за Старобинским, через<br />
«мнимое чтение исторического момента». Вследствие эстетической дилеммности французской<br />
революции чтение подобного рода обосновывается через реальное содержание<br />
двух символов — света и тени. Отсюда логическая последовательность и содержательное<br />
противопоставление очерков: «Последние лучи Венеции» и «Ноктюрн Моцарта» как художественные<br />
отображения предпосылок революции; «Солнечный миф Революции»,<br />
а также «Примирение с тенью» и «Гойя» с искаженными обидами первого пост-революционного<br />
времени, которое, в силу сохранения фундаментальных противоречий предыдущего<br />
периода, не мог не породить эти чудовища; и, наконец, «Свет и сила» как момент<br />
наивысшей персонализации антиномий последнего этапа революции и ее «пост-» времени<br />
(как они были отображены в творчестве Моцарта). Между этими же двумя аспектами<br />
соотношения света и тени — трагическая смесь диалектики и метафизики «Принципов<br />
и свободы», «Геометрической крепости» со всеми признаками нравственной воли в «Разраздел<br />
второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ свет и тень<br />
321
говаривающей вечными словами архитектуре», в «Клятве Давида» и в своеобразной<br />
параллельности «Рима и классицизма».<br />
Последние лучи Венеции, которые рассматриваются на примере художников Франческо<br />
Гварди, Дж.-Б. Тьеполо, Джакомо, Джованни оказываются выражениями утраты глубины<br />
исторического времени в пространстве предшествующей меры истории: «У него<br />
(Жандоменика. — М. Ш.) глубина горизонта уже не заключает в себе стремление к величию.<br />
Вечность исчезла. Остались рваные тучи, небо, просевающее космическими ветрами,<br />
лесной пейзаж, в который капризная природа вбрасывала космические тела, враждебные<br />
минералы, изуродованные деревья, бесплодное желание и бесконечный абсурд животной<br />
комедии […] Эта природа не может быть убежищем для чувствительных душ. Напротив,<br />
она переполнена дикими, карикатурными чудовищами» [66, 30]. Доводя эту <strong>проблем</strong>у<br />
до непосредственной индивидуализации особенности этого периода, Старобински утверждает:<br />
«В лучах Джованни люди 1787 года лучше могли бы узнать последнее, высшее<br />
мгновение самого сложного из происходящих моментов бытия; из собственного опыта<br />
они знали, что в бесконечном стремлении к наслаждениям, желания движутся к самоуничтожению,<br />
стремятся найти отдых и успокоиться в собственной смерти, в своей, вызванной<br />
временем, усталости. В этом моменте рассеянной свободы, под видом блеска собственного<br />
наслаждения и света, вырисовывается черный фон» [66, 37–38]. Последующее<br />
содержание противоречия будет выражено уже в творчестве Моцарта, возникнув второй<br />
формой кажимости разрешения предыдущего явления: «В мифе о Дон Жуане барочный<br />
стиль существования предстает в наивысшем преувеличении и, в то же время, попадает<br />
под радикальное осуждение. В канун кризиса, в котором должно было исчезнуть барокко<br />
(и его спутник — рококо) абсолютно необходимо было, чтобы такое осуждение возобновилось,<br />
а виноватое сознание (хотя бы в воображении) наказало себя, осудив на смерть<br />
Дон Жуана» [66, 37].<br />
Солнечный миф революции находил себя в идее «непостоянства теней: достаточно было<br />
проявиться Уму, который утверждал себя свободой, и темнота исчезала» [66, 120].<br />
В мифе Солнца свет не представлен статическим идеалом — с ним происходят определенные<br />
трансформации, а именно такие, когда «метафорами света, побеждающего сумрак,<br />
жизни, возрождающейся из смерти, общество предстает возвращением к собственным<br />
началам — образы, которые повсевместно встречаются в канун 1789 года» [66, 40]. В то<br />
же время, идеал появляется в его возможной гармоничности идеального и вещественного,<br />
разум становится чувством, чувство превращается в разум, оба предстают непосредственным<br />
основанием нравственной воли. Причем таким образом, что такая тождественность<br />
не воспринимается как утопическая: «Когда тождественность разума и чувства<br />
принимает силу излучающего закона, любое отношение господства и подчинения, если<br />
оно не базируется на данном законе, обреченно быть только темнотой» [66, 40].<br />
В аспекте же символизации логики времени такие трансформации принимают характер<br />
взаимопересечения и одновременного взаимоисключения социальных противоречий:<br />
«Знаки инвертируются […] Именно потому, что находится в непроясненном импульсе<br />
обнищания, бедный человек парадоксальным образом идентифицирует сверкающее<br />
существование аристократии с темнотой грозовой тучи. С этого момента можно заметить<br />
странную конвергенцию: движение наслаждающегося человека к собственной гибели<br />
пересекается со страстью голодного народа, который переходит к захвату аристократических<br />
цитаделей. В столкновении этих двух сил пульсирует горячее сердце революции<br />
и «подходит» ее плодовитый хаос […] Так темная сила бедности, голода и нищеты предстает<br />
распространенной тенью изысканных наслаждений привилегированных слоев» [66, 43].<br />
Из противопоставления двух социальных форм чувственного отображения исторических<br />
коллизий Жан Старобински выводит вещественный, практически-исторический<br />
характер эстетики. В своих эстетических исследованиях он опирается на принцип<br />
«тотальной критики», содержание которого заключается в выведении форм искусства<br />
из социальной реальности и тех противоречий, которые развязываются в моменте их<br />
крайнего обострения. В этом отношении рефлексии Старобинского особенно значимы<br />
тем, что он не просто обнаруживает внутреннюю связь красок, тональностей и модусов<br />
искусства, а возвращает эстетику в пространство непосредственного — в пространство<br />
человеческих чувств. Поэтому его, в положительном смысле свойственный эстетическим<br />
рефлексиям герменевтический принцип подхода к исторической реальности правомерен,<br />
ибо историческая реальность порождает эту смесь чувств (последние действительно<br />
не имеют «чистого» понятийного определения) и про-должается, вырастает, перерастает<br />
и воспроизводится в принципе феноменологии революции. В случае же развертывания<br />
революционного процесса феноменологический принцип опирается уже не на абстрактную<br />
логику становления сознания, а на эмпирическую, крайне напряженную логику<br />
«практики» чувств. Чувств, формирующиеся в этой же практике и выражающие во времена<br />
революций фундаментальную непосредственность общественных отношений, которую<br />
нельзя созерцать во время «тихой эволюции» той или другой меры истории. При этом<br />
следует заметить чрезвычайную сложность теоретического исследования такого феномена,<br />
ведь революция вообще, французская прежде всего, не только своеобразно определяет<br />
эстетику, чувственную непосредственность и несокрытость общественных противоречий.<br />
Будучи «разорванным временем», она появляется не просто как «предел в жизни<br />
стилей на уровне искусства», ведь «искусство, несомненно, более способно выражать<br />
состояние общества, чем моменты резкого разрыва […] революции не порождают мгновенно<br />
художественный язык, который выражает новый политический порядок. После<br />
этого еще длительное время используются старые формы, даже тогда, когда объявляется<br />
падение старого мира» [66, 20].<br />
В «разрыве» времени, который не может не породить «разрыв» абстрактно-идеальных<br />
(теоретических и эстетических) форм отражения реальности, важной <strong>проблем</strong>ой теории<br />
эстетики предстает осознание закономерностей «покидания» искусством собственного<br />
пространства «статического времени» и «возвращения» чувственного в пространство<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
322<br />
раздел второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ свет и тень<br />
323
самодвижения времени непосредственного. Именно поэтому <strong>проблем</strong>а эстетики революции<br />
предстает <strong>проблем</strong>ой «свертывания» изолированных опосредствованных форм (причем<br />
не только искусства, но и любых форм отображения действительности) в практикуотношение<br />
индивида (общества) и непосредственной истории. Того индивида, который<br />
в «статические периоды» может не покидать абстрактную тождественность с самим<br />
собой и не осознавать себя эстетической мерой истории как таковой. Тем более — в качестве<br />
ее субъекта. В эстетически чувственном измерении, это практика, которая входит<br />
в полное «определение» предмета чувств в той мере, в какой революция — «это страница,<br />
которая пишется рукой Бога, или народа» [66, 23]. Поскольку же непосредственное<br />
определяет себя непосредственным отношением, то есть, деятельным чувством, оно<br />
не может обладать статической художественной формой. «Неочищенная» форма бытия<br />
последних не может себя лишить «эклектической хаотичности, в которой теряются<br />
социальные прослойки, в которых перемешиваются печаль, наслаждение, иллюзия преходящности,<br />
заблуждение и прощение. Под дубами большого сада, вдохновленное продолжение<br />
безумного дня находит порядок обстоятельств и чувств только как дублирование<br />
неупорядоченности и заблуждения. На мгновение была достигнута тождественность хаоса<br />
и мечты, как это было отображено в “Женитьбе Фигаро” Моцарта (1786 год)» [66, 35].<br />
Из определения подобных контрастов вырисовывается иная реальность явлений чувственного,<br />
ведь такие исторические переходные формы как революции обнаруживают<br />
настоящее содержание общественных чувств. Последние же, будучи опредмечены в формах<br />
искусства периода «ставших» времен, не воспринимаются как подлинное основание<br />
(или чувственный источник) исторического развития, абстрагируясь в персонифицированную<br />
«форму» художника. Определим этот, сопровождающий революции момент<br />
эстетического тождества мышления (идей, принципов) и бытия (чувств) в личности<br />
художника, антиномическая разорванность которых в «обычном» человеке была атрибутивным<br />
следствием исторического общественного разделения труда (в форме неразумного<br />
чувственного и бесчувственного разума) как такую необходимость, когда «спекулятивная<br />
рациональность не должна оставаться изолированной в пространстве идей, а должна<br />
дублироваться интенсивной энергией страсти» [66, 47]. Отсюда яркость творчества Руссо<br />
как «плодовитое единство силы рефлексии и теплого стремления страсти», — отмечает<br />
автор. Но отметим и мы, что в возвращении принципов к страсти отражается возвращение<br />
«снятого» в художнике индивида к собственной чувственной достоверности. Хотя<br />
это возвращение еще ограниченное.<br />
Но пока еще не идет речь о восхождении чувственной достоверности (в значении силы<br />
революции основания) к принципам, к их гносеологическому, атрибутивно-субстанциальному<br />
содержанию. Как покажет история, несмотря на стихийность, онтологическую<br />
детерминированость, нерафинированность и метафизичность, именно эта сторона окажется<br />
наиболее интересной. И дело заключается не в том, чтобы осознать «недостатки»<br />
неразвитой эстетики с целью их «будущего преодоления» Дело в том, что как эстетика<br />
богатства, так и эстетика нищеты и бедности, выступают двумя крайними формами<br />
отчуждения духа и чувств, с их укорененностью в политическую экономию. Безусловно,<br />
революции провоцируются не отвращением к гнусности исторического бытия. Они начинаются<br />
с крайнего недостатка в самом простом и самом унизительном при своем отсутствии<br />
— хлеба. Но на уровне экономических диссонансов такое противоречие имеет свою<br />
четкую эстетику. Старобински определяет ее таким образом: «Нельзя передать удивление<br />
нации, и даже ее возмущение, когда она узнала, насколько большим был недостаток<br />
(государственного бюджета. — М. Ш.): несчастья Франции чувствовались, но еще не были<br />
посчитаны». Эту ситуацию достаточно афористично выразил Бомарше: «Была потребность<br />
в счетоводе, но его заменили танцовщики» [66, 25]. Последствия дали себя знать<br />
не только на уровне внешнего восприятия господствующего класса по его одежде: «в эту<br />
весну абсолютного обнищания поражающий вид одежды господствующего класса и духовенства<br />
вызывали возмущение народа: эти лишенные индивидуального блеска носители<br />
привилегий, эти “большие неизвестные” будто узурпируют все, чем себя украшают»<br />
[66, 26]. И дальше: «люди, которые ни разу не выходили за пределы своих провинций,<br />
и которые только вчера наблюдали обнищание собственных городов и сел, созерцали свидетельства<br />
ужасного мотовства Людовика ХІV и Людовика XV, новый дворец как результат<br />
погони за наслаждениями. Этот дворец, говорилось им, стоил двести миллионов;<br />
замечательный дворец в Сен-Клу — двенадцать; […] А они отвечали: это великолепие сотворено<br />
потом народа» [66, 26–27].<br />
Вместе с тем, смысл и содержание революций сводится к осознанному процессу<br />
изменения основ исторического развития, а такой процесс нуждается в осознании определенных<br />
важных структур, которые следует создать, как и принципов этих структур.<br />
Поэтому, ключевые очерки исследования Старобинского, которые призваны отобразить<br />
дореволюционную антиномичность света и тени и постреволюционную метафизику их<br />
уродливых трансформаций, посвящены сугубо «схематическим» обнаружениям превращения<br />
идеального в реальное. Отсюда постановка вопроса о «Принципах и воле», о так<br />
называемой «Геометрической крепости», об архитектонизации слова в его практической<br />
императивности: «Разговаривающая архитектура, увековеченнные слова», вплоть<br />
до клятвы Давида. Чем обусловливаются такие, на первый взгляд, абстракции? С одной<br />
стороны, смена основания, всегда сопровождающаяся разрушением своей предшествующей<br />
формы и снятия всех предшествующих степеней эволюции собственного содержания,<br />
обнажает основание будущих форм в содержании своего начального «ничто»: «Первый<br />
акт свободы очищает место, открывает безграничное пространство возможного.<br />
Но кто может остановиться в этом наивысшем моменте, когда тень возвращает назад<br />
и когда свет будущего принимает любые образы, потому что не обладает ни одним<br />
образом? Пространство, которое открывается, должно быть населено, должна быть<br />
названной реальность, которая займет место центра этого пространства, должна быть<br />
признанной или созданной сила, которая будет руководить им самостоятельно. Факт, что<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
324<br />
раздел второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ свет и тень<br />
325
господство тени осуществило себя таким образом, имеет значение лишь в аспекте возможности<br />
начинать, а не касательно природы того, что начинается. Единственное, что<br />
здесь можно чувствовать, это то, что пространство является свободным для некоторых<br />
универсальных принципов […] Ничто, в которое опускается распущенная страсть, должно<br />
породить непобедимое мужество» [66, 46].<br />
Тем самым, на уровне чувств эстетика революции переходит в эстетику волеизъявления<br />
(в эстетику практических принципов), а в аспекте схематизма — в поиск абсолютной<br />
формы, обусловленная как демонически-долженствующая абстрактная форма. Геометрическая<br />
форма эстетической саморефлексии революции предопределяется тем, что<br />
на первом этапе, — автор определяет его рубеж смертью Робеспьера — «революция отображается<br />
в символическом языке, из которого была построена ее легенда и в которой<br />
конкретные исследования пытаются сегодня найти игру “реальных форм”» [66, 49]. Абсолютная<br />
форма исследуется в аспекте ее геометричности — предельной субстанциальной<br />
абстрактности. Высшей же формой такого отображения фундаментальных противоречий<br />
— формой, заключающей в себе все формы, — есть сфера. Но ее содержание принципиально<br />
изменяется: «Сферическая форма не является уже, как во времена Возрождения,<br />
символом замкнутого универсума. Пространство “Небесной механики” Лапласа не имеет<br />
пределов. Образ сферы является адекватным лишь для солнечной системы. Вскоре, с победной<br />
свободой новой эры, этот образ найдет свое воплощение в пространстве индивидуальной<br />
психологии: волевое существо — это концентрированное существо» [66, 175].<br />
В этой абсолютной форме с ее персонализированным содержанием универсума истории<br />
происходит превращение всего физического мира в принцип личного волеизъявления:<br />
«Свет звучал, мелодия создавала свет, цвета двигались, поскольку были живыми, а предметы<br />
были одновременно и звучащими, и достаточно мобильными, чтобы взаимопроникаться<br />
и на одном дыхании пронизать пространство целиком. Из середины этого прекрасного<br />
зрелища излучалась человеческая душа, которая, подобно солнцу, которое поднимается<br />
с середины волн, возвышалась» [66, 177].<br />
Каким образом обосновывается связь эстетики и принципов? Как происходит восхождение<br />
принципов в реальность? «Дискурс разума, который являет себя в добровольной<br />
страсти, ищет в мире точку совпадения. Большие революционные моменты являют собой<br />
эпизоды таких воплощений: дальше уже можно будет (понимать) рациональный дискурс<br />
только вместе с тем, что его объединяет с давлением страсти людей дела и акцидентальным<br />
противостояниям всего мира. Это представляет собой замаскированное и удаленное<br />
от собственного проекта сознание, но в то же время это и возвышенная до уровня символа<br />
материальность» [66, 49]. Но с точки зрения автора, восходить в реальность для разума<br />
значит упасть в повседневность. Революция обязана своим успехом, ритмом, катастрофической<br />
ускоренностью непредвиденным сочетаниям света (если хотите, просветленному<br />
реформизму) темному насилию разгневанного большинства. Это история мышления,<br />
которое во время перехода к действию попадает под сильное влияние других, и преодолемария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
326<br />
вается насилием, которого оно не предусматривало и смысл которого оно будет пытаться<br />
понять и управлять его действиями в авторитарном языке прокламаций и декретов. […]<br />
Геометрические трансформации, принципы, которые были объявлены спекулятивной<br />
рациональностью, не находят здесь для себя свободного пространства; насилие же,<br />
напротив, возникнув из тотальной бедности и векового порабощения, не мог выражать<br />
себя иначе как элементарной формой разрушения. Революционный акт является синтезом<br />
этих противоположных явлений: он символизирует превращение принципов в действие<br />
именно через движение, которое с огромным напряжением поднимает до уровня<br />
вещания (до недавних пор еще немое) насилие. Теоретическое вещание, вещание принципов<br />
должно будет заключать компромиссы с выражениями тени и страсти, страха и гнева,<br />
— с насилием простых потребностей, которые тревожат грубые массы [66, 50]. «В самое<br />
ближайшее время оно станет развращенной «волей»: вместо того, чтобы работать<br />
на единство, она разъединяется, поддерживает разрыв. Рождающийся из отступления тени<br />
революционный свет должен противостоять возможному ее возвращению, возвращению<br />
вероятному, в силу противоречивости его (света) внутренней природы» [66, 51].<br />
Моральные регрессии, которые тесно переплелись с эстетикой революции этого периода<br />
истории, полностью отвечали ее характеру и были совершенно закономерными. Автор<br />
цитирует тексты декретов Директории, где фиксировался определенный феномен:<br />
«Во всех формах борьбы, которые происходят через насилие, интересы спешат занять место<br />
пламенных стремлений, так же как вороны сопровождают армии, которые готовятся<br />
к битве […]. Патриотизм стал повседневным прощением для всех преступлений. Большие<br />
жертвы и действия, принесенные на алтарь победы […] послужили поводом для бесконечного<br />
развертывания эгоистичных страстей» [66, 53]. В произведениях Ф. Гойи Разум<br />
встречает диаметрально противоположное себе: он знает, что его связывает с этими монстрами,<br />
поскольку они рождаются именно в его напряжении, точнее, в его отказе напрягаться.<br />
«Объявление темноты обусловливает появление дьявольских существ […]. В этой<br />
гибридизации у Гойи цвета жизни перемешиваются с тенями зла» [66, 121]. Эстетика же<br />
последнего выражает себя «застывшей агрессивностью, переполненной ненависти реальностью»<br />
[66, 117], «существами, омраченными меланхолией», «и весь абсурд имеет затемненное<br />
лицо с его сущностной нестабильностью, с возможностью беспорядка […], как<br />
возвращение в Хаос»: и все — через спектр идеи черного фона всего, что появляется в мире<br />
чувственной жизни. Таким образом, возвращение тени — того, что раньше казалось<br />
источником мира, предстает победой полной темноты и превращается в «трагедию бесполезного<br />
желания, абсолютной несостоятельности» [66, 123].<br />
В произведениях Моцарта автор видит новую ступень к осознанию единства рационального<br />
и чувственного, а именно сочетание познания и счастья. «Скоро земля будет<br />
небесным царством» — основной мотив «Волшебной флейты». Причем подобное соединение<br />
предстает персонализацией основания истории, когда познание предстает трансформацией<br />
неустановившейся общественной свободы в свободе личности, как представраздел<br />
второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ свет и тень<br />
327
ленная индивидуально сверхиндивидуальная сила. Но в то же время, она не тождественна<br />
индивиду, ее осуществляющего. «Осознание света гневается опосредствованным действием<br />
этой силы в форме, которую такая сила приобретает у абсолютных монархов.<br />
В свою очередь, такое мышление понимает превращение силы определенного «надперсонального»<br />
принципа (природы, разума, общей воли, народа и т. п.). Всеобщий восторг<br />
сверх-персональными идеями составляет определение революции, но в таком случае возникает<br />
<strong>проблем</strong>а того (или тех), кто будет претендовать на статус квалифицированных<br />
интерпретаторов универсального принципа» [66, 130] Так противопоставление света<br />
и тени принимает здесь новый смысл: «около 1789 года неисчислимое количество художественных<br />
произведений характеризуются попыткой противопоставления образа победного<br />
света побежденной темноте, но очевидно, что у больших художников тень не только<br />
не поддается полному изгнанию — в той или другой форме, она продолжает свой натиск<br />
[…]. К данному закону возвращения тени апеллирует Гете» [66, 144]. А основная <strong>проблем</strong>а,<br />
которая разворачивается в этом фрагменте, — вопрос о том, может ли гений быть жителем<br />
этой земли? Может ли разумный сохранить свою силу?» [66, 145].<br />
Это надеющееся сомнение отражается и в скульптуре. Старобински констатирует его<br />
на примере произведений Кановы. Причем в аспекте «отсутствующих богов» и такого<br />
«примирения с тенью», когда темень трактуется как универсальный источник, когда, следуя<br />
Гёте, «свет предстает производным источником, а борьба этих противоположных элементов<br />
порождает красоту мира. В этом космическом столкновении человек — не ставка<br />
или свидетель действия, разворачивающегося вне него. Он является пространством некоторой<br />
встречи, но и носителем некоторого преодоления. Он обладает собственной внутренней<br />
темнотой, в то время как в его глазах присутствует свет, родственный свету солнечному.<br />
А когда человек бросает взгляд на мир, когда созерцает и постигает его, более того,<br />
когда создает новое творение, присваивая созерцаемому объекту закон стиля, в лоне природы<br />
он становится творцом второй природы, в которой в итоге увековечивается равновесие,<br />
осужденное на вечность» [66, 110]. В феноменологическом контексте основания «неоклассическое<br />
искусство перевело и трансформировало страсть начала в ностальгию нового<br />
начала. Для этих художников свет начала мог сверкать в настоящем времени только при<br />
условии преломления некоторого абсолютного источника, расположенного в прошлом.<br />
Произведение создается в отдаленности от своих источников и с осознанием такой отдаленности.<br />
Если в нем пребывает свет, то теплота отсутствует — искусство замерзает.<br />
Несомненно, в самом лучшем случае, память об античных или возрожденческих моделей<br />
стала созидательной силой, способной посредством чистой кривой очертить волнующее<br />
равновесие некоторого присутствия и некоторого отсутствия. Это многоморфное понятие<br />
идеала, предстающего в то же самое время очищенной природой, законом мышления,<br />
античным каноном, заставляет художника усомниться в том, что он видит: красота раскрывается<br />
только вторичному взгляду, в конце некоторого обхода, который на протяжении<br />
времени вернется в царство чистых моделей или архетипов» [66, 111].<br />
То, что неоклассицизм «замораживает» основание в художественных образах света<br />
и тени при их примирении «в тени» обусловлено тем, что в новом — просветительском<br />
содержании и значении французской революции — основание, все же, не освобождает<br />
себя из плена становления и тем остается несвободным, заново уходит в свою темноту.<br />
На время. Поэтому персонализация коллизии света и тени в конце революций, которые<br />
изменяют лишь форму антиномичности классической истории, не может не превратиться<br />
в антиномичность свободы и чувств провозглашенной Просвещением личности универсального<br />
типа. И закономерно, что именно французская революция породила известные<br />
споры в пределах философии, о действительном источнике исторического развития —<br />
чувство или разум? В действительности, подобная дилемма является дилеммой высшего<br />
порядка. Умной наивностью теории эстетического, как и философией разума она рассказывала<br />
о том, что основание расщепленной чувственности и расщепленного разума<br />
сохранялось. Отсюда эстетика Канта со странным на первый взгляд названием: «Критика<br />
способности суждения». Но не начинается ли преодоление такого расщепления в пределах<br />
отчужденного бытия из красоты категорического нравственного императива?<br />
Не предстает ли в таком случае пространство нравственной воли снятым противоречием<br />
философии эстетики и эстетики философии?<br />
Примечания<br />
1 Жан Старобински (р. 1920) — женевский исследователь, автор таких произведений как «Живой<br />
глаз» (1961), «Порождение свободы» (1964), «Литература: Текст и интерпретатор» (1967), «Критическое<br />
отношение» (1970), в которых утвердил себя как критик искусства и исследователь истории<br />
идей. Его сочинение «1789: Символы разума» состоит из серии очерков, которые <strong>проблем</strong>но-логическим<br />
образом отражают и положены в основание чувственно-идеальных противоречий французской<br />
революции 1789 года.<br />
2 В эстетическом отношении речь идет не просто о тождестве мышления и бытия в момент смены<br />
основания, но и о возможности отображения единства истории именно во время его нарушения.<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
328
ВЕЛИЧЕСТВЕННОЕ И НИЧТОЖНОЕ<br />
ВО ВСЕОБЩЕМ ОСНОВАНИИ<br />
К вопросу об эстетике истории<br />
Увижу я, как будет погибать<br />
Вселенная — моя Отчизна,<br />
Я буду одиноко ликовать<br />
Над бытия ужасной тризной.<br />
Пусть одинок, но радостен мой век<br />
В уничтожении влюбленный,<br />
Да, я как ни один великий человек<br />
Свидетель гибели Вселенной.<br />
Александр БЛОК<br />
…Погибнет дуб, хоть он сильнее стебля,<br />
Меж тем тростник, безвольно стан колебля<br />
Под бурями лишь склонится слегка.<br />
Но что за счастье жребий тростника?<br />
Он должен стать лишь тростью франта жалкой,<br />
Иль в гардеробе выбивальной палкой.<br />
Генрих ГЕЙНЕ. Фривольные сонеты<br />
Особенностью непосредственной всеобщности (монизма) основания<br />
является переход эстетического в пространство совпадения<br />
основания истории и непосредственно исторических чувств —<br />
история раскрывается как эстетика непосредственности общественной<br />
природы отношения. Обнажение основания мира в кажимой<br />
«простоте», «очевидности», «понятности», «само-собой-разумеющейсти»<br />
в плавучести «исторических пластов» и движении<br />
исторических масс провоцирует непосредственную поэтику истории,<br />
сохранение в невыносимом — великом и ничтожном — единстве<br />
ее жертвенных безоглядных порывов и не менее мощных низменностей.<br />
Это судорожное сочетание несочетаемого вносит<br />
собой не только особенное совпадение разных алгоритмов исторического<br />
времени (когда мгновениями буквально слышится<br />
не только набат времени первых, но и его насмешливое шуршание<br />
вторых, когда время бьется в нервном напряжении жизни, застревающей в горле и спирающей<br />
дыхание, но и уютно заключает себя в спокойствии «смертельной тишины уюта»<br />
/Ф. Мюрэ/), но и взаимоистребление и взаимопожирание пространств истории, перевоплощенных<br />
в ее эстетические формы-пространства. Обнаружение и обнажение фундаментального<br />
основания истории раскроет себя и как ключевое испытание человечества на<br />
способность быть и право называться таковым.<br />
Непосредственная соотнесенность человека с основанием как начала его исторической<br />
субъектности определяется феномен, когда страсть распространяется на историческое<br />
действие 1 . Основание раскрывается здесь как напряженный смыслообразующий<br />
принцип жизнедеятельности. Но с его «взрывом» — вырыванием из «темноты становления»<br />
(в равной степени отмеченном стихийностью и осознанностью общественного порыва)<br />
на поверхность истории в драматическом равноденствии вырывается величие цели<br />
и осадок «темного дна» (Фейербах) предыстории. Поэтому в «начале этого обнаружения»<br />
особенным образом сочетаются низменные следствия былой деформации и аморфность<br />
нового качества основания, закрепляющегося и удерживающегося величием идеи<br />
и ее персонификации. Это внешнее соотношение следствий старой — искаженной меры<br />
основания и самодетерминирующейся причины его нового качества переносит себя во<br />
внутреннее пространство-время его собственного становления. Этим сочетанием актуализируется<br />
возможность безобразного в его противостоянии великому.<br />
Напомню, что, противопоставляя содержательно категории эстетики прекрасного<br />
и эстетики безобразного, Розенкранц соотносит их с разными, положительными или отрицательными<br />
степенями осуществления или отрицания свободы. «Можно было бы также<br />
обойти некоторые недоразумения относительно понятия величественного, если бы<br />
его разные ипостаси не упускались из виду и часто не идентифицировались с общепринятым<br />
пониманием, потому что величие, прежде всего, является такой формой проявления<br />
прекрасного, которая реализует отрицание свободы через аннулирование ее границ реальным<br />
или идеальным способом до такого предела, что ее бесконечность становится для<br />
нас объектом — величавостью; в то же время оно является и той ипостасью прекрасного,<br />
которая представляет бесконечность свободы в силе созидания или разрушения; и, в конце<br />
концов, силой, которая достигает спокойствия и равновесия в мере творчества или разрушения<br />
— возвышенное. В величавости свобода восходит до преодоления своих границ;<br />
в могуществе она положительно или отрицательно развивает силу своей сущности; в возвышенном<br />
она проявляется одновременно и как величественное, и как сильное. Из этого<br />
следует, что в качестве отрицания величественного, ординарное выступает такой формой<br />
безобразного, которая подчиняет бытие его естественным границам — низменное;<br />
2) формой, которая мешает бытию достигнут степень силы, необходимой в соответствии<br />
с ее сущностью — слабость, бессилие. 3) формой, которая соединяет ограниченность<br />
и слабость с подчинением свободы несвободе — ничтожное. Таким образом, в аспекте<br />
соотношения возвышенного и ординарного названные выше понятия предстают равными<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
330<br />
раздел второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ величественное и ничтожное<br />
331
лектических, так и по типу превращенных форм, данность основания в обоих случаях<br />
присваивается как господство «материи» истории в форме чувственного. Здесь «энтелехия»<br />
основания часто утрачивается из перспективы поля зрения. Бесперспективность<br />
рассудка истории удовлетворяется господством превращенного во внешнюю форму<br />
основания над его собственным содержанием.<br />
В аспекте непосредственной всеобщности основания истории и производимой им эстетики<br />
содержание категорий величественное и ничтожное, сила и слабость, возвышенное<br />
и низменное характеризуется некоторыми принципиально новыми значениями:<br />
1) в классическом времени величественное, сила и возвышенное представляют собой<br />
разные эстетические степени реализации свободы в пространстве разорванного основания<br />
истории. Они торжествуют в той степени, в какой содержат в себе преодоление конкретных<br />
пределов истории, но торжествуют через трагическую гибель положительного<br />
героя. Иными словами, истина, красота и добро здесь сконцентрированы в «положительном<br />
герое», преодолевающем негативность истории;<br />
2) слепая, не знающая своего основания эволюция классической истории обусловливала<br />
феномен, когда «все герои были орудиями мирового духа и в этом смысле сами были несвободны»<br />
(Гегель). Мера величия в данном случае определяется возможной степенью, отражающей,<br />
в свою очередь, степень свободы самого становления в пределах слепой необходимости<br />
(уровня развития таковой в зависимости от степени самовыведения человека<br />
из природы). Величие не только зависит от уровня категориального распредмечивания мира<br />
и от воли противостояния пределам истории,но и ограничена границами этих пределов;<br />
3) пространственно-временные определенности основания входят в полное определение<br />
предмета чувств в моменты совпадения жизненного смысла со сменой основания, но<br />
в содержательном отношении последнее характеризуется еще становлением всеобщего<br />
в форме принципа, но еще не является реальным становлением каждого через всеобщее<br />
основание. В этом и состоит фундаментальное отличие основания всеобщего от всеобщего<br />
основания.<br />
Поэтому блоковский образ гибели Вселенной отражает, на первый взгляд, связанные<br />
в единый «узел» несовместимые чувства — «ликование от гибели Отчизны-Вселенной»<br />
выглядит болезненным состоянием ума, но именно с этим уникальным единством совпадения<br />
в едином пространстве-времени внутренних и внешних противоречий связано единство<br />
несовместимых чувств, несоизмеримых масштабов, дисбалансированных порывов. Эта<br />
попытка преодоления карикатурности истории и обусловила эклектическое многообразие,<br />
порывы и надрывы эстетики начала ХХ века, породившие собственную — уже не мистическую,<br />
а профанную карикатуру. Так как субстанциальность перехода в лишенном определений<br />
тождестве начала, его внутреннего противоречия являет себя полифонией<br />
аморфной дисгармонии, сочетанием несовместимых черт, выявлением содержания основания<br />
как исчезновение сущего в пучине безмерности. Неопределенность различий выступает<br />
здесь обезличенным двойственным миром, которого уже нет и которого еще нет.<br />
противоположностями — высокое и коварное, сила и бессилие, могущественное и ничтожное<br />
— оппозиции, в конкретным условиях и в соответствии с их бесчисленными нюансами<br />
принимающие и другие названия» [9, 172].<br />
Вследствие двойственности эстетического пространства-времени истории монистического<br />
основания, отчуждение подменивается не только формами внутренних противоречий,<br />
но и формами превращенными. Последние предстают как смесь метафизики<br />
и диалектики абстрактного и конкретного в ложном «вхождении» абстрактно-всеобщего<br />
в индивидуально-всеобщее. В аспекте логического самоопосредствования, <strong>проблем</strong>а превращенных<br />
форм обнаруживает свою имманентную границу в том, что, в отличие от классической<br />
истории, здесь гносеологические рефлексии не могут строиться на прошедшем<br />
времени, а должны в непостоянном постоянстве быть направлены на «вещество» истории,<br />
на ее существенную предметность. Оно (опосредствование по всеобщему типу) усложняется<br />
не только напряженной плотностью, но и определенной гносеологической воинственностью<br />
эмпирической реальности как метафизического явления воинствующего материализма<br />
при слабости теоретического мышления общества в целом. Если же снятие<br />
отчуждения проходит тот же путь, что и само отчуждение, то логическая догматика зависимых<br />
от внешних (мировых) противоречий исторических преобразований переплетается<br />
и с чувственной деформированностью опосредования происходящих событий. Если<br />
в аморфности любого начала внутренняя форма дана в контексте размытого содержания,<br />
то по этой же причине, в аморфности любого начала прекрасное и безобразное предстают<br />
как равнозначно возможные. Более того, они равнозначно сосуществуют в едином<br />
историческом времени и пространстве, когда основание высвечивается и завершенным<br />
классическим становлением, и только обнаружившимся первоначалом действительной<br />
всемирности.<br />
Непосредственное как следствие ложного опосредования и опосредование как наивная<br />
непосредственность предстают здесь в особенном переплетении. Выводя закономерности<br />
становления христианства, Ф. Энгельс отмечал: «в каждом крупном революционном<br />
движении вопрос о «свободной любви» выступает на передний план». Но следует<br />
отметить и то, что произвол непосредственности в виде подобных требований выдвигается<br />
на первый план в моменты обнаружения основания истории и, особенно, при внешнем<br />
совпадении массовости исторического действия с его предметностью. К примеру, исследуя<br />
формы и проявления февральской революции 1917 года, В. П. Булдаков отмечает:<br />
«В февральско-мартовские дни обнаружилось и другое. Свидетели событий часто упоминают<br />
о таких диких сценах как половые акты, совершаемые на глазах гогочущей толпы,<br />
не говоря о других, шокирующих смиренного обывателя выходках» [36, 46]. Это явление<br />
характеризует примитивизм и вульгарность первичного раскрытия свободы не только как<br />
«осознанной необходимости», но и как поверхностной, вульгарной свободы чувств,<br />
сведенной к свободе чувственного. В пространстве зависающих опосредствований всеобщего<br />
и индивидуального, когда оба в равной степени творят друг друга как по типу диамария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
332<br />
раздел второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ величественное и ничтожное<br />
333
Зряшное отрицание субстанциальности тотальности основания истории не может<br />
не основываться на волюнтаристском отрицании объективных оснований ее возникновения.<br />
Но <strong>проблем</strong>а необходимости обоснования подлинности направления исторического<br />
процесса не исчезла. Напротив — она обострилась. Остается неизбывно печальной<br />
<strong>проблем</strong>а «сущностной бездомности человека» (М. Хайдеггер) и констатация факта «бездомности»<br />
ужаса, когда «ужасом приоткрывается ничто», когда «ужас уводит у нас<br />
землю из-под ног, потому что заставляет ускользать сущее в целом». Блоковский образ<br />
охватил безмерную меру начала образования эстетики истории, хотя хронологически<br />
относился к смене веков. Гибель Вселенной раскрывается субъективным переживанием неопределенности<br />
основания в конструктивном направлении истории, положенном лишь<br />
как переход. Переход, еще не рефлексирующий себя положительно в понятиях исторических<br />
чувств. Лишенное реальных определенностей своих противоположностей, монистическое<br />
тождество всеобщего перехода являет себя в начале как полифония неопределенных<br />
форм, когда кажимость (уровень непосредственного восприятия) выделяет для себя<br />
основание как исчезновение сущего в пучине безмерности. Непосредственность различий<br />
в таком случае выступает обезразличенным миром, которого уже нет, так как, будучи абсолютно<br />
зависимой от эмпирических явлений, кажимость не способна выявить для себя<br />
содержание того или иного процесса в становлении.<br />
Вселенский переход из состояния «духовно и физически обесчеловеченного индивида»<br />
в действительную историю «всемирно-исторического существования индивидов», будучи<br />
переходом, в исторических чувствах начала века постигает себя двойственно — как<br />
вселенская гибель и вселенское рождение. Неопределенность будущих форм основания<br />
показывает и Осип Мандельштам, одновременно охватывая и масштабность его принципа:<br />
«Все чувствуют монументальность форм надвигающейся социальной архитектуры.<br />
Еще не видно горы, но она уже отбрасывает на нас свою тень и, отвыкшие от монументальных<br />
форм общественной жизни, приученные к государственно-правовой плоскости<br />
девятнадцатого века, мы движемся в этой тени со страхом и недоумением, не зная, что это<br />
— крыло надвигающейся ночи или тень родного города, куда мы должны вступать» [37].<br />
Но непосредственно-чувственная рефлексия основания в его историческом начале<br />
обусловливает <strong>проблем</strong>атичность логики его практического постижения, ибо от недоступного<br />
чувственному созерцанию самопознания зависит дальнейшее самообоснование новой<br />
эстетической меры истории. При объективной метафизичности такого феномена, он, тем<br />
не менее, обладал способностью созерцать свои принципы как бы со стороны и соразмеряться<br />
с «чистой сущностью» в чистом же логическом отношении. Опасность осуществления<br />
опосредованной непосредственно внутренними противоречиями эстетики истории<br />
шла от неуравновешенной балансировки пустоты и силы основания. Но если перевес оказывается<br />
на стороне стихийных блужданий разума в ложных лабиринтах свободы, его<br />
«постгероического» отказа от себя, то эти блуждания завершаются пресыщенностью ложными<br />
формами, ставшими когда-то самодостаточным основанием исторического рассудка.<br />
Безмерность индивида предстает стремлением оставаться мерой обезличенных, взятых<br />
только со стороны существования вещей, «потому что они существуют», но «не существующих,<br />
потому что они не существуют» как процесс их творческого рождения<br />
из «ничто». Таким образом, безмерность человека вырастает из кажимой самодостаточности<br />
предметной достоверности вещного самообладания и, будучи фиктивной самодостаточностью,<br />
самоотрицается. Ведь только в индивидуальном переживании и творчестве<br />
жизни основание достигает своей завершенной субъективности. Бесстрастное, пустое<br />
основание — это основание абстрактно тождественное самому себе как обезличенный<br />
принцип тождества мышления и бытия Поэтому здесь происходит абсолютное отрицание<br />
опосредствующих форм и абсолютизация непосредственного в его единичной сиюминутности.<br />
Поэтому же, если в пределах метафизики основания возвышенное и общезначимое<br />
сохраняется, то во втором случае они полностью заменяются низменным и ординарным.<br />
Порабощенная внешним миром, утратившая себя в нем, безмерность оборачивается<br />
утраченным основанием, в котором присутствует объективная и субъективная предпосылки<br />
декаданса основания в его социальной и личностной представленности. «Эта «всеобщность»,<br />
трансформированная и ссуженная в границах (ограниченная) догматизма,<br />
предвещает наступление «полосы тусклого безвременья, когда все те, кто мог бы что-то<br />
делать интересное, забираются в свои норы, а на свет опять выползает всякая нечисть,<br />
ничего не забывшая и ничему не научившаяся, только сделавшаяся еще злее и сволочнее,<br />
поскольку проголодалась» (Э. В. Ильенков). Безмерность представляет субъективацию<br />
объективного аспекта утраты меры истории, ставшей «безмерностью в мире мер»<br />
(М. Цветаева). Не становясь достоянием индивида, предметность исторического мышления<br />
становится недостаточным основанием исторических чувств, его несостоявшимся<br />
самоопределением, его минусовым достоинством, его не-достатком, недостойностью.<br />
Уродство низменного подменивает индивидуализм классического величия. Так возникает<br />
полифония абсурда, родившаяся в субъективном основании невежества. «По тому, чем<br />
довольствуется дух, можно судить о его потере» — утверждал Гегель. В нем субъективный<br />
дух ищет и находит для себя новую голгофу, бросается в стихию чистой непосредственности<br />
и утрачивает себя в ней. Утверждение ценности субъективистского (принципиально<br />
отличающееся от субъективированного) основания возвращает мир к его<br />
«началам». Но коль последние продолжают оставаться за пределами сущностного опредмечивания,<br />
то и формы возвратных свобод граничат с безумием зрелости, пожелавшей<br />
вернуться в безмятежность детства при утрате его наивности. Такой период оборачивается<br />
безумием самой философии и отказом от основания вообще. «Самовопрошающий» себя<br />
индивид остается на обочине истории. Ему объявляется, что «у каждого своя мера»<br />
(наказания без преступления?), что означает — «твоя мера сия и есть». Но там, где мера<br />
атрофируется в безразличии, обоснование ее подлинной сути оказывается почти утопической<br />
попыткой, ибо качественная природа меры не относится к разряду «материй», которые<br />
можно взвесить, измерить, вычислить или доводить до общего количественного<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
334<br />
раздел второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ величественное и ничтожное<br />
335
знаменателя. Непосредственная природа меры в ее индивидуальном основании не определяема<br />
логическими понятиями и не в опосредствующих формах она находит себя. Но вне<br />
опосредствования особенными формами всеобщего она становится случайной и мертвой.<br />
Обоснование подлинной меры человека может быть осуществлено только реальным,<br />
подлинным ее осуществлением через выход из мертвящей зоны безразличия: «толпе<br />
не хватает ни времени, ни терпения удостовериться в том, какая огромная мощь скрыта<br />
под внешней обыденностью. Таким образом, чтобы поразить толпу, увлекаемую потоком<br />
жизни, у страсти, как и у великого художника, есть одно длишь средство — перешагнуть<br />
за предел» (О. Бальзак).<br />
Превращенный характер ХХ века был обусловлен алогизмом сращенности основания<br />
всеобщего в двух несовместимых измерениях. В актуальном основании истории мы стоим<br />
перед двумя абсолютно противоположными определениями измерений соразмерности человека<br />
и истории, дисгармония которых остается реальностью до тех пор, пока такое<br />
«единство» стремится к невозможному тождеству. Этот неестественный симбиоз «заложил<br />
фундамент» будущего сочетания ординарного и великого в напряженной эстетике истории<br />
ХХ века. Основание уверенно двигалось к экзистенциальной подмене самого себя.<br />
Завершенная деформация основания истории в субъективном полностью подменила<br />
величие и достоинство человеческого разума, на которое указывала классика, как и силу<br />
человеческих чувств, способных заставить его возмутиться бесчеловечности ориентиров<br />
развития общества. Абсолютным предметом рефлексии сознания и чувственного целеполагания<br />
стало как раз то, что достойно суду комедии и сатиры, ибо величие, возвышенность<br />
и красота жизни в эгоизме основания подменены ничтожностью, бессилием и низостью.<br />
Абсолютизация естественных границ существования, ординарность и одномерность<br />
бытия, «ухватывание собственной самости исключительно в феномене переживания»<br />
(Плеснер), где господствуют «витальные» ценности, управляемые «экзистенциальным<br />
интеллектуализмом» (Маритен) — основные признаки феноменологического распада<br />
эстетики. Переход основания в последнее качество и степень превращенности — страдания<br />
безобразного — не становится условием жизни, но становится реальностью смерти.<br />
И если человек «суть основание мира» (Хайдеггер) в качестве такого основания, то в чем<br />
должен быть найден ориентир жизни, способный оживить его мертвую душу? Как возможно<br />
выявление основания всеобщего в его прогрессивной тенденции и утверждение<br />
в творчества жизни? Преодолением онтологического — объективистского бесчувствия<br />
и гносеологического, субъективистского произвола. Индивидуализм, по Э. Фромму, для<br />
большинства был не более, чем фасадом, за которым скрывался факт, что человеку не удалось<br />
достичь индивидуального самоотождествления. Но индивидуальное самоотождествление<br />
не только не может быть оторвано от человеческого утверждения общественного<br />
смысла жизни, но и возможно исключительно через и благодаря такому смыслу.<br />
Активная объективация субъективизма оборачивается утратой объективной реальности<br />
из сферы мироощущений. Отсюда происходит противопложное экзистенциализму<br />
определение: «Экзистенциализм представляет собой философию сиюминутности, но не<br />
в смысле физической непосредственности, а в смысле непосредственности сознания, выдвигая<br />
в качестве непосредственного не различные эмоциональные и этические определения,<br />
а непосредственное как явление исторической метафизики» (Луиджи Стефанини).<br />
Единственный выход из данного тупика — превращение мироощущения в способ отрицания<br />
объективной реальности — оказался мнимым, но стал реальностью. К примеру, для<br />
Сальвадора Дали он стал основой такого художественного мифотворчества, в котором<br />
реальное всегда присутствует в форме произвольного самоотрицания, где исчезает всякая<br />
граница между тем, что было, и тем, чего не было. При этом деформация субъективной<br />
реальности уже утверждается как принцип. Свобода, по Дали, если ее определить как<br />
эстетическую категорию, есть органическая неспособность обрести форму, сама аморфность.<br />
Проблемой становится возможность переноса отчужденного понимания свободы<br />
в неотчужденное основание, что окажется для последнего фатальным.<br />
Трансценденции самодостаточного экзистенциального бытия алогичны не потому,<br />
что непосредственность всеобщего не определяема понятийно, непереводима на другое,<br />
а потому, что экзистенция абстрагирует себя из логики развития, отрицая ее. В действительности<br />
чувственно-субъективный образ мира равен сотворению образа объекта в понятийно<br />
неопределяемой, но реально определенной чувственности индивида. Сам человек<br />
является абсолютной формой мира как преобразующий в себе все многообразие<br />
форм его становления. Абсолютность формы определяется абсолютной возможностью<br />
индивидуального воплощения идеального и идеальности (совершенстве) связи опредмечивания<br />
мира в феноменологическом и через феноменологическое, где идеал является<br />
нравственной определенностью развития, идеальное — принцип соотнесения, сообразности<br />
себя и истины, приобретают тождество самоопределения идеального как индивидуально-эстетического<br />
критерия истинности развития, входит в природу конечных вещей<br />
и явлений, воспринимаемых и переживаемых адекватно природе развития. Критерий<br />
достаточности основания в нем никогда не высвечивает себя как логический критерий,<br />
но его недостаточность выявляет себя в расщепленности основания и мышления.<br />
Отрицание логического из сферы непосредственного подчиняет последнее мистическому,<br />
«роковому», неведомому, но подчиняющему себе дух. И конечность экзистенциального<br />
сознания определяется не временным пределом истории, и не историческим пределом<br />
времени, через которое оно не может «прорваться» до сути, а агонией исторически<br />
опустошенного времени. Ужас конечного сознания возникает как неспособность понять<br />
содержание и жизненную тенденцию собственной маргинальности, как и неспособность<br />
«заглянуть за предел», когда последний отождествляется с абсолютным концом. Форма<br />
перехода через этот предел и способ беспредельного самоутверждения закрепляется<br />
за прорывами духа. Но и сам «дух» уже предстает принципиальной противоположностью<br />
чувственному бытию как вожделенной сущности, «делает себе “харакири”» (Т. Манн)<br />
во имя непосредственности. Это без-образное движение экзистенциального понятия<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
336<br />
раздел второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ величественное и ничтожное<br />
337
в обезличенном жизненном пространстве. В превращенных формах бытия утрачивается<br />
основание как объективная всеобщность. Поэтому, чем больше экзистенциальный индивид<br />
стремится к непосредственно-чувственному самоотождествлению, тем более ему<br />
приходится «самоотождествляться» с видимостями бытия. Это мир человека, в котором<br />
нет ни мира, ни человека, а есть лишь абсолютная самость космического хаоса. Дисгармония<br />
экзистенции выявляет субъективное определение безмерности хаоса в качестве<br />
сомнительного принципа индивидуальной жизни. Отчуждение идеальных форм разума<br />
проявляется как экзистенциальное отрицание разума, сама экзистенция есть форма<br />
отрицания идеального. Но бытие природы — подчиненное бытие, и уродливость распространенного<br />
на нее отчуждения сильнее ее несамостоятельной красоты, так как способна<br />
уничтожить ее. Стихии природы есть ничто по сравнению с хаосом существования «Если<br />
природа способна непосредственно производить безобразное в животных формах, то человек<br />
деформирует и денатурализирует изнутри красоту собственной природы, что само<br />
по себе является проявлением аннигилирующей себя свободы. Поступок, на который животное<br />
не способно» (Розенкранц).<br />
Непосредственное не тождественно экзистенции, когда предстает одновременно итогом,<br />
предпосылкой и самим процессом развития. Непосредственное не есть как основание.<br />
Как результат становления оно утратило возможности становиться многим; оно стало<br />
как одно, но как ставшее, оно самоценно не отношением к себе, а самоопределением<br />
устремления к другому, и только в таком качестве непосредственное есть поток жизни,<br />
а не момент смерти, вечное течение жизни, а не застывшесть самотождественности. Существо<br />
не есть сиюминутность постольку, поскольку мгновенность не измеряется пространственными<br />
— формальными в смысле оформленности — проявлениями сущности, непосредственность<br />
само по себе = без-мерное, поскольку есть переход как снятие формы<br />
и в этом снятии оно всегда ориентировано, имеет свою сущностную направленность в неподдающейся<br />
определению конкретности, но направлена всегда и во всем, то есть определена<br />
в границах исторической конкретности и возвышенность Логоса (возвышение до разума)<br />
предстает как выход за эти границы. Сущностное бытие в непосредственности<br />
выявляет практическую феноменологию исторического времени и только завершенное<br />
отчуждение не способно воспринять и принять фундаментальные самоопределения человека<br />
в жизни, а не в смерти, когда остается только констатация персонажа Ж.-П. Сартра:<br />
«я опустошился, стерилизовался, превратился в чистое ожидание. Сейчас я пуст, это<br />
правда, но я уже ничего не жду».<br />
«История» и «человек» утрачивают единство в новой антиномичности. Наивно-страстные<br />
и рационально-бесстрастные формы основания, пережитые и хладнокровно обобщенные,<br />
пребывают в памяти времени, но связующее звено истории обрывается. Эмансипация<br />
духа в основании тщится оставаться духовной эмансипацией и остается тщетной.<br />
Субстанциальное основание в своей подлинной однократности и единственности печалит<br />
недостижимостью. Остается неведомым, может позабытым, а скорее — игнорируемым,<br />
одно из остро значимых и на сегодняшний день открытий античности, постигнувшей, что<br />
живое содержание субстанциального противоречия всеобщего как производящая причина<br />
всего, являет себя противоречием формообразования человеческой меры, живущей<br />
постоянным преодолением сущего — страстью. Действительно, лишь в страсти субъективность<br />
основания являет собой действительную конкретность объективного. Действительность<br />
основания индивидуальной жизни как принцип универсального самоопределения<br />
тождества основания и человека в противоречивой напряженности индивидуальной<br />
непосредственности.<br />
Основание всеобщего не может развиваться как непосредственно всеобщее основание,<br />
если не происходит эмансипация общественных отношений на непосредственном уровне.<br />
Развитость эстетического в человеке становится критерием развития сущности всеобщего<br />
в действительности, в параметрах действительной истории идеальная форма всеобщего<br />
снимается в субъективной непосредственности. Такая последовательность закономерна<br />
для истории вообще. И когда Ф. Шлегель утверждал, что идеальное в материале<br />
появляется гораздо позже, чем идеальное в форме, он, рассматривая <strong>проблем</strong>у в аспекте<br />
эстетики, решал ее не в срезе «идеального-материального», а в аспекте совершения идеальных<br />
форм в действительности чувственного — то есть, выводил <strong>проблем</strong>у всеобщего<br />
на уровень универсальных тенденций его осуществления. Таким образом, логика теоретического<br />
развития самой логики, как и основания предела такого развития, подсказывает,<br />
что мера человека не должна рассматриваться со стороны идеальных форм всеобщего<br />
(в частности, форм общественного сознания), так как ее подлинность и реальность не может<br />
обосновывать себя степенью отражения принципа-основания человека в морали,<br />
искусстве, науке, философии, религии.<br />
Непосредственной сферой общественного отношения человека к другому выступает<br />
сфера непосредственное отношение. «Чувства-теоретики» не принимали значения «рассуждающих<br />
чувств» и не отождествлялись с ощущением. Но разум не является логическим<br />
завершением чувства, а очеловеченное чувство является подлинным завершением —<br />
совершением разума. Очеловеченное чувственное и есть непосредственное совершенство<br />
мирового «Логоса». Именно поэтому, очеловечивание чувственности суть преодоление<br />
родового отношения между людьми. Сложность понимания «чувственной меры» человека<br />
породила очередную вульгаризацию его чувственной предметности и исторических<br />
параметров ее утверждения. Если страдание, понимаемое в человеческом смысле, есть<br />
самопотребление человека, то в последнем случае оно возникает вследствие невозможности<br />
самопотребления человека по типу творчества жизни. Отсюда происходит оборащенность<br />
вспять действия по логике отождествления отрицательности с разрушением:<br />
«Но есть еще один аспект в преодолении ограниченности своего существования: если я не<br />
могу создавать жизнь, я могу уничтожить ее. Уничтожение жизни также дает мне возможность<br />
выйти за ее пределы» [38, 47]. Страдание от никчемности бытия оборачивается<br />
саморазрушением и разрушением мира, в котором уже обозначился серьезный «прорыв»<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
338<br />
раздел второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ величественное и ничтожное<br />
339
психических заболеваний 2 . Становясь рабом низменного и мелкого, человек становится<br />
рабом политической экономии, абстрагированной от него и враждебной ему воли. Тишина<br />
и покой в качестве идеала мещанского бытия превращается, в свою очередь, в разрушение<br />
семантики жизни. Все, что удовлетворяет обыденное сознание, отстраняет его<br />
субъекта из основополагающих ценностей истории. Более того, приводит к отрицанию,<br />
к обесценению его общественной природы. Возвышение же субъекта связано с такой деятельностью<br />
Я, «когда воля обосновывает явление возвышенного. Возвышенным субъект<br />
являет себя (в тех случаях), когда он силой своей воли, несмотря на то, что она ограничена,<br />
кажется растущей до бесконечности».<br />
Исторические муки поиска абсолютной формы и перехода красоты в содержание непосредственного<br />
основания остается пока что страданием превращения тождества объекта<br />
в самоопределения субъекта, в явление различенное, возвращающееся различенным<br />
в тождестве основания. Муки поиска формы основания — это муки формообразования<br />
тождества, данные и фиксирующие себя в различении при данности единства принципа<br />
и содержания основания. Метафизика любви кроется в страстном стремлении полного<br />
отождествления основания в таком тождестве. Непреодолимость ее обезраличивает<br />
и омертвляет основание в таком тождестве. Потому мы сильнее огорчаемся диссонансом<br />
в счастье, чем наслаждаемся неожиданно радости среди горя (О. Бальзак). «Голая суть»<br />
тождества неопределяема, так как непосредственность перехода предстает здесь как<br />
свершившееся беспамятство субстанции, отождествление и слияние с вечностью. Мера<br />
всеобщего выступает здесь предельной, бесконечной напряженностью свершения саморазличия<br />
в едином. Если в тождестве не дан предел как тождество жизни и смерти, то оно<br />
предстает и погибает как ненапряженная сущность.<br />
Основание субстанции в качестве непосредственно-чувственного основания — это<br />
страстное определение жизни в оформлении времени, достигающее свои определения<br />
в универсуме эстетического. Субстанциальная основа мира — это тождественная сама<br />
себе материя на предел собственной бесконечности, где конечность равна конкретному<br />
самоопределению духа и перехода его в новую меру, в новое для себя начало. Вечность<br />
выявляет себя как основа конечного, но в первой человек универсальный представляет<br />
абсолютно достаточную основу и сливается с субстанциальностью времени. Последнее<br />
проявление времени выступает самопознанием в момент ухода в абсолют небытия, утраты<br />
последнего основания наличности субъективного. Совпадение возвышенности содержания<br />
индивидуальной жизнедеятельности с творчеством форм и взаимопереходом<br />
первого во второе — невесомость духовно-физического бытия индивидуальности. В то<br />
же время, истинность единичной тотальности не может стать реальностью, не может<br />
состояться вообще в абсолютизированном единичном основании. Свершение и совершенство<br />
является не результатом, а самообнаружением основания как подлинного начала<br />
истории, поскольку начало (самосознания и самодвижения) должно быть высшей степенью<br />
напряженности ставшего в нем предшествующего развития.<br />
Примечания<br />
1 Мишель Фуко выявил отличие отчужденного начала классической истории и значения основания<br />
постклассической истории через качество соотнесенности человека к основанию как началу<br />
становления на собственном основании: «Человек возник в начале ХIХ века в зависимости от всех<br />
этих историчностей, всех этих замкнутых в себе вещей, указывающих самим своим положением<br />
и своими собственными законами на недостижимое тождество своего первоначала. Однако теперь<br />
уже человек иначе относится к первоначалу. Теперь он обнаруживает, что он постоянно оказывается<br />
связанным с предшествующей ему историчностью; он никогда не существует одновременно<br />
с тем первоначалом, которое прорисовывается и обнажается во времени вещей. Стремясь самоопределиться<br />
в качестве живого существа, человек обнаруживает свое собственное начало в глубине<br />
жизни, начавшейся раньше него; стремясь понять себя как трудящееся существо, он выявляет<br />
зачаточные формы труда внутри такого времени и пространства, которое уже подчинено обществу<br />
и его институтам; наконец, стремясь определить сущность самого себя в качестве говорящего субъекта<br />
по ту сторону всякого уже развернувшегося языка, а совсем не с тем лепетом, тем первословом,<br />
на основе которого стали возможны языки и вообще язык, как таковой. Лишь на основе всегда<br />
уже начавшегося человек может помыслить то, что имеет для него значение первоначала. Таким<br />
образом, первоначало для него вовсе не есть начинание, не есть ранняя заря истории, за которой<br />
теснились бы все дальнейшие приобретения. Первоначало — это прежде всего тот способ, которым<br />
любой человек — человек вообще — сочленяется с уже начавшимся трудом, жизнью и языком; место<br />
его в том углу, где человек трудится, сам того не ведая, в мире труда, совершаемого уже многие<br />
тысячелетия» [35, 350–351].<br />
2 Эрих Фромм констатирует, что «во время последней (Вьетнамской. — М. Ш.) войны 17,7% призывников<br />
были признаны негодными к военной службе из-за психических заболеваний», и что<br />
«половина больничных коек США занята больными с психологическими расстройствами». При<br />
этом, «меньше всего самоубийств совершается в бедных странах, в то же время рост материального<br />
благосостояния в Европе сопровождается увеличиением числа самоубийств» [39, 13–14].<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
340
ПРИРОДА И МЕСТО<br />
ПРЕВРАЩЕННЫХ ФОРМ<br />
В ЭСТЕТИКЕ БЕЗОБРАЗНОГО*<br />
…Человек мечется: он растерян, но его одолевает воля к действию,<br />
он разрывается между толпой и одиночеством, «между средоточием<br />
и пустотой», его разносит в клочья, в нем рушатся внутренние барьеры,<br />
и одновременно он становится винтиком какого-то нового механизма…<br />
Доминик де ВИЛЬПЕН. Крик горгульи<br />
Феномен превращенных форм является современным эффектом<br />
и «завершением» особенных трансформаций общественноисторических<br />
противоречий в мышлении, эстетике и перипетиях<br />
воли человека. «В-себе» он содержит особые «взаимоотношения»<br />
аморфности, «неточности» («неправильности») и деформации.<br />
Отличие от классического содержания этих ступеней безобразного<br />
заключается в том, что аморфность как начало становления<br />
уже содержит в себе неточность как отсутствие снятия опосредования<br />
идеальной всеобщностью, и деформацию как примирение<br />
с отчуждением и попытка обустраиваться в его безумных пределах.<br />
Но, вследствие трансфузии из логики восхождения в эмпирию<br />
рядоположенности и равнозначности, следующие ступени<br />
по-своему видообразуют сочетания других. В новом содержании<br />
«неправильного» (неточного) включается аморфное как лишенное<br />
прогрессивной перспективы восхождения к целесообразной форме<br />
— опосредованность идеальным (в гносеологическом и аксиологическом<br />
содержании образа) регрессирует не состоявшись. Деформация<br />
возвращается к аморфности с новыми модусами, но без<br />
осуществления двух отрицаний, то есть, лишаясь движения к той<br />
же целесообразности формы. «Спотыкание» современника на фор-<br />
* С некоторыми изменениями содержание этого очерка впервые издано в моей<br />
монографии «Феноменология истории в трансформациях культуры» (К.: Издательство<br />
НАУ, 2005. — С. 100–112).<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
342<br />
ме оборачивается не только разрушением формы изнутри, и не просто ее распадом в конкретном<br />
явлении, но и образованием из обломков такого распада видимых самостоятельных<br />
образований. Постмодернистский «фрагментаризм» избавляет себя от целостности<br />
таким образом, что образует ее из обломков и соответствующих форм отражения распадающегося<br />
бытия. Эти новые явления формы обладают своей искаженной, но цепляющейся<br />
за свою искаженность логикой. Это логика специфического взаимоотношения<br />
внешней и внутренней формы, порождающие в своих регрессиях как превращенные, возвратные<br />
и опустошенные формы, так и соответствующую им эстетику распада.<br />
Являясь сокрытостью непосредственного, внутренняя форма не «дана в ощущении».<br />
Она также не подлежит непосредственному созерцанию, как не является подлинной<br />
непосредственностью то, что предстает в видимости наличного бытия. Невидимость<br />
внутренней формы представляет идеально-реальное тождество основания, в котором оно<br />
(основание) пребывает как достоверность. Мнимо освобожденная от метафизики собственной<br />
кажимости, от скептической (под видимостью вырванного из названного тождества<br />
разносущностного различия) недостоверности и болезненной несостоятельности<br />
«внешнего» до тех пор, пока такая недостоверность порождена пространственной паузой<br />
между ее собственными внутренними и внешними модусами, форма теряется в видимости<br />
разностей. И не потому что в наличном бытии разности предстают «самостоятельными»<br />
от внутренней противоречивости, а потому что они подпадают под метафизику ограниченных<br />
возможностей чувственного восприятия единства мира. Лишенная в таком<br />
состоянии саморефлексии, внешняя форма легко впадает в деструкцию скептицизма<br />
и релятивизма, становится уделом «ужаса вечного сомнения» (А. Блок).<br />
Разрыв внутренней и внешней формы возможен как следствие неразвитости внутренней<br />
формы, которая не может стать понятием и пространством чувств до тех пор,<br />
пока не пройдет весь цикл опосредствований внутренних взаимосвязей реальности в феноменологии<br />
индивидуального самосознания. В этом разрыве присутствует метафизика<br />
познания в разорванной двойственности саморефлексии основания — в форме должного,<br />
и в форме наличного бытия. В кажимости внешнего отношения раздвоенности «единого»,<br />
основание предстает видимостью двух внешних форм. При обострении внешних<br />
противоречий в конфликте различных пределов становится реальностью возможность<br />
превращения основания во внешний логический фактор — или в форме принципа, не знающего<br />
свои дальнейшие «ступени»-опосредования и готового (если не всегда, то иногда,<br />
если не навсегда, то надолго) навязывать себя в качестве исторической необходимости,<br />
игнорируя диалектику реальных форм в их стихийно-свободных проявлениях.<br />
Создается видимость, что познание внутренней формы — непосредственной истины<br />
основания — возможно через своеобразное превращение чувственного восприятия<br />
во «внутренний взор» интуитивной рефлексии индивида. В гносеологически-чувственном<br />
пределе этот момент представлен К. Бальмонтом: «Пять чувств — дорога лжи. / Но есть<br />
восторг экстаза, / Когда нам истина само собой видна, / Тогда таинственно для дремлюраздел<br />
второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ природа и место превращенных форм<br />
343
щего глаза / Горит узорами ночная глубина. / Бездонность сумрака, неразрешимость<br />
сна. / Из угля черного — рождение алмаза. / Нам правда каждый раз сверхчувственно<br />
дана, // Когда мы вступим в луч священного экстаза» («Путь правды»). И если истина<br />
чувственного бытия может предстать «вакхическим восторгом, участники которого упоены»<br />
(Гегель), то в монизме основания, когда истина непосредственно тождественна явлению<br />
внутренней формы, такой восторг внешним образом предзадан обнаженностью<br />
основания всеобщего и стихийного выявления им природы внутренней формы как особенности<br />
отдельного человека.<br />
На фоне идеально-теоретической неопосредованности неопредмеченного идеала (незавершенного<br />
превращения идеального в реальное), совпадение наличного бытия необходимости<br />
и чувственного бытия истории производит впечатление (а впечатления являются<br />
как бы наличным бытием интуиции в смысловой нагрузке мгновенной самоидентификации<br />
сущности человека и исторического процесса) могущества непосредственности в ее доопосредствовании<br />
реальными противоречиями. В этом стихийном проявлении тождества<br />
основания и чувственного, феноменология индивидуального предстает как разворачивание<br />
феномена истории, а феномен истории как наличное бытие феноменологии индивидуального.<br />
Но здесь еще нет опосредованной становлением монизма основания истории<br />
единого, совпадающего с протяженностью человеческой жизни всемирного времени. В отсутствии<br />
такой опосредствованности (при напряженности исторических коллизий) сохраняется<br />
возможность превращения «феномена» и «феноменологии» в такое субъективированное<br />
тождество единичного и всеобщего, которое легко перерастает в субъективизм,<br />
и такого его раздвоения, когда утверждается именно феномен в виде «существования впечатления,<br />
а не содержания впечатления» [40, 239]. И утверждение, что «в <strong>проблем</strong>е феномена<br />
в ХХ веке мы столкнулись (и в литературе, и в философии) с <strong>проблем</strong>ами бытия мысли,<br />
или существования мысли», реализующееся как «когеренция усилия многих точек пространства<br />
и времени — сейчас и здесь» [40, 239–240], представляется правомерным в той<br />
степени, в какой, по факту утраты внутренней формы, утвердился идеальный псевдо эстетизм<br />
чувственного. Он же обречен на уход в превращенную форму «мыслительного сфокусирования»<br />
времени и пространства мира. Негатив <strong>проблем</strong>ы состоит в том, что в данной<br />
точке ничего кроме самой «точки» не оказывается. И это единственное «постоянство»<br />
утраченного времени и утраченного пространства.<br />
Видение внутренней формы становится провидением основания, его способностью<br />
и возможностью мыслить себя конкретно лишь через перспективу будущего времени.<br />
Поскольку классическое становление не знает собственного основания, то основание<br />
было недоступно его ретроспективным рефлексиям, искавших истину в прошлых формах<br />
генезиса идеального. В пост-классическом пространстве понятие всеобщего (еще не будучи<br />
всеобщим понятием как способ мышления каждого) предстает в начале как неопосредованная<br />
по всеобщему типу, но совпадающая с основанием непосредственность.<br />
Внутренняя форма обретает свое понятие, но в виде и благодаря непосредственному тожмария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
344<br />
деству основания и начала истории и основания и начала индивидуальной жизни. Преодоление<br />
феноменологической формальности основания классического становления разворачивается<br />
в процессе преодоления необходимости через превращение случайности<br />
в опосредствованную необходимостью свободу. Становление каждого в сущностных<br />
измерениях истории и есть преодоление метафизики случайности человека, его индивидуальной<br />
исторической несущественности, его статистического учета. Именно поэтому<br />
саморефлексия основания осуществляется в конкретном Я и предстает как «форма бытия<br />
непосредственного тождества противоположностей» [2, 276], как «рефлексия всеобщей<br />
формы деятельности, ее универсального схематизма» [2, 269]. Но «высвобождение»<br />
основания из пределов классического становления сопровождается пафосом действия(=<br />
созидания) по «логике предмета истории» теоретически неразвитого субъекта<br />
и продуцирует как истинность, так и ложность тождества внутренней и внешней формы.<br />
Могущество субстанциальной деятельности подчиняет себе внешнюю форму, затягивает<br />
ее в поток исторического творчества.<br />
Но это время — время непосредственного совпадения критического и созидательного<br />
периода смены основания кратко и, вследствие преобладания критического отрицания,<br />
не свободно от метафизических напластований схематизма прошлого. В силу этого,<br />
самым драматичным периодом трансформации основания выступает так званый «переходной<br />
период». Речь идет о такой переходной форме истории, в которой основание<br />
освобождается от функциональности базиса внешних, количественных переходов. Драматизм<br />
всеобщего перехода истории как ее переход в непосредственно всеобщее заключается<br />
в том, что он не разрешает в положительной форме <strong>проблем</strong>у освобождения<br />
диалектики внутренней формы от метафизики формы внешней, а только выявляет<br />
отрицательность их отношения. В этой отрицательности постоянно присутствует угроза<br />
распыления плотности феноменологического времени, порождающее профанацию его<br />
сущности. Профанация на уровне сущности первого порядка рождается как наличное<br />
бытие негативности внутренней формы, когда содержание в собственных многообразных<br />
определениях не заполняет общественное пространство самоопределения индивида.<br />
Формализм сущности возникает вследствие абсолютизации внешней, карикатурно-догматизированной<br />
формы, в которую имеет свойство конституироваться пустой пафос,<br />
упрощенность «смены основ», волюнтаристская импровизация всеобщего в эстетике поступков<br />
даже тогда, когда они вписываются в схему необходимости. В хаосе переходных<br />
форм истории возникает и ее особенная эстетика, в которой непосредственно обнажаются<br />
и обнаруживаются фундаментальные противоречия, эксцессы и гипертрофированные<br />
формы несвободной необходимости, не необходимой свободы, как и свободы и освобожденной<br />
свободы и освобожденной необходимости. К примеру, феномен «серебряного<br />
века» отражает явления освобожденной свободы, кажущаяся «свободной» и от времени,<br />
и даже «зависающая» в собственном пространстве. Но в ее сгустке, квинтэссенции присутствует<br />
другая крайность — освобожденной свобода профанного знания, вполне сочераздел<br />
второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ природа и место превращенных форм<br />
345
тающегося с высокими принципами, но утверждающаяся в эстетике аморфности не ставшей<br />
еще новой меры. «Схематизм» эстетики истории в данном случае опасен утверждением<br />
этих крайностей в видимости самостоятельных сущностей, обладающих тенденцией<br />
не только антагонизма, но и ложной эстетизации и профанации основания.<br />
Формализация сущности легко трансформируется в обезразличение общественного<br />
идеала, которое ведет за собой формализацию и деформацию долженствования в его<br />
непосредственно всеобщем значении. В этом виде происходит абсолютизация внешней<br />
формы, констатирующая факт феноменологического нераспредмечивания основания как<br />
закона и принципа эстетической сообразности логики дела логике чувств. Поскольку<br />
именно пространство и жизнь чувств могут выступать критерием полноты исторической<br />
жизни, то формализм как смерть непосредственности меры всеобщего выступает и причиной,<br />
и следствием угасания внутренней формы в полифонии одновременности разновременных<br />
по своей сущности и содержанию внешних форм. В реальности такой подмены великое<br />
погибает не состоявшись и даже не успев познать и понять причину своей гибели.<br />
Пределом внутренней формы выступает ее противоречие с собственным содержанием,<br />
где наличное бытие является определенностью сущности лишь в той степени, в какой<br />
это противоречие, будучи опосредованным не только собственной идеальной рефлексией,<br />
но и природой формы общественных отношений, разрешается в пространстве монизма<br />
мышления и чувств. Поскольку классическая история в собственных формах не мыслит<br />
себя категорией сущности, то в образующемся «нейтральном» пространстве между<br />
внешней формой и ее содержанием раскрывается логический зазор для разрыва сущности<br />
и содержания уже в исторически невозможном дуализме основании. Зазор, опасный<br />
тем, что сущность предстает доступной и понятной, а содержание, отождествляясь с сущностью<br />
на уровне непосредственного восприятия, лишается конкретности. Происходит<br />
подмена внутренней формы стереотипами и дальнейшей стереотипизацией сущности, перевода<br />
ее в каркас мощных организационных структур. В силу сохраняющегося антагонизма<br />
истории, мощь и значимость таковых защищены целесообразностью системных<br />
противостояний, но в случае самоабсолютизации, они не только подменят цель средствами,<br />
но и обречены на самоотрицание.<br />
Будучи слитым с пространством исторического предела (когда основание теряет свою<br />
непосредственную тождественность с формой неразвитой индивидуальной непосредственности,<br />
а форма отношений теряет способность быть основанием как совершенная<br />
полнота тождества идеального и эстетического), бытие утрачивает свою метафизическую<br />
первичность и трансформируется в хаос импрессионистских подмен теоретических<br />
рефлексий воображениями о них. К примеру, возможность скольжения хайдеггеровского<br />
бытия в деконструкцию бытия и перекликающиеся с ним вариации деконструкции Ж. Деррида<br />
позволяют заметить неспособность внутренней формы преодолеть свою невозможность:<br />
«“деконструкция” часто определялась как сам опыт возможности (невозможности)<br />
невозможного, наиболее невозможного, условие, которое она (деконструкция) делит с дамария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
346<br />
ром: все эти “да”, “прийди”, решение, свидетельство, тайна и т. д. И, может быть, смерть»,<br />
выливающиеся, в конечном итоге, в «гипер-невозможность» [41, 84].<br />
Конструктивное преодоление невозможности внутренней формы не может быть привнесено<br />
извне — вот в чем предельный вопрос «жизни» и «смерти» человека и мира.<br />
Внутренняя форма имеет источник своего возрождения только в себе самой и этим источником<br />
является абсолютное основание мира. Факт опустошения внутренней формы<br />
обусловлен искусственным разрывом ее конкретного содержания от основания в его абсолютных<br />
пределах. В таком случае, преодоление расслоения индивидуализированного<br />
основания внутренней формы как непосредственной логики всеобщего требует «выворачивания»,<br />
снятия безразличного многообразия внешних форм по логике имманентной<br />
тотальности саморазвития индивида.<br />
Завершение обесчеловечивания человеческих отношений проецирует свои границы во<br />
всех проявлениях жизни. Несовместимая с жизнью скука и восстающая против жизни<br />
тоска по смерти рождаются из пустот, образованных в провале между внутренней<br />
и внешней формой. В пространстве актуализированной эволюции, повторяемость исчерпанных<br />
форм порождает особую, стирающую диалектическое противоречие культуры<br />
и феноменологии деструкцию. Это ситуация выведения культуры из пространства непосредственности<br />
как условие возвращения к непосредственности мифологической. Поэт<br />
А. Межиров описывает культурно-феноменологическую деструкцию по логике обратного<br />
отрицания культуры на примере трансформаций в общественном сознании России:<br />
«…И не Преображенец, а лабазник. / Салоны политесу обучал. / Пред ним салоны эти<br />
на колени / Вповал валились, грызли прах земной, / В каком-то модернистском умиленье<br />
/ Какой-то модернистской стариной. / Радели о Христе. Однако вскоре / Перуна Иисусу<br />
предпочли, / И с четырьмя Евангельями в споре, / До Индии додумались почти. / Кто увлечен<br />
арийством. Кто шаманством, — / Кто в том, кто в этом прозревает суть, — / Лишь<br />
только б разминуться с христианством / И два тысячелетья зачеркнуть. / А смысл единый<br />
этого раденья, / Сулящий только свару и возню, / В звериной жажде самоутвержденья,<br />
/ В которой, прежде всех, себя виню…» («Бормотуха»).<br />
В противостоянии агрессии такой деструкции, внутренняя форма предстает в виде<br />
принципа подчинения должному. Выглядит парадоксальным, но закономерно, что именно<br />
экзистенциализм, тосковавший по подлинной свободе (а последняя есть выражение<br />
внутренней, а не внешней формы), так боялся и ненавидел «долженствование», как и любое<br />
апеллирование к нему — ведь долженствованием существенно опосредуется непосредственность.<br />
Вместе с тем, при внешней кажимости тождества, современные экзистенциальные<br />
установки не являются самостоятельной ступенью в логике современного<br />
философского сознания и алогизмах современного искусства, а представляют собой обособленные<br />
фрагменты фрагментарности самоистребляющейся непосредственности.<br />
Напряженная «борьба» диалектики и метафизики внутренней формы проецируется<br />
в противоречии формы перехода и переходной формы. Если форма перехода обусловлераздел<br />
второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ природа и место превращенных форм<br />
347
на объективными факторами — экономическими, культурно-социальными, историческими<br />
и предельно зависима от них, то переходная форма обусловливается логическо-эстетическим<br />
пространством субъекта исторического действия, диалектикой необходимого,<br />
случайного и свободного в интенсивности перевоплощения объективных условий в категориальный<br />
способ мышления и волеизъявления чувств. Поскольку это период опережения<br />
материального идеальным, подлинное развитие зависит не от объективных обстоятельств,<br />
а от способа их опосредствования культурой мышления и чувств, а также их<br />
опредмечивания в особый образ жизнедеятельности. Поскольку же имеет место опосредствование<br />
на уровне основания, то остаются предпосылки не только для волюнтаризма,<br />
но и для манипуляции логикой и эстетикой истории, вполне вписывающиеся в идеологическую<br />
«убедительность» рекламного менеджмента.<br />
В пределах такой возможности, теряясь перед субстанциальностью «здесь» и «теперь»,<br />
переходная форма раздваивается в себе на субъективную неопределенность основания<br />
прошлого и на логическую неопределенность культурного масштаба будущего.<br />
В силу своей природы, переходная форма не только не знает устойчивости основания,<br />
но и осуществляет свое предназначение в той степени, в какой обеспечивает своим содержанием<br />
преодоление классического предела в способе жизнедеятельности масс. Поэтому,<br />
в отличие от формы перехода на уровне смены способов производства, переходная<br />
форма представляет собой феноменологическое утверждение такой смены как распределение<br />
предела в принципиальном изменении отношения реального индивида к обществу,<br />
истории и миру в целом. Но переходная форма не только не обладает устойчивостью,<br />
ставшестью. В силу гносеологических предпосылок и напряженной плотности реальных<br />
исторических процессов, она не успевает постигнуть себя в субъективном становлении.<br />
По этой причине, переходная форма в равной степени становится формой жизнедеятельности<br />
большинства, как и имитацией культуры в ее популяризаторских упрощениях.<br />
Таким образом, переходная форме не в себе не только потому, что в пределах непосредственного<br />
господства возведенного во всеобщую значимость принципа выражает<br />
неуловимость становления особенного Я. Она «не в себе» в силу непонимания субстанциальной<br />
значимости ее переходности. Ведь осуществление принципа развития может быть<br />
гарантировано от регрессивных откатов лишь в том случае, если принцип качественного<br />
изменения становится способом мышления, а не статическим «результатом» некоторой<br />
деятельности. Иначе говоря, противоречие формы перехода и переходной формы в процессе<br />
собственного разрешения очерчивает фундаментальную <strong>проблем</strong>у перехода самой<br />
Формы из абстрактно количественного выражения «единого» в «единство многообразного»<br />
реального движения собственного содержания. Можно сказать, что степень превращения<br />
принципа «превращения всего во все» в принцип мышления является критерием<br />
действительного развития. Эта <strong>проблем</strong>а может быть понята в контексте развития вообще.<br />
Поэтому, только в контексте субстанциального развития мира в целом может быть<br />
разрешено противоречие узкого образования и всестороннего развития человека. Ведь<br />
ограниченное общественное сознание сформировано на отражении и последующем<br />
осмыслении ставших форм — «результата без становления». Но непосредственность как<br />
монистическая тотальность должна в своем существенном историческом начале предстать<br />
как идеально-практическое самоопосредствование через многообразие единого<br />
процесса. Именно в другой форме, в самоопосредствовании становлением другого, персонифицированная<br />
сущность находит свою временную рефлексивность (рефлексию во времени,<br />
в ставшем «для-себя-бытием» русле времени). И если с этим другим возникает<br />
антагонизм (т. е. происходит снова раздвоение сущности на отчужденные трансцендентальность<br />
и трансцендентность), то адекватная саморефлексия как феноменологический<br />
принцип внутренней формы угасает — «Мир, который выходит из любых испытаний<br />
«с помадой на губах и кружевами на заднице, — как иронично Блез Сандрар, — это дразнящий<br />
мир потребления, мир безделиц и мимолетностей, в котором здравый смысл и идеалы<br />
сгорают на костре тщеславия; мир, над которым вновь нависли древние грозные<br />
призраки: войны, эпидемии, апокалипсисы — и где вновь слышится хриплый лай Цербера,<br />
завывание фурий и нет больше Орфея, чтобы зачаровать их музыкой. Кончилось время<br />
человека, настало время систем; сотворение уступило место воспроизводству. Время,<br />
когда существует только настоящее — вчерашнее, сегодняшнее, завтрашнее, время бессонницы,<br />
стирающей привычную триаду: прошлое-настоящее-будущее. Возникают и множатся<br />
промежуточные пространства, не привязанные к конкретному месту; образы<br />
дробятся, раскалываются на куски, подобно болидам Маринетти» [42, 223].<br />
Это реальность отрыва внутренней (непосредственно совпадающей с существенностью<br />
содержания) формы от формы внешней как такой, что тождественна наличному бытию<br />
в его предельной уязвимости перед метафизикой инстинкта самосохранения существования.<br />
Преодоление личностью разлома идеального в общественной системе, входящей<br />
в такой разлом, не только осуществляется в героике подвига, но требует через-мерное<br />
(за пределы впавшей в безмерность меры истории) напряжение духа. И это всегда трагедия,<br />
завершающаяся гибелью героя. В ее сокрытом феноменологическом устремлении,<br />
попытка свергнуть героев обнаруживает факт добровольного пленения «умного пескаря»<br />
в пустое пространство своего отсутствия в «мире мира» (Ф. Бродель). Разлом идеального<br />
и разлом человека взаимообусловливаются и взаимопредполагаются.<br />
Во внутренней форме пред-ставлено идеально-материальное единство основания.<br />
Но лишенная способности саморефлексии, превращенная форма утрачивает его (основания)<br />
идеальную атрибутивность. Одновременно, она утрачивает возможность превращаться<br />
в иное (как энтропия превращенных форм, постмодернизм, к примеру, обречен<br />
на рядоположенность оборванных смыслов). Но вне отраженности в ином, превращенная<br />
форма не отражает в себе иное, с неизбежностью вымогая болезненного представления<br />
и симулирования своей недостоверности. Пространственно-временная пауза внутренних<br />
и внешних модусов превращенной формы разрывает ее в негативности элементов распада<br />
антиномичних разностей.<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
348<br />
раздел второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ природа и место превращенных форм<br />
349
Аннигилируя возможность «уйти от себя» и вернуться к основанию, превращенная<br />
форма фрагментизирует идеальное до его распада в ней. В силу материально-идеальной<br />
амбивалентности ее саморазличений, она, как и шизофрения, не преодолевается. Ведь это<br />
не невроз ограниченности чувственного и логического восприятия единства мира, «ужаса<br />
вечного сомнения» (А. Блок) внешней, не владеющей своей существенностью, формы.<br />
Это раздвоение без единства, обрекающее превращенное сознание на шизоидный<br />
синдром пребывания в извращенном ином — в том, что противно сущности вообще. Идеальное<br />
здесь тоже ложным образом превращается — оно не снимается, а «испаряется»<br />
из сущности непосредственного. В современности — это негативность сворачивания становления<br />
в регрессивную «эмбриональность» культуры, выбирающую между ужасным<br />
концом и бесконечным ужасом в пользу «постомодерна» как феномена, отражающего<br />
распад в его жизненных проявлениях.<br />
Не отражаемая в ином и не отражающая иное, превращенная форма в себе суть замкнутая<br />
самоотраженность разрыва внутренней и внешней формы как следствие неразвитости<br />
внутренней формы, которая не может стать понятием и пространством чувств до тех<br />
пор, пока не пройдет весь цикл опосредствований существенных взаимосвязей реальности<br />
в общественной феноменологии индивидуального самосознания. Такой разрыв<br />
обусловливает феномен отсутствия границ превращенной формы — распад ее содержания<br />
осуществляется бесконечно однообразной повторяемостью самое себя, превращающееся<br />
в дурную бесконечность непреодолимых пределов. А преодоление невозможности<br />
внутренней формы в пространстве культуры не может быть привнесено извне — вот в чем<br />
предельный вопрос «жизни» и «смерти» человека и мира. Внутренняя форма имеет<br />
источник своего возрождения только в себе самой и этим источником является практическое<br />
воспроизведение, сотворение абсолютного основания мира. А опустошение<br />
внутренней формы обусловлено искусственным разрывом содержания от основания долженствующей<br />
истории в человеке.<br />
Превращение идеального в материальное как раз предполагает превращение подчиненного<br />
отношения к долженствованию в освобожденную свободу практики диалектики<br />
мышления и чувств. К примеру, в этой узловой <strong>проблем</strong>е, кажущейся догматикам «упрощенной<br />
философией», свернуто и развернуто тождество логического и эстетического<br />
в философии Э. В. Ильенкова. И жестокая иллюзия свободы без необходимости порождает<br />
оборотней истории, загоняющих ее в искусственно порожденный ад. Изгнание<br />
долженствования как детерминированной свободы и есть «плоский мир» (Т. Фридман),<br />
которой, при видимости сворачивания времен и пространств в единую связь информационной<br />
«паутины времен», выстраивается в дурную повторяемость «операционного» аутсорсинга<br />
ритуальных услуг по похоронам идеального. Но момент смерти последнего автоматически<br />
становится моментом смерти «его другого» — общественной истории.<br />
Форма взаимопревращения форм обнаруживает модус внутренней формы быть непосредственностью<br />
времени — если же внутренняя форма не высвечивается во внешней,<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
350<br />
а разлагается ею, то в таком разложении угасает и время. Таким образом, ложно превращенные<br />
формы переводят взаимоопосредствование процесса развития в чистую негативность<br />
зряшного пространства. Такое опосредствование утрачивает свою положительную<br />
направленность, замыкается в себе и становится отрицанием бесконечного в единичном,<br />
что с неизбежностью редуцирует всеобщую природу идеального до субъективистских<br />
интерпретаций смыслов. Это пространство сумасшествия субъективного идеализма,<br />
безразличной «толерантности» истребленной гносеологии, предполагающие собой<br />
не только истребление идеального, но и самих себя.<br />
В превращенных формах отношение количества не приходит к развитию качества<br />
переходом в другую меру, поэтому безмерность здесь приобретает характер количественной<br />
аморфности меры, ее отторжения сущностью. Основание в таком случае дробится<br />
на мозаику сплошной прерывности непосредственности, не постигающей себя<br />
в опосредованиях. И в самом деле, «диалектика мстит за пренебрежение к ее законам»<br />
(В. А. Босенко). А ведь выводя диалектику «внутреннего» и «внешнего», Гегель подчеркивал:<br />
«Внутреннее есть основание в качестве пустой формы одной стороны явления и отношения,<br />
в качестве пустой формы рефлексии-в-самое-себя, которое противостоит<br />
точно также существование как форма другой стороны отношения с пустым определением<br />
рефлекси-в-другое — как внешнее. Их тождество есть наполненное тождество, содержание,<br />
положенное в процессе движения силы единства рефлексии-в-самое-себя и рефлексии-в-другое.<br />
Оба (внутреннее и внешнее) суть та же самая единая тотальность<br />
и делают это единство содержанием» [4, 1, 307], a «содержание как таковое есть то, что<br />
оно есть лишь благодаря тому, что оно содержит в себе развитую форму» [4, 1, 299].<br />
В пространстве возвращенных (как новое содержание превращенных) форм рождается<br />
стремление к новому отрицанию самоопосредствования непосредственного разумным.<br />
На первый взгляд, повторяется описанная Гегелем логическая ситуация: «Лишенная мысли<br />
чувственность, принимающая все ограниченное и конечное за сущее, переходит в упорство<br />
рассудка, настойчиво понимающего это ограниченное и конечное как нечто тождественное<br />
с собой, в самом себе непротиворечивое» [4, 1, 268]. Но в стремлении лишиться<br />
собственной противоречивости и в добровольном замыкании в границе чувственного<br />
современный алогизм идеального проявляется новой формой иррационального и порождает<br />
новые трансценденции абстрактного и конкретного. Такие трансценденции уже<br />
не вписываются в академическое понимание материализма и идеализма как принципов<br />
познания и мироотношения.<br />
Внутренняя форма находит себя не в тождестве с собой, а в диалектическом противоречии<br />
с другой формой как с собственным инобытием. В инобытии она подчиняет себе<br />
форму внешнюю, распространяя на нее диалектический характер непосредственного развития.<br />
Если не преодолевается безразличие внешней формы как необходимое условие<br />
преодоления собственной «изнаночности», внутренняя форма оседает в псевдо эстетике<br />
вновь абстрагирующегося от реальности духа. В феноменологическом отношении перераздел<br />
второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ природа и место превращенных форм<br />
351
ходная форма мучительна, ибо она не только не воспринимается определенностью индивидуального<br />
мировосприятия и миропереживания, но, при отсутствии теоретического<br />
самосознания, консервирует человека в статусе слепого момента связи обезразличенных<br />
или формализованных отношений. В этом случае переходная форма не выполняет свое<br />
предназначение — быть логико-чувственным тождеством процесса восхождения личности<br />
к субъективированной степени меры мира. Напротив, она переводит индивидуальное<br />
бытие в статус слепой жертвы исторических и социальных обстоятельств и обрекает<br />
индивидуальность на распад творческого воображения.<br />
Политический период метафизики основания в виде диалектики и метафизики взаимопревращений<br />
внешней и внутренней форм представляет собой драматический процесс<br />
прорывов внутренней, осуществляющей «абсолютное само-отталкивание» (Гегель)<br />
формы в пространство формы внешней. Это прорывы, с необходимостью ориентированные<br />
на преодоление зазора между неопределенностью внутренней формы и безразличными<br />
границами формы внешней. Достижение опосредованного идеального в практике<br />
становления тотальности индивидуальной чувственности осуществляется при сохраняющейся<br />
возможности превращения таких прорывов в метафизическую превращенность,<br />
когда границы внешней формы достигаются, но выхода за их предел не происходит. Ярко<br />
описывает логику устремленности внутренней формы к внешней самореализации сущности<br />
человека в этих параметрах И. Муратова: «Человек является страдающим существом,<br />
но не просто потому, что его сущность предметна, и не только потому, что эта его сущностная<br />
предметность субъективна в общественном, историческом смысле как ставшая в совокупной<br />
деятельности человечества, и даже не потому, что он осваивает эту сущность<br />
как свою сам, в собственном самоосуществлении, собственноручно вырабатывая свою<br />
сущность в качестве органов своей индивидуальности, в качестве своих способностей<br />
и потребностей. Это, так сказать, только присказка. Творчество как человеческое страдание<br />
есть осуществление на деле человеческой действительности как такой, которая “соответствует<br />
его сознанию и должна быть создана им самим”. Именно поэтому человек<br />
в этом отношении к себе самому как к общественному, всеобщему существу ощущает,<br />
переживает и осознает свое страдание, т. е. обладает страстью. Когда человеческая сущностная<br />
сила существует для себя, т. е. в качестве субъективной способности, в качестве<br />
субъективного богатства субъективной человеческой чувственности, она энергично стремится<br />
к своему предмету, стремится проявиться и утвердиться как человеческая и в своем<br />
бытии, и в своем знании» [43, 8–9].<br />
Единство мира должно и может предстать принципом единства самосознания в той<br />
степени, в какой оно становится диалектикой творчества основания во внешних проявлениях<br />
исторической жизни. Вместе с тем, этот процесс еще «спотыкается» на возможности<br />
стать единством чувств, квинтэссенцией которых выступает страсть. Это связано с тем,<br />
что в историческом бытии равной степенью переплетается бескультурье прошлого времени<br />
и «онтологически» обусловленные тем же временем крайности противоречий. Сплав<br />
таковых порождает особого рода пристрастия, когда может затормозиться или полностью<br />
исказиться процесс образования и формирования потребности и способности<br />
радостно пережить напряженность исторической жизни. В равной степени здесь же,<br />
в зависимости от внешних событий и степени слияния их с субъективным переживанием<br />
исторического процесса, возможна подмена единства обеих форм как ложная субъективация<br />
основания. Основание подменивается не субъективным идеализмом (слишком<br />
напряжена реальность), а специфической формой метафизического, сопряженного<br />
с неразвитой мерой индивидуальной культуры, материализма. Поэтому, бесконечная<br />
метафизика превращений как превращенность развития в формализм демагогии, сопрягается<br />
с искаженной критикой характера зряшных производных форм. Искаженный<br />
характер такой критики обусловливается подменой тотальности основания абстракциями<br />
«художественной тотальности», которая наблюдается во всех попытка вместить<br />
коллизии истории в «пост-»образности «пост-»искусства.<br />
Возможно, было бы достовернее вскрывать природу так званого «тоталитаризма» как<br />
явления господства внешней, неправомерно присвоившей себе всеобщее, формы. Феномен<br />
такого господства обусловлен затушевыванием или искажением логики развития<br />
основания в множественности взаимоопосредствований противоречий реальности. Более<br />
доступная пониманию и чувственному восприятию, в ситуации возникновения крайнего<br />
противостояния диалектики и догмы, внешняя форма легко навязывает себя обществу.<br />
В силу объективных причин, когда имеет место сочетание отсутствия культуры мышления<br />
и культуры чувств с порывом истории и сопровождающим его огромным напряжением,<br />
прогрессивная траектория превращения основания всеобщего во всеобщее основание<br />
всегда будет пребывать под угрозой профанации. Отсюда особое доверие упрощенным<br />
схемам (и личностям) и недоверие к тому, что недоступно пониманию. Таким образом,<br />
метафизика господства внешней формы кроется в слабости феноменологического опосредствования<br />
исторического творчества идеальной и материальной логикой истории,<br />
как и видения субстанциальных моментов таковой в пространстве сотворения подлинной<br />
— очеловеченной — эстетики истории.<br />
Подмена единого мира и утверждение ложных форм реальных отношений утверждается<br />
незаметно, но стойко. Первичная саморефлексия формы предстает абстрактно<br />
отраженной в принципе отдаляющегося идеала — внутренняя форма отрывается от собственного<br />
содержания и становится нарочитой, а, значит, пресыщается собой. Вследствие<br />
такого пресыщения, ее содержание превращается в находящую себя в воображении<br />
абстракцию. В этом превращении находит свои субъективные предпосылки революционное<br />
искусство — революционный театр с его надуманными вариациями. Как чувственносубъективированное<br />
основание, модернизм отражает не только факт манипуляции<br />
«освобожденными» формами, но также неспособность и невозможность достоверности<br />
внутренней формы в наличном бытии. Она перемещается в пространство исторической<br />
мечты, когда порыв подменивается импульсом, самосознание регрессирует до состояния<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
352<br />
раздел второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ природа и место превращенных форм<br />
353
тальный вектор переходного периода как исторической предпосылки сворачивания форм<br />
общественного сознания имманентен процессу преодоления метафизики и антагонизма<br />
внешних форм общественных отношений. Ведь, при отсутствии категориально-индивидуальной<br />
определенности содержания развития, «выдвижение» сущности внутренней<br />
формы переходного периода является опережающим свойством «трансцендентально<br />
априорной формы всеобщего» (Кант). Только по причине свойства образа опережающего<br />
опосредования эстетической формой общественного бытия (несмотря на отрыв внутренней<br />
формы в искусстве и в пространстве непосредственного «Я») внешняя, в своей первичной<br />
всеобщей значимости, форма исчерпывается как провоцирующая действие<br />
и утверждается как превращенное отражение.<br />
Почему это наиболее очевидно именно в искусстве? Потому что, следуя обратной логике<br />
снятия отчуждения, идеальными формами которого выступают формы общественного<br />
сознания, искусство (опосредованное нравственностью как опредмеченного в индивидуальной<br />
воле долженствования) в его первичном значении (теории чувственного)<br />
вступает в непосредственное противоречие с философией как теорией сущностного<br />
самосознания. Речь идет о процессе разрешения противоречия мышления и чувств, что<br />
и является реальным преодолением дуализма сущности в индивидуальной жизнедеятельности.<br />
Принцип монизма как тождество мышления и бытия утверждается в тождестве<br />
чувственного самосознания и самосознания чувств. В разрешении данного противоречия<br />
эти две отчужденные в классической истории «стороны» человека прекращают овнешненное<br />
отношение. В непосредственно личностном монизме основания кроется не только<br />
«тайна» отмирания форм общественного сознания, но и преодоления абстрактных форм<br />
становления всеобщего, каковыми формы общественного сознания являются. Здесь сокрыта<br />
от чувственного созерцания и тайна критерия истинности становления всеобщего в единичном,<br />
поскольку такое становление представляет собой уход в основание форм общественного<br />
сознания через их восхождение в основание практики чувств как образа жизни<br />
культурного человека. Преобладание внешней формы над формой внутренней порождает<br />
не только феномен, когда формы общественного сознания не снимаются в основании,<br />
но и феномен бессилия основания преодолеть себя в качестве идеального принципа<br />
пространства чувственного бытия. Но, в силу того, что такой процесс опосредован идеологией<br />
и изменениями в характере труда, отмирание форм общественного сознания<br />
предполагает также разрешение противоречия политики и культуры.<br />
Метафизика отражения будущего времени кроется также в таком феномене преобладания<br />
внешних форм, когда индивидуальная форма находит другое-для-себя, но не находит<br />
другое в-себе. Поэтому противоречие первого и второго отрицания в реальном движении<br />
бытия не разрешается. Первичная рефлексия формы остается поиском себя,<br />
но не другого и на этом может остановиться навсегда. Отсюда, прежде всего, эгоизм творческого<br />
потребления. Пробуждение к внешнему миру как саморефлексия в истории<br />
обусловливается преобладанием рефлексии себя в другом над отражением другого в себя,<br />
«инсайта», что, в свою очередь, распространяет логическое поле мечты и творческого<br />
воображения на зыбкость исторического самосознания. К примеру, для догматической<br />
«критики буржуазного искусства», в биографии Эрнеста Че Гевары может показаться<br />
случайным и даже недостойным для революционера такого масштаба его увлеченность<br />
импрессионизмом. Но, следуя за логикой его насыщенных пафосом истории (даже тогда,<br />
когда речь идет об обыденных явлениях) произведений, напрашивалась мысль о том, что<br />
в своей субстанциальности импрессионизм раскрывается как эстетика опережающего<br />
действительность сознания. А первичное наслаждение формой происходит не только<br />
в момент ее рождения в творческом воображении, но и как пред-чувствие и пред-переживание<br />
творения основания. Действительно, кто не пережил исторических скачков,<br />
не представляет себе их величественной, торжественной красоты. Сотворенная в художественном<br />
воображении форма будущего как идеально-чувственная способность творения<br />
имманентности настоящего времени, непосредственного движения до его воплощениязавершения<br />
в пространстве чувств и как пространство истории порождает не только<br />
бесконечность форм в сиюминутности воображения, но, благодаря такому воображению,<br />
позволяет пред-«увидеть» целостность будущего.<br />
Радость творчества истории опережает время практики как воплощения «мечты»<br />
не только гносеологически, как воплощение «априорно данной» логики истории формы.<br />
«Пред-увидение» тесно переплетено с укореняющимся в непосредственном принятии<br />
основания пред-чувствием. Но, в силу характера своей непосредственности, «панорама»<br />
таких форм не поддается художественному воплощению и не имеет времени для него.<br />
С одной стороны, чувственная непосредственность основания не может быть адекватно<br />
представлена в идеальной форме общественного сознания, а искусство является одной<br />
из таких форм. Историческая образность чувственной непосредственности становится<br />
предельно идиоматичной для искусства и в силу этого, как никогда требует метафоричности,<br />
ищет аналогий, не имея их, требует сравнений, не обладая предметностью для<br />
таковых в прошедшем времени. Образность чувственной непосредственности этого периода<br />
обречена на то, чтобы попасть в логическую ловушку интерпретаций, в изобилии<br />
и количественной бесконечности отражены в искусстве ХХ столетия.<br />
Проблема метафизики господства внешней формы проявлялась и в том, что она<br />
искала и, как отражающая и отраженная, находила себя в претендующем на выражении<br />
единства долженствования и непосредственного в социалистическом реализме. Феномен<br />
последнего обозначал собой предел классических параметров искусства объективной необходимостью<br />
выхода образности формы и содержания за такой предел. Вместе с тем,<br />
необходимость удержания идеологического фундамента в искусстве, которое продолжает<br />
оставаться формой общественного сознания и должно сыграть свою роль в разрешении<br />
сохраняющихся исторических антагонизмов, обусловливает консервацию такого<br />
предела. В силу названных причин, искусство не только консервируется в статусе внешнего<br />
эталона, но и продолжает воздействовать как внешняя форма. Поэтому, фундаменмария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
354<br />
раздел второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ природа и место превращенных форм<br />
355
потреблением формы как реализация в другом, но не реализации другого в себе и через<br />
себя. Из этого процесса следует консервация в системе средств не только другого человека,<br />
но и целых пластов общества (если не общества в целом). Даже в случае удовлетворения<br />
материальных потребностей, вещественность общественных отношений меняет свой<br />
характер, переставая быть потребительством вещей, но, не переставая быть потребительством<br />
другого человека.<br />
Поскольку основание может обосновать себя практическим выходом из пределов становления,<br />
пространством его самообоснования выступает внутренняя форма, в которой<br />
оно пребывает как непосредственная достоверность. По своей природе, внутренняя<br />
форма превращает логическое опосредствование и идеальную форму всеобщности в чувственную<br />
границу своей конкретности. Она сама суть доразвитие логического до чувственного,<br />
их имманентное тождество. В данном превращении также возможна возвратная<br />
форма, но уже в том значении, которое Гегель называет прогрессом в той степени, в какой<br />
она суть действительное снятие. Это суть снятие даже тогда, когда в видимости оно<br />
выглядит безмерностью, так как здесь «безмерность есть, прежде всего, выхождение<br />
меры в силу ее количественной природы за пределы своей качественной определенности.<br />
Но так как это другое количественное отношение, которое в сравнении с первым безмерно,<br />
тем не менее, также качественно, то безмерное есть также мера. Эти два перехода<br />
(от качества к определенному количеству и от последнего опять к качеству) могут быть<br />
представлены как бесконечный прогресс — как снятие и самовосстановление меры в безмерном»<br />
[44, 261].<br />
В превращенных формах обратное отношение количества не приходит к развитию<br />
(снятию) качества переходом в другую меру, поэтому безмерность здесь приобретает<br />
характер количественной опустошенности меры, утраты ее из сущности, или утраты сущности<br />
в мере. Основание дробится на мозаику сплошной (недиалектической, неопосредованной)<br />
прерывности непосредственного. Утрачивая адекватность качеству и циклам<br />
постклассического времени, время выстраивается в плоскости, в арабскую систему координат,<br />
в новую, но обращенную вспять эволюционную линию. Будучи трансформированным<br />
тождеством идеального, внутренняя форма принципиально иначе «соотносится»<br />
с «логическим полем» мира, а в случае утраты логики, непосредственность сводится<br />
к собственной физиологизации. Но тогда основание дробится и на мозаику рассудочного<br />
восприятия мира. Здесь прогрессивность возвратной формы получает возможность<br />
превратиться в собственную регрессию, в отрицательное движение по алогизму прошлого<br />
времени. Отсюда происходит сартровская констатация: «я выбрал в качестве будущего<br />
прошлое великого мертвеца и попробовал жить наоборот. Между девятью и десятью<br />
годами я стал совершенным “постум”. Я перевернул время наоборот, и все стало ясным»<br />
[45, 18–19], и вариации Курта Воннегута по современным проявлениям истребляющих<br />
время возвратных форм: «катаклизм в 2001 году отбросил нас обратно в 1991-й, он превратил<br />
десять уже прожитых нами лет в будущее, и, стало быть, мы сможем вспомнить<br />
обо всем, что мы делали и говорили, когда подойдет время сделать это снова» [46, 37];<br />
«бесполезно было жаловаться, что ничего не происходит, только повторяется старое,<br />
бесполезно было задумываться, а не поехала ли у тебя крыша, бесполезно было задумываться,<br />
а не поехала ли крыша заодно и у всех на свете сразу. Вы ничего не смогли сделать<br />
во время “вторых” десяти лет, если вы не сделали этого во время “первых”. Вы даже<br />
не смогли спасти собственную жизнь или жизнь любимого человека, если вам это не удалось<br />
в “первые” десять лет» [46, 9].<br />
Почему оборачивания — монстры и оборотни ложных опосредствований внутренней<br />
и внешней формы — принимают в экзистенциализме такое значение взаимопревращения<br />
настоящего и прошлого времени, что происходит самоотрицание времени? Отрицательная<br />
форма взаимопревращения форм обнаруживает модус внутренней формы быть непосредственной<br />
формы времени. И если не внутренняя форма становится через противоречивость<br />
с внешней формой и высвечивается через нее, а внешняя способна разложить<br />
первую, то в таком разложении угасает и время. Попытка себя спасти осуществляется<br />
через мутацию социального времени в пространства прошлого.<br />
Выводя диалектику внутреннего и внешнего Гегель подчеркивал: «внутреннее есть основание<br />
в качестве голой формы одной стороны явления и отношения, в качестве пустой<br />
формы рефлексии-в-cамое-cебя, которое противостоит точно также существование как<br />
форма другой стороны отношения с пустым определением рефлексии-другое — как<br />
внешнее. Их тождество есть наполненное тождество, содержание, положенное в процессе<br />
движения силы единство рефлексии-самое-себя и рефлексии-в-другое. Оба (внутреннее<br />
и внешнее) суть та же самая единая тотальность, и делает это единство содержанием»<br />
[44, 1, 307], a «содержание есть то, что оно есть, лишь благодаря тому, что оно содержит<br />
в себе развитую форму» [44, 1, 299]. Из категориальности самоопределений формы и содержания<br />
с очевидностью высвечивается то, что непосредственное живет в том, что его<br />
опосредует в общем основании, и в том, чем оно опосредовано, и это его главное страдание<br />
как самопотребление себя в ином. Само опосредование становится существенной<br />
определенностью! Причем определенностью как форма, в которой и представлен<br />
процесс, а не статика ставшего времени. Нельзя иначе понять утверждение классика:<br />
«Присвоение человеческой действительности, ее отношение к предмету, это осуществление<br />
на деле человеческой действительности, человеческая действенность и человеческое<br />
страдание, понимаемое в человеческом смысле, есть самопотребление человека» [43,<br />
42, 120]. Ведь деформация исторического бытия сводит страдание к пространству физиологического<br />
выживания или к «рафинированным развлечениям» пресыщенных и потерянных<br />
культур. Именно поэтому, представляющий чувственную рефлексивность действительности,<br />
возврат в основание есть на деле утверждение диалектики внутренней<br />
и внешней формы в модусах непосредственной жизнедеятельности человека. Но если<br />
форма суть — прежде всего и в конечном итоге — опосредованная формой предметнопрактического<br />
производства и воспроизводства человека, то в пределах монистического<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
356<br />
раздел второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ природа и место превращенных форм<br />
357
основания производства человеческой непосредственности она перемещается из пространства<br />
формы жизнедеятельности в форму измененного ею характера деятельности.<br />
Внутренняя форма многообразна тем, что она есть единство многообразного, но предстает<br />
таким единством не в силу некоторой суммарности разностей, а тем, что, индивидуализируя<br />
всеобщее, она предстает бесконечным многообразием особенного.<br />
Таким образом, внутренняя форма находит себя не в тождестве с собой, а в диалектическом<br />
противоречии с другой — собственным инобытием — формой. В инобытии она<br />
подчиняет себе форму внешнюю, распространяя на нее диалектический характер непосредственного<br />
развития. Если не преодолевается безразличие внешней формы как необходимое<br />
условие преодоления собственной «изнаночности», внутренняя форма оседает<br />
в псевдоэстетике вновь абстрагирующегося от реальности духа. В феноменологическом<br />
отношении переходная форма мучительна, ибо она не только не воспринимается определенностью<br />
индивидуального мировосприятия и миропереживания, но, при отсутствии<br />
теоретического самосознания, консервирует человека в статусе слепого момента связи<br />
обезразличенных или формализованных общественных отношений. В этом случае переходная<br />
форма не выполняет своего предназначения — быть логико-чувственным тождеством<br />
процесса восхождения личности к собственной степени меры мира. Напротив, она переводит<br />
индивидуальное бытие в значимость слепой жертвы исторических и социальных<br />
обстоятельств. Политический период метафизики основания в виде диалектики и метафизики<br />
взаимопревращений внешней и внутренней форм представляет собой драматический<br />
процесс прорывов внутренней, осуществляющей «абсолютное самоотталкивание» (Гегель)<br />
формы в пространство формы внешней. Это прорывы, с необходимостью ориентированные<br />
на преодоление зазора между неопределенностью внутренней формы и безразличными<br />
границами формы внешней. Достижение опосредованного идеального в практике<br />
становления тотальности индивидуальной чувственности осуществляется при сохраняющейся<br />
возможности превращения таких прорывов в метафизическую превращенность,<br />
когда границы внешней формы достигаются, но выхода за их предел не происходит.<br />
Более доступная пониманию и чувственному восприятию, в ситуации возникновения<br />
крайнего противостояния диалектики и догмы, внешняя форма легко навязывает себя обществу.<br />
В силу объективных причин, когда имеет место сочетание отсутствия культуры<br />
мышления и культуры чувств с порывом огромного исторического масштаба и напряжения,<br />
прогрессивная траектория превращения основания всеобщего во всеобщее основание<br />
всегда будет пребывать под угрозой профанации. Отсюда особое доверие упрощенным<br />
схемам (и личностям) и недоверие к тому, что недоступно пониманию. Таким<br />
образом, метафизика господства внешней формы кроется в слабости феноменологического<br />
опосредствования исторического творчества идеальной и материальной логикой истории,<br />
как и видения субстанциальных моментов таковой в пространстве созидательного<br />
этапа переходного периода.<br />
МЕТАФИЗИКА ВНУТРЕННЕЙ ФОРМЫ<br />
…Расписаны были кулисы пестро,<br />
Я так декламировал страстно!<br />
И мантии блеск, и на шляпе перо.<br />
И чувства — все было напрасно.<br />
Но вот, хоть уж сбросил я это тряпье,<br />
Хоть нет театрального хламу,<br />
Доселе болит еще сердце мое,<br />
Как будто играю я драму.<br />
И что я поддельною болью считал,<br />
То боль оказалась живая —<br />
О, боже! Я раненный насмерть играл!<br />
Гладиатора смерть представляя!<br />
Генрих ГЕЙНЕ, сонет 44<br />
Практическая и теоретическая области современности характерны<br />
новыми формами абстрактного материализма и абстрактного<br />
спиритуализма, отражающиеся не только в современных<br />
вариациях философской рефлексии, но и в предельном размежевании<br />
«абстрактного» и «натуралистического» искусства. В отличие<br />
от классических вариаций последних, современные, будучи<br />
связаны с регрессивной реэволюцией истории, мимикрируют<br />
в постмодернистский бесчувственно-алогичный симбиоз субъективности.<br />
В пространстве возвратных форм рождается претензия<br />
на новый статус непосредственности, отрицающей необходимость<br />
самоопосредствования разумным. На первый взгляд, повторяется<br />
описанная Гегелем логическая ситуация: «Лишенная мысли чувственность,<br />
принимающая все ограниченное и конечное за сущее,<br />
переходит в упорство рассудка, настойчиво понимающего это<br />
ограниченное и конечное как нечто тождественное с собой, в самом<br />
себе непротиворечивое [44, 1, 268]. Но современный алогизм<br />
пытающейся пресечь свою отрицательность и сознательно замыкающейся<br />
в себя чувственности предстает новой формой ирраци-<br />
раздел второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ метафизика внутренней формы<br />
359
тельство социальной значимости» [47, 14]. Понимание конечности форм и их внешнего<br />
взаимопревращения было присуще и метафизическому материализму. Такого рода взаимопревращения<br />
не требуют особенной способности суждения, или особенной рефлексии.<br />
Как и особых теоретических конструкций. С другой стороны, потребление форм, лишенных<br />
существенной содержательности, порождает особое формообразование, сопровождающееся<br />
не только формальным искусством, но и произволом накопляющихся внешних<br />
форм, лишенных своих внутренних определенностей — когда движение человека (мысли)<br />
«по контуру предмета» понимается как движение по его внешней форме, то социальная<br />
форма опредмечивания мышления отсутствует. Но в том-то и дело, что такое понимание<br />
совпадения материальной и идеальной формы ограничивается наглядной очевидностью<br />
их внешних взаимопревращений и созерцанием подобного превращения в качестве «естественной»<br />
посылки для банального утверждения, что «все формы превращаются».<br />
К сожалению, констатация последнего факта не приближает понимание такого развития,<br />
когда превращение форм тождественно их свободной игре в свободной деятельности,<br />
а форма есть не только содержание, а «в своей развитой определенности она есть закон<br />
явлений» [44, 1, 298].<br />
Рассудку, замутненному эмпирическим хаосом искаженных форм бытия (вывернутых<br />
основ, изуродованных границ сущего, потрясений внутреннего и внешнего, галлюцинацией<br />
опредмеченных пустот, расплывшихся в аморфности символов, неставшести бесконечно<br />
самопреодолевающих себя форм бесконечности, изуродованного бытия), трудно заметить,<br />
что исключительно в узловом моменте диалектики превращения внутренних и внешних<br />
форм всеобщего основания присутствует тождество исторического и космического<br />
(исторической космогонии) как эстетическая феноменология истории. Действительно,<br />
природу превращенных форм нельзя понять вне субстанциальной меры «переворачивания»<br />
основания мира в человеческой истории. В силу непосредственности данности закона<br />
основания, обыденное сознание может «проникнуться» его значимостью, но логически<br />
оно остается в плоскостном пространстве количественного «размножения» одних и тех<br />
же форм, привыкает к их постоянству, стремится к нему и пытается защититься им. Форма<br />
в данном случае воспринимается как повторяющееся, само себя копирующее пространство<br />
обыденной предметности. Она не воспроизводится как форма времени, в том числе,<br />
и как форма сбрасывания временем своих собственных форм (Шекспир).<br />
В пределах качественного изменения отношения мышления и бытия новая логическая<br />
ситуация усложнена самой диалектикой восхождения абстрактного в конкретное —<br />
взаимопревращение идеального и реального происходит в монистическом основании.<br />
В силу первичного преодоления дуализма сущности, временно исчезает овнешненный<br />
характер их (материального и идеального) взаимоопосредствования. А одновременно<br />
с исчезновением «внешнего» взаимоопосредствования исчезает и относительная «самостоятельность»<br />
идеального и реального, а с нею — возможность (хотя и условная)<br />
охватить момент или, по меньшей мере, результат их взаимопревращения. Известное<br />
онального и порождает новые трансценденции абстрактного и конкретного. «Новый»<br />
абстрактный материализм и «новый» абстрактный спиритуализм смыкаются в обрывках<br />
оторванных от реальной предметности трансформаций субъективного. Последние рождаются<br />
из пересечения незавершенных — несвершившихся в чувственном времени —<br />
культурных пространств. Но положительное распредмечивание несбывшихся культурных<br />
пространств возможно при условии логического и практического распредмечивания<br />
всеобщей форм логики истории в способе превращения отрицательности становления<br />
в положительность «самодостаточного» основания. Поскольку чувственно-теоретическая<br />
феноменология истории актуализируется тогда, когда происходит качественная<br />
смена основания в пределах меры единичного человека, то преодоление новой иррациональности<br />
связано с формированием единичного способа саморазвития индивида, освобождением<br />
его от навязанного схематизма общего. Ведь схема как «общепринятая»,<br />
чисто рациональная форма всеобщего унифицирует познание, обезразличивает мироотношение<br />
и, в конечном итоге, вызывает к своей агрессивной, догматически навязанной<br />
извне эстетике отталкивание или отвращение. Провозглашенный принцип свободы раздваивается<br />
на антиномию политической и культурной свободы. Крайности сходятся,<br />
и современность являет собой непрекращающуюся социальную дифференциацию<br />
по принципу взаимоисключения «политической» и «культурной» «свобод», которая<br />
сопровождается искусственным приращением виртуальных пространств своеобразного<br />
феноменологического протестантизма.<br />
Механистическое переложение понятий о культуре на сферу непосредственного превращается<br />
в приложение некоторых условно понятых схем к замыкающейся перед ними<br />
самости. Подобный способ «формирования человека» далек от подлинной действительности<br />
его сущностного становления. В сомнительной эффективности такого процесса<br />
образовывается карикатурность в основании, в котором карикатурности не должно быть.<br />
Речь идет не о великих образцах искусства и не о проявлении феноменологической культуры<br />
по высшим критериям во времена великих исторических испытаний. Речь идет<br />
о причинах и формах карикатурного окультуривания индивида в «обычной» («повседневной»)<br />
жизни, превратившиеся впоследствии в субъективную предпосылку отказа<br />
от идеально-всеобщего (идеала) в его логических, эстетических и этических измерениях.<br />
С одной стороны, гносеологический предел современности «защищен» сомнительной<br />
«истиной» апологетики потребления формы, вплоть до ее крайнего выражения в виде<br />
избыточности налагаемой на потребляемый предмет социальной иерархии. Ж. Бодрийар<br />
называет такой феномен «демонстративным потреблением». «В этом парадоксальном<br />
определении предметы, следовательно, оказываются местом не удовлетворения потребностей,<br />
а символической работы, “производства” в двойном смысле термина pro-ducere —<br />
их производят, но их производят и в качестве доказательства. Они являются местом<br />
освящения некоего усилия, некоего неоконченного осуществления, какого-то stress<br />
for achivement (стремление к достижению, англ.) создать постоянное и ощутимое доказамария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
360<br />
раздел второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ метафизика внутренней формы<br />
361
утверждение Бернштейна: «движение — всё, конечная цель — ничто» имело своей предпосылкой<br />
именно этот, лежащий на поверхности исторических процессов, феномен<br />
принятия самих превращений за самоценность исторической деятельности. И если<br />
в политическом и экономическом отношении это была иллюзия, в феноменологическом<br />
отношении это было раскрытием ключевой (хотя и неоправданно оторванной от своей<br />
практической достоверности) истины самоценности человеческой деятельности.<br />
С одной стороны, в монистическом основании овнешненные формы не принимают<br />
значения отчужденных форм. Будучи оторванными от сущности развития, отчужденные<br />
формы являются превращенными, но превращенные формы не всегда являются отчужденными.<br />
Иными словами, неотчужденные превращенные формы связаны с отсутствием<br />
политико-экономических предпосылок отчуждения, но связаны с сохраняющемся общественным<br />
разделением труда, которое не способствует утверждению тотальности человеческой<br />
непосредственности. В этом смысле, превращенные формы выступают результатом<br />
сохранения определенной оторванности процесса развития от развития реального<br />
индивида и возникают в ней. Следовательно, неотчужденные превращенные формы суть<br />
абстракция (экстракция) развития от развития в основании, в котором наличие такой<br />
абстракции должно «на деле» преодолеваться. Как таковые, они симулируют развитие<br />
в отрыве от его предметности и симуляция такого беспредметного развития сопровождается<br />
симулированием эстетики и отражается в симуляции образности отражения, как и в<br />
симуляции форм в пространстве искусства.<br />
Поскольку в своей самостоятельной особенности превращенные формы возможны<br />
в рамках истории, становящейся через субъективацию основания, они обладают объективными<br />
предпосылками лишь в той степени, в какой теоретическая ограниченность<br />
(и даже невежество) субъекта истории становится активным фактором идеологии. Таким<br />
образом, природа неотчужденных превращенных форм непосредственно связана с особенностями<br />
многообразия превращений основания мира в специфическом пространстве<br />
переходного периода всемирной истории. Они находят свое уже феноменологическое<br />
пространство в трагически напряженном несоответствии логики сознания и логики<br />
дела. «Пост» философия, «пост» искусство разражаются своими логико-эстетическими<br />
фантасмагориями именно в пространстве этого перехода, который никак не может «разродиться»<br />
самопреодолением. Отсутствие видимой устойчивости классического времени,<br />
«простоты» эмпирической реальности, ведущей за своей сложной логикой упрощенную<br />
логику общественного сознания переходного периода, «повсеместность» и «одновременность»<br />
процесса, за который «не поспевает» индивидуальное сознание, порождает превращения,<br />
содержание которых не поддается как рассудочному «учету и контролю», так<br />
и пластическому воплощению. Отсюда <strong>проблем</strong>атичность способности видения за кажущимися<br />
ординарными явлениями «основных», сущностных противоречий истории и,<br />
соответственно, неспособность художественного опережения ее как будущего, а также<br />
вытекающий из такой неспособности обращенный эмпиризм воспроизведения прошлого<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
362<br />
в «обновленных» временем формы настоящего. Отсюда же и возможности негативных<br />
превращенных форм, которые также не имеют объективного основания в данном переходе,<br />
но и не могут быть соотнесены в чистом виде с субъективными состояниями или<br />
с субъективными предпосылками.<br />
Таким образом, нераспредмеченное, остающееся трансцендентальным переходное<br />
пространство феноменологии истории, пред-задает себя в изолированных случайными<br />
дискретностями моментах превращения одних противоречий в другие. Отсутствие<br />
непосредственной эмпирической результативности цели переходного периода<br />
и субстанциально обусловленное превращение самого процесса в существенную ценность<br />
деятельности, когда само превращение становится самостоятельным и самодостаточным,<br />
сопряжены друг с другом. Предметностью деятельности становится сама<br />
деятельность, когда особенным образом снимается утилитарность деятельности<br />
и утверждается деятельность в ее субстанциальной противоречивости бытия и ничто, которое,<br />
при абсолютизации ее самоценности, подменивает видимостью своей «тут» и «теперь»<br />
значимости существенную векторность развития.<br />
Субстанциальное превращение основания ставит человеческую цивилизацию «лицом<br />
к лицу» с собой. Но, будучи неподготовленным к теоретическому постижению основания,<br />
цивилизация проваливается в основание как в бездну. Отрицательность основания<br />
в пространстве форм общественного сознания, как и в метафизике чувственного, предстает<br />
негативом реальности. «События потекут по временному руслу, подчиняясь закону<br />
основания» (Андрей Белый) лишь до такой черты, в которой абстрагирование существенности<br />
процесса исторической деятельности (как из политического пространства общественного<br />
идеала, так и из идеологического пространства общественного сознания) превратится<br />
уже в претендующую на самостоятельность абстракцию субъективизма. Поэтому<br />
«уход в основание» как попытка рефлексии превращений форм, превращается в уничижение<br />
и само-у-ничто-жение содержания исторических универсалий. В отличие от положительных<br />
— рефлексирующих себя в основании — возвращенных форм, превращенные<br />
формы предстают саморазрушением чувственной достоверности не только актуальности<br />
прекрасного, но и актуальности истины. Происходит слияние возвращенных и превращенных<br />
форм, а в нем продуцируется мистерия нового — уже художественного «эмпириокритицизма».<br />
Пространство превращенно-возвращенных форм становится предпосылкой и средой<br />
восприятия культуры отчужденного типа. В этом смысле, постмодернизм «принялся»<br />
тогда, когда началась его деградация до полной утраты сущностных параметров логики<br />
и эстетики существования. Характеристика Ж.-Ф. Лиотаром постмодернизма как «некоего<br />
“ана-процесса”, процесса анализа анамнеза, аналогии и анаморфозы, который перерабатывает<br />
нечто “первозабытое”» [48, 59] присуща не только постмодернизму как таковому,<br />
но прежде всего процессу деструкции общественного сознания. По-видимому,<br />
следует четко отличать обращенность рефлексирующего классического мышления, котораздел<br />
второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ метафизика внутренней формы<br />
363
рое положительно снимало логику собственного становления («Однажды Гегель ненароком<br />
/ И, вероятно, наугад / Назвал историка пророком / Предсказывающим назад», —<br />
писал Шлегель) от обрывочных, не выдерживающих самих себя рефлексий «постклассики»<br />
(«перед нами новый уровень симуляции аутентичного, фрагмент в кубе, следы следов<br />
следов» /М. Рыклин/).<br />
Выведение логического кода становления — в этом цель обращенной рефлексивности<br />
классики. Но обращенность вспять превращенных форм изжитой из пространства культуры<br />
логики, лишенных способности рефлексировать и удерживать истину, характерно для<br />
негативной биографии непрожитого времени и оборачивается «временем жестоких чудес».<br />
Превращенная форма предстает как обрыв Формы-Основания. А там, где нет основания,<br />
не существует обоснования и, соответственно, не существует никаких аргументов.<br />
Отсюда раздражение философов, от которых еще требуют концептуальных обоснований<br />
(в случае, если ее уже не презирают) и не меньшая раздражительность субъектов искусства<br />
(в случае необходимости обоснования природы его субъективности). Отказываясь<br />
от предметности восприятия истории, новый эмпириокритицизм истребляет эстетическую<br />
способность суждения общественного субъекта в целом и прежде всего интеллигенции<br />
как культурно-теоретического «носителя» абстрактных форм. И метафизика «конца<br />
истории» скрывает и прикрывает за фасадом собственного бреда наяву лишь факт<br />
прижизненной смерти человека, ставшего пленником обманчивого пространства. Это<br />
уже не «живой убитый», как называли пленников в Древнем Египте. Субъект и жертва<br />
превращенных форм в одном лице становится «живым самоубийцей», но продолжает<br />
«осваивать» жизненное пространство собственными деформациями.<br />
Вхождение в форму предполагает выхождение из нее. Иначе говоря, вхождение<br />
в форму предполагает и тождественное ее развитие до восхождения в другое содержание.<br />
Вхождение же в пустое «ничто» не имеет возвращения к будущему. Поэтому уделом<br />
субъекта превращенных форм является его историческая гибель. В форме «ничто», равной<br />
ничтойности самой формы, жизнь ускользает, утрачивает свою существенность<br />
во времени. Поэтому превращенные формы в функции форм отражения являют собой<br />
бесконечное описательство гибели. Действительно, «мир как бы вываливается из процесса<br />
развития, деактуализируется и перестает существовать» [49, 225]. Он возвращается<br />
из формы возможности свершиться в аморфное, неподвластное разуму и чувствам ирреальное.<br />
Феноменальность такого возврата претендует на тотальность. Противоречие<br />
познания становится невыносимым — ускользает предмет рефлексии и сама рефлексия,<br />
ибо вне исторической вещественности, субстанциальности она невозможна. Некрофилическое<br />
«самоописательство» истории навязывает себя мировому пространству культуры<br />
и поэтому требует противостояния и сопротивления. Впрочем, превращенным формам<br />
в их возвращенном статусе неведомо, что они вообще не обладают характеристикой времени,<br />
прошедшего в том числе. «Превращенно-возвратные» формы выступают полифонией<br />
столкновений и разрыва границ времени настоящего в его противоречиях на стыке<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
364<br />
внешне взаимосвязанных форм культуры и обуславливают деформацию единого пространства<br />
монистического основания. Поскольку в пересечении фрагментов разносущностных<br />
границ субстанция человечества не может состояться как единая форма, она<br />
рассыпается в этих фрагментах. Возможные негативные трансформации в личностных<br />
пределах феноменологического разлома истории Кант представлял таким образом:<br />
«Подобно тому, как подчиненные сильного деспота гордятся тем, что деспот относится<br />
ко всем как к равным, так что самый обычный индивид считает себя равным с самым выдающимся<br />
человеком, поскольку оба, перед неограниченной силой властелина ничего<br />
не стоят, такими же равными считают себя и почитатели великого человека, поскольку<br />
преимущества, которыми они могли бы обладать один над другим, считаются несущественными<br />
в сравнении с достоинствами великого человека. Именно поэтому прославление<br />
великих людей предоставляют лишь мотив для склонности к осуждению авторитета личности»<br />
[50, 133]. Интересно, что данные трансформации Кант фиксировал для периода<br />
предыстории, и они возобновляются в пространстве превращенно-возвращенных форм<br />
так, что деспотизм относится не только к «великим диктаторам», а к тем персоналиям,<br />
которые реально осуществляют деструктивный прорыв времени.<br />
Проекция превращенно-возвратных форм в феноменологической деструкции сыграла<br />
определяющую роль в том, что ХХ столетие завершилось катастрофически обедненным<br />
великими персоналиями. Оно завершилось деперсонализацией не только на уровне<br />
«уменьшения» масштабов начавшегося восхождения «обычного» человека. Оно завершилось<br />
без повода для особой гордости «Исторической Личности», с наличием которой<br />
Тойнби связывал феноменологическую нагрузку надлома цивилизаций.<br />
Обрыв Формы-Времени оборвал и свое-временность философии и искусства. Разорванная<br />
хронология Логоса истории предстает не вследствие исчезновения эволюционной<br />
последовательности, а в том, что разрушается логика последовательного преодоления<br />
отчуждения через восхождение индивидуально-всеобщих форм мышления и чувств,<br />
так как обрыв Формы-Времени и обрыв непосредственного тождественны. Отсутствие<br />
восхождения не обладает положительным объективным смыслом, пресекает возможность<br />
становления человека действительностью, созидания им истории как истории собственного<br />
имени. Как крайность отождествления протяженности непосредственного<br />
и сиюминутности, обрыв Формы-времени переворачивает обрыв чувственного — чувства<br />
не удерживаются пространством и временем реальной истории. Не помнящая не только<br />
свое происхождение, но и саму возможность границ, их безумная безудержность возводит<br />
анархию надуманного впечатления в принцип индивидуального. Безумие и смерть<br />
истории начинаются тогда, когда метафизика превращенных форм всеобщего проникает<br />
в пространство бесконечного. Один из современников утверждает, что истины стареют<br />
не морально, а психологически и это потому что современность останавливается у порога<br />
нераспредмеченности времен.<br />
Парадоксальность этой «пост-» мировой ситуации в том, что ее «начало» (в синкрераздел<br />
второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ метафизика внутренней формы<br />
365
тичной значимости «основания–предпосылки–условия») и «конец» (как историческое<br />
свершение смысла человеческой жизни) не находится в отношении внешнего противоречия.<br />
Противоречие возникает в самом этом противоречии в виде неимманетной формы<br />
его самоопосредствования в единовременности и «внутреннего», и «внешнего». Это противоречие<br />
в противоречии является предпосылкой современной особенности категориального<br />
и эстетического содержания деформации. Причем деформации, опирающейся<br />
и претендующей на абсолютную феноменологизацию общественных противоречий. Это<br />
претензии новой субъективности, отрицающей Логос в его общественно-культурных<br />
трансценденциях и возводящей себя в абсолют. На фоне теоретической и эстетической<br />
неразвитости общества в целом, при объективной синхронизации разносущностных<br />
предпосылок, такого рода субъективность обладает особенной негативной потенцией<br />
и ведет за собой увеличение масштаба последствий превращенных трансформаций внутренних<br />
и внешних форм культуры. Таким образом, природу деформации «пост» истории<br />
можно понять как процесс ложного опредмечивания ложно понятой природы внутренней<br />
формы Сущности как Абсолюта, и Сущности как Индивидуальности. А непонимание<br />
такой формы тождественно непониманию опосредствований внешних и внутренних<br />
противоречий исторического и личностного. В этом смысле, имеет место нераспредмечивание<br />
и не опредмечивание внутренней формы, включающей в себя собственные опосредствования<br />
с основанием и рефлексии последнего в становлении индивидуального самосознания.<br />
Такая форма одновременно суть субстанция определенности и свое идеальное<br />
постижение: «Форма как тотальность уже содержит в себе определение рефлексии-вcебе,<br />
или, иначе говоря, как относящаяся с собой форма, она обладает тем, что должно<br />
составлять определение материи» [44, 1, 293–294]. Но в своем отрицательно-феноменологическом<br />
самоопределении, такая форма суть диалектика индивидуального преодоления<br />
форм прошлого становления через творчество человеком субстанциальности своей<br />
особенности. Здесь необходимо отличать опосредствование как отрицательное отношение<br />
с собой диалектически развивающейся формы и как отрицательное в смысле перехода<br />
в регрессивное пространство, утверждения небытия как формы абсолютного отрицания<br />
развития.<br />
Возможно противопоставление такого рода: опосредствование, будучи и саморефлексией<br />
формы, не обладает определенной формой — логика переходных процессов постоянно<br />
демонстрирует собой необходимость отличать форму опосредствования от опосредствования<br />
форм. Иными словами, опосредствование как имманентность рефлексивности<br />
основания обладает собственным логико-эстетическим полем, которого не стоит переносить<br />
в пространство агностицизма. Здесь важно не утрачивать из поля умозрения тождество<br />
абсолютного и относительного основания в любом моменте «наличного бытия»<br />
существенного. Поскольку самоопосредствование сущностного существенностью внешних<br />
противоречий выступает необходимыми атрибутом и модусом самоопределения<br />
внутренней формы, ее практической идеальностью, то в самоопосредствовании собстмария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
366<br />
венным, исторически неразвитым тождеством, внутренняя форма предстает положенной<br />
аморфностью. Поэтому, внутренняя форма в своей существенности не обладает эмпирическим<br />
бытием, а предстает как тенденция развития. Будучи понятой в начале как процессуальность<br />
необходимой возможности (поскольку в основании всемирной истории изменяется<br />
сам способ изменения мира), такая форма не является, не чувственно-созерцаема.<br />
Поэтому, она недоступна созерцательному материализму, но вполне доступна диалектическому<br />
идеализму. В контексте эстетики безобразного такое положение дел оборачивается<br />
превращением объективного идеализма в дурную бесконечность форм идеализма<br />
субъективного, предпосылки которого не могут «развиваться» иначе, кроме как регрессируя<br />
в бесконечно иррациональные, мистические формы.<br />
В силу изменения характера общественного развития, в саморефлексии внутренней<br />
формы приобретает ведущее значение и природа отрицания. Вместе с тем, уплотнение<br />
опосредствований в тождестве исторического и феноменологического времени может<br />
предстать определенностью одной значимой формы, в то время как изменение масштаба<br />
исследования становления формы предоставляет возможность субъективно рассматривать<br />
как отдельную форму каждый из моментов опосредствования, вместе с его «онтологической»<br />
обусловленностью. Ложно превращенные формы переводят взаимоопосредствование<br />
всего процесса развития общественной реальности в чистую негативность<br />
зряшного пространства. Такое опосредствование утрачивает свою положительную<br />
направленность, замыкается в себе самом и становится бесконечным самоотрицанием —<br />
отрицанием бесконечного в единичном. Превращенно-возвратная форма возникает там<br />
и тогда, где и когда уничтожается положительная диалектика превращений внешней<br />
формы во внутреннюю, где экстенсивная определенность вещи/человека не становится<br />
интенсивной границей развития этого качества. В конечном итоге, происходит разрушение<br />
качества меры человека, невозможность выявления меры как конкретности бытия,<br />
подмена качества общественного пространства качеством мира животных. Отсюда,<br />
на мой взгляд, и реэволюция постмодернистского времени и пространства как логическое<br />
вымирание форм общественного сознания. Они не предстают преобразующимися в непосредственной<br />
тотальности чувственной целостности человека, поскольку превращения<br />
осуществляются не по типу развития, а по типу зряшного самоотрицания. Здесь разрушается<br />
пространство и время в общественном, а не только в чувственном плане, ибо<br />
развитие может осуществляться как положительное снятия предшествующих времен<br />
и пространств, а происходящее иррациональное разрушение бытия огласило себя самодостаточным<br />
и абсолютным критерием превращения деформации истории в некрофилию<br />
исторического зазеркалья сознания.<br />
В монистическом основании превращенные формы предстают как смесь метафизики<br />
и диалектики абстрактного и конкретного в ложном «вхождении» абстрактно-всеобщего<br />
в индивидуально-всеобщее. В плане логического самоопосредствования, <strong>проблем</strong>а превращенных<br />
форм обнаруживает свою имманентную границу в том, что, в отличие от класраздел<br />
второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ метафизика внутренней формы<br />
367
сической истории, здесь гносеологические рефлексии не могут строиться на прошедшем<br />
времени, а должны в непостоянном постоянстве быть направлены на «вещество» истории,<br />
на ее существенную предметность. Оно (опосредствование по всеобщему типу) усложняется<br />
не только напряженной плотностью, но и определенной гносеологической воинственностью<br />
эмпирической реальности как метафизического явления воинствующего материализма<br />
при слабости теоретического мышления общества в целом. Если же снятие<br />
отчуждения проходит тот же путь, что и само отчуждение, то логическая догматика<br />
предельно зависимых от внешних международных противоречий исторических преобразований<br />
переплетается и с чувственной деформацией опосредования событий. Если<br />
в аморфности любого начала внутренняя форма дана как не определенный конкретно<br />
по отношению к содержанию принцип, то по этой же причине, в аморфности любого начала<br />
прекрасное и безобразное предстают как равнозначно возможные. Более того, они<br />
равнозначно сосуществуют в едином историческом времени и пространстве, когда основание<br />
высвечивается и завершенным классическим становлением, и только обнаружившимся<br />
первоначалом действительной всемирности. Но аморфность, возникающая уже<br />
в пределе деформации обрекает красоту на поражение.<br />
«Энтелехия» основания здесь нередко утрачивается из перспективы поля зрения. Бесперспективность<br />
рассудка истории удовлетворяется господством превращенного<br />
во внешнюю форму основания над его собственным содержанием. Революция преломляется<br />
через «субстраты» сознания: военно-революционного, в котором «содержание —<br />
главное, а форма не важна», и мещанское, в котором форма становится карикатурой<br />
на историческую свободу и не только неодухотворенной деформированностью, но и профанностью<br />
«всеобщего». Своею мнимою доступностью, последняя внушает обыденному<br />
сознанию иллюзию всесилия, получающего в переходные времена возможность удержаться<br />
на поверхности событий и даже подменивать суть последних. В плоскости бытия<br />
превращенно-эмпирического рассудка все становится не последовательным снятием отчуждения,<br />
а рядоположенностью, которая легко превращается в равнозначность сущностей.<br />
Эклектичность реальности в этом пространстве не только принимает форму единой<br />
плоскости, но и превращается в мозаичное нагромождение плоскостей. Музыка сущностных<br />
процессов ХХ столетия, представляющаяся (в сегодняшней ретроспективе) лучше<br />
всего выраженной вокализом С. Рахманинова, приняла облик истории в том виде, каким<br />
он представлен в музыке А. Шнитке. Спресованные пласты исторических порывов и прорывов,<br />
не столько побежденные, сколько истощенные, коррозированные, изъеденные вымиранием<br />
опустошающего взор пространства, застывают в беспамятстве. Эта мертвая<br />
«совокупность» пространств сознания порождает и в музыке «удивительные структуры<br />
и конструкции, но они уже не потрясают» [51, 123–124]. В искусственной полифонии<br />
истории диссинхронизируется культура как универсальный атрибут цивилизации. Это<br />
связано с ее категориально-эстетическим разложением в виде распространения болезней<br />
духа на заболевания чувств. Только если в случае возникновения теоретических болезней<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
368<br />
духа имело место отчужденное соотношение всеобщего и единичного в пределах становления,<br />
то в болезнях чувств имеет место патология основания как несостоявшаяся положительность<br />
тотальности в ее субъективных трансформациях. Такая равнозначность<br />
одаривает могуществом посредственное. Посредственное как консервация основания<br />
в виде самостоятельной формы, в слабости существенных связей общественных процессов<br />
и отношений имеет больше шансов подчинить себе то, что ими только опосредуется.<br />
Это время, которое легко может превратиться в эпоху посредственных индивидуальностей.<br />
Данность не живет тем, что ее опосредует, «забывая» о нем. В силу своей консервативной<br />
устойчивости, посредственность получает больше шансов выжить. В таком случае,<br />
представая количественной, историческая субстанция претерпевает и пространственную<br />
трансформацию, когда пространство становится формой наличного бытия вне исторического<br />
времени.<br />
Пространство превращений логических форм всеобщего в чувственные и их диалектическое<br />
понимание становится в основании наличным бытием бесконечности, откуда<br />
и возникает природа тотальности каждого, выведенная Гегелем как «тотальность, в которой<br />
каждый из моментов есть целое»; «как сущая для себя субстанциальная мощь» [44,<br />
1, 34], где «принцип личности есть всеобщность» [44, 1, 346]. Можно было бы в таком контексте<br />
принять тезис В. А. Янкова, что экзистенциальной «можно назвать способность<br />
человека отождествить себя с чем-то так, что определенными оказываются его бытийные<br />
основы. Я имею в виду глубинное самопонимание человека, которое обычно не доходит<br />
до сознательного проявления, но выражается во всем образе его действий, как их основа,<br />
как подлинная бытийственная сила. Самопонимание человека — часть его фундаментальной<br />
картины мира […]; оно может быть раскрыто только внутри всей картины» [52, 3].<br />
Но выдвигаемый Янковым тезис выступает попыткой разрешить принципиальное противоречие<br />
экзистенциализма при невозможности его разрешения в силу того, что субъективное<br />
здесь отождествляется с мнением индивида о своих бытийных основах и не является<br />
персонализацией основания как принципа сущностной меры человека.<br />
Понимание многослойности таких превращений усложняется тем, что бесконечность<br />
как многообразие единого имеет те же шансы, что и внешние (как никогда раннее в истории<br />
переплетенные здесь с внутренними) противоречия. По этой причине, взаимопревращения<br />
внутренних и внешних форм становятся столь же многогранными, сколь и опасными<br />
для мета-физики сознания будущего. Отсюда и позитивное значение превращения как<br />
положенности, уплотнения исторического времени и пространства индивидуальной<br />
жизни и, в том же отношении — как негативное, как искажение предела соотношения<br />
индивидуального как цели и индивидуального как способности, великого как непосредственного<br />
наслаждения и «великого» как превращенного принципа самоутверждения.<br />
Принципа, изуродованного индивидуализмом и прогрессирующего деформациями в индивидуализме<br />
(этот феномен объясняет причину «преимущественного» уродства индивидуализма<br />
умных людей перед индивидуализмом обывателя). Феноменологическую ситуараздел<br />
второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ метафизика внутренней формы<br />
369
цию такого совпадения прогрессивного и регрессивного в становлении индивидуальности<br />
М. Хайдеггер объяснил таким образом: «Только когда человек уже есть по своей<br />
сущности субъект, возникает возможность скатиться к уродству субъективизма в смысле<br />
индивидуализма. Но и опять же только там, где человек остается субъектом, имеет смысл<br />
жестокая борьба против индивидуализма и за общество как желанный предел всех усилий<br />
и всяческой полезности» [53, 105].<br />
Не обладая объективным основанием, превращенные формы могут трактоваться как<br />
следствие оскудения теоретической и исторической мысли, так и носителей теоретического<br />
самосознания в целом. Но в этом же отношении может претендовать на правомерность<br />
и антитезис: такое оскудение является следствием превращенных форм утилитарно<br />
понятого развития. И дело заключается не в том, чтобы «перенять» кантовскую логику<br />
тезисов и антитезисов. Современная «логика» наличного бытия формализма «тезиса–<br />
антитезиса» связана с противоречием-парадоксом раздвоенного в теоретизирующем<br />
рассудке и неразрешимого противоречия развития единства мира в человеке и человека<br />
в единстве мира.<br />
Превращенные формы взаимотрансформаций всеобщего и единичного в крайностях<br />
волюнтаристской свободы или эмпирического детерминизма не тождественны отчужденным<br />
формам. Если логика отчуждения имеет своей предпосылкой общественное разделение<br />
труда, то алогизм превращенных форм не обладает в чистом виде ни объективным,<br />
ни субъективным основанием. Будучи особой и обособленной формой взаимопревращения<br />
объективного и субъективного, превращенные формы безосновательны, они вычленены<br />
из процесса взаимоопосредствования внутренних и внешних противоречий отмирания<br />
общественного разделения труда. Они — фрагментарны, случайны, мозаичны,<br />
алогичны, но этим и опаснее отчужденных форм. И фундаментальная опасность превращенных<br />
форм для феноменологической истории проявляется в легкой возможности<br />
превращения «деспотизма долженствования» (идеала) в деспотизм невежества и посредственности.<br />
В этом смысле, превращенные формы содержательно проявляются идеальнотеоретической<br />
и чувственно-эстетической подменой индивидуального восхождения<br />
от абстрактно-всеобщего к конкретно-всеобщему. Они укрепляются подменой чувственного<br />
«статистикой всеобщего», когда всеобщее не размывает метафизические пределы<br />
обособленного частного, а подчиняет его себе. Подчиняет способом принуждения исторической<br />
необходимостью.<br />
Таким образом, превращенные формы рождаются из особой формы опосредствования<br />
внешнего и внутреннего в пространстве и времени монистического основания. Следовательно,<br />
превращенная форма не только рождается в данном опосредствовании как<br />
процесс искаженного переворачивания логики восхождения абстрактного в конкретное<br />
— в этом процессе возникает такое превращение, когда превращенная форма суть<br />
превращенный предел. Такой предел обладает собственным временем и пространством,<br />
раздваиваясь в себе в значении границы (внешней формы) и в собственном значении как<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
370<br />
форма внутренняя, интенсивно переживающая себя как свершенность (успевающая себя<br />
осмыслить, а не только ощущать), а, значит, возвращаться к себе уже как «состоявшесть»<br />
несбыточного. Наиболее точным выражением такого перехода представляется мысль<br />
Мориса Бланшо: «Творчество увлекает посвятившего себя ему туда, где оно сопротивляется<br />
собственной невозможности» [54, 191]. В диалектике взаимопревращения материального<br />
и идеального имманентно содержится и преодоление несовместимости «разума»-«чувства»<br />
как антиномии прошлого-будущего, в которой прошлое время принимает<br />
не только эмпирическое содержание чувственного восприятия, будущее время — состояние<br />
прозрения, а настоящее время как отсутствие того и другого, плач по текущему<br />
времени, которое уходит, проходит вне индивидуального самоопределения мира. Предел<br />
становления регрессирует в утрату своих определенностей, конкретных степеней и границ,<br />
превращается в утрату меры как таковой и соразмерности как сообразности и целесообразности.<br />
А в силу регрессивных трансформаций предела не только утрачивается<br />
закономерность любых процессов, но возникает и субъективно-агрессивное отношение<br />
к закону в любом его фундаментальном выражении. В этом и заключается теоретическая<br />
<strong>проблем</strong>атичность выведения природы превращенных форм — понимание предела в качестве<br />
некоторой внешней границы (которую легко перепутать с внешней формой) приводит<br />
за собой смещения в понимании меры, которая, в свою очередь, возможна в процессе<br />
выстраивания себя в логике творчества исторической жизни человека.<br />
В силу особенности проявления превращенных форм в монистическом основании,<br />
иначе предстает и природа его аморфности как возможного искажения начала. Представ<br />
как фрагментарность, как форма, заблудившаяся в дискретных частностях, содержание<br />
основания не достигает эстетической полноты. В уязвимости со стороны превращенных<br />
форм, феноменология истории связана с тенденцией развития человека к постижению<br />
принципиальной сути собственного реального становления — стать формой-основанием<br />
в непосредственности закона всеобщности, когда непосредственность в каждом отдельном<br />
случае представляет собой индивидуально-опосредствованную всеобщность. Поэтому<br />
принципиальное отличие «начал» феноменологии духа в ее гегелевском варианте<br />
и «начала» феноменологии истории как положительного превращения основания истории<br />
в человеческую автобиографию («творческий путь — это своеобразное единство<br />
биографии и социальной истории», — скажет В. Дильтей) состоит в том, каким положен<br />
и предстает мир в пространстве-времени данного начала. Преодоление превращенных<br />
форм предполагает понимание того, что «теперь уже не первоначало дает место историчности,<br />
но сама ткань историчности выявляет необходимость первоначала, которое было<br />
бы одновременно и внутренним, и сторонним, наподобие некоей гипотетической вершине<br />
конуса, где все различия, все рассеяния, все прерывности сжимаются в единую точку<br />
тождества, в тот бесплотный образ Тождественного, способного, однако, расщепиться<br />
и превратиться в Иное» [56, 350].<br />
Деструкция исторического времени обрекает практику на чистую критичность и сораздел<br />
второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ метафизика внутренней формы<br />
371
стошенной формы, хотя и «ничто», и «пустота» суть два лика основания. Положительное<br />
«ничто» суть напряженная возможность, «пустота» — лишенность основания содержания,<br />
форма за пределами сущности.<br />
Выдаваемая за новую классику, регрессия мира актуализирует формирование самой<br />
идеи формы, не сводимой к рассудочному слепку с количественно различенного пространства.<br />
Истина формы начинается с предвосхищения героики исторического времени.<br />
Диалектика формы трансцендирует в выходе времени за предел определенного содержания<br />
и высвечивается в последующем. Воплощенное в единичное и взрывающее свою<br />
ставшесть, время становится «мукой творчества», где объективированная в чувственной<br />
непосредственности форма общего играется кажимостью. В напряженной изменчивости<br />
формы обнаруживается неподвластность человеку времени. Содержание творчества опосредует<br />
и снимает внешнюю форму реальности, подчиняя ее временности. Метафизике<br />
становящегося содержания форма безразлична. Реэволюция содержания становится<br />
предпосылкой возвратных форм, детерминированных также запоздалою рефлексией<br />
исторического самопотребления человека, так как форма равная вещи разрушает процессуальность<br />
ее сотворения. Возвратные формы порождаются потерей способности<br />
предвосхищения — единственного «состояния» тождества истины, цели и способа<br />
их осуществления. Но, лишенные общезначимости, возвратные формы кичатся изуродованием<br />
содержания, разлагая время агрессией непережитого. Им свойственно превращаться<br />
в формы осознанной культурной реакции. Впрочем, «это культура с архивами<br />
и традициями. Она накапливает акты языка» [57, 96]. И не случайно «трансцендентальная<br />
феноменология обитает в той же стихии, что и негативная теология» [57, 111],<br />
ибо она никогда не становится логикой трансценденций исторических феноменов. Опустошенными<br />
формами регрессирует историческое время. Метафизическое содержание<br />
не опосредовано «логическим концом», которым выступает развитая внутренняя форма.<br />
Внутренняя форма утверждает логику ее конструктивным преодолением. Конкретность<br />
времени и его полнота просачивается в содержание через внутреннюю форму. Чистая<br />
логичность содержания истинна для всех времен и в таком качестве остается абстракцией.<br />
Предмет «философского спора» сужен до беспредметности. Превращенные формы<br />
переводят человека из тотальности основания в виртуальное пространство галлюцинаций<br />
неставшести феноменологической основы, опосредуя собой ее (основы) извращения.<br />
Тоска по утраченным смыслам соскальзывает в полифонию знаков, где видение мира сменяется<br />
привидениями бытия, а слово приобретает неведанные нюансы ценой утраты собственной<br />
семантики. Поэтому между последним знаком в предложении и точкой —<br />
бездна; и страшно ставить точку (категорично! Нельзя очерчивать пределы, ибо за этим<br />
следует его переступление), нельзя очерчивать контуры бездны, отказываться от видимости<br />
ее устойчивости — никаких знаков препинания. Чем глубже дно, тем страшнее<br />
сорваться. Трепет не прикрывает страха («Я закрыл глаза, чтобы больше не видеть, я закрыл<br />
глаза чтобы плакать», П. Элюар).<br />
знание на описательную созерцательность. Мир предстает сочетанием аморфности и деформированности.<br />
«Ось» времени нейтрализована «уравнением сущностей». Чтобы отличить<br />
муку феноменологического становления от страдания субъективной аморфности<br />
«вещества», истории недостает постижения опосредствований. Ведь если классика вывела<br />
форму за пределы жизни, превратив ее в фигуру логики, то «постклассике» предстояло(-ит)<br />
вернуть форму логики содержанию чувственной действительности. Деформация<br />
в основании постклассической истории выявилась следствием соблазна реэволюции<br />
содержания («Радуйся, испытав испытанное, прежде ты не испытывал этого никогда»,<br />
Орфей), породившая пустоту «освобожденных» от основания через-мерной самодостаточностью<br />
форм. Такой соблазн («достаточно лишь легкой манипуляции видимостями»,<br />
Ж. Бодрийар) был порожден метафизикой логицирования формы, но как противостояние<br />
— как бунт против логики в виде бунта против «унифицированного бытия» — оказался<br />
не менее метафизичным. Вследствие восстания против выведения логики как логики<br />
истории, в нем утрачиваются принципы соотношения с реальностью.<br />
Исторический феномен эмпиризма основания в неопосредованном начале предстает<br />
тавтологичностью частного, суммарной эклектикой его тождества с самим собой и количественной<br />
повторяемости. Восстание против «унифицирующего общего» выявилось<br />
результатом законсервированного непонимания того, что отдельная жизнь находит<br />
обоснование и основание в развитии целого и за пределами такого развития утрачивает<br />
или совсем не находит себя. Ведь свою космическую меру находит не обособленный<br />
«самодостаточный», «надрывающийся» (Ницше) индивид. В устремлении к абсолютной<br />
самодостаточности, форма утратила смысловое содержание, заформализовавшись<br />
до полного редуцирования смысла и превратившись в напряженную, плотную пустоту.<br />
Это завершенный эффект «чистого тождества» индивида со своей чувственной непосредственностью.<br />
«Целостная недифференцированность» чувственного предстает реальностью<br />
потери разума. В этом моменте философствующий субъект как «культурный носитель»<br />
всеобщего вынуждает философскую рефлексию выйти в сомнительные просторы<br />
монолога и отрицает собственные первоисточники. Правда, монологичность «тотального<br />
самосознания» «тотальной чувственности» нуждается в слушателях и, обязательно,<br />
понимающих. Мечта об «интерсубъективном согласии» легко превратилась в миф,<br />
поскольку ползущий по эмпирии несчастного бытия дух не мог найти связи, способной<br />
стать сущностной связью хотя бы двух людей.<br />
Философией нельзя утешиться, утверждая разум в качестве «формы форм». Отсутствие<br />
перевоплощения максим истории в чувственную определенность субъективной меры<br />
превращает Я в заключенного несуществующих пространств, в пленника уходящего времени.<br />
Фигуры логики подменены фигурами речи: «Я не знаю, Земля кружится или нет,<br />
/ Это зависит, уложится ли в строчку слово» (Хлебников). Мера остается раздвоенной<br />
на «меру овса» и «меру, волхвующую словом». По-видимому, не следует отождествлять<br />
«ничто» в своей постмодернистски обогащенной аморфности начала с деформацией опумария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
372<br />
раздел второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ метафизика внутренней формы<br />
373
нутость на самоуничижении и самоуничтожении. Пространство сворачивается в напряженную<br />
точку выбранного конца и проваливается уже само в безразличную субстанцию,<br />
тождественную субстанции бессилия. Очевидностью обладает здесь только одно —<br />
бытие в песках, лишенное даже способности плакать по уходящему времени.<br />
Минусовое пространство опустошенных форм тождественно провалу культуры, где<br />
свобода не имеет смысла, поскольку она не становится условием культурного саморазвития<br />
человека. «Уменьшение» последнего, начиная от неспособности рефлексировать себя<br />
в целом и целое в себе, становится началом превращения «нечто» в «ничто», «единицы»<br />
— индивидуальной определенности основания, в «нуль» — ее небытие. Деградация основания<br />
в человеке прогрессирует до его дезертирства из пространства всеобщего. Такая<br />
деградация распространяется и на субстанциальное значение «ничто» — на способность<br />
субстанции стать развивающейся историей. Переход в минусовое пространство тождественен<br />
потери возможности общественных отношений стать эстетическим, этическим<br />
и логическим единством меры человека и общества. Поэтому провал культуры выступает<br />
антиисторией, а сущностное самоубийство предшествует ядерному, будучи обусловливающей<br />
его причиной. В интервью с одним из участников чеченской войны Л. Китаева-Cмык<br />
прозвучало, в частности, следующее: «Я о Ваших внутренних изменениях […] Отношение<br />
к жизни, к смерти? — К жизни никакого отношения нет. Только единственное — до конца<br />
воевать […] Сейчас без войны, — как без хлеба уже, наверное, будем. Мы уже больные,<br />
наверно» [59, 122]. Здесь не приходится уповать на культуру как таковую, поскольку<br />
«кризис захватывает ценностно-мотивационную сторону культуры, что проявляется<br />
в снижении тонуса цивилизации: если сформированные его прежде ценности и идеалы<br />
перестают убеждать и воодушевлять, стареют морально, то повсеместно ощущается апатия,<br />
утрата смысла жизни, энергии и культурной инициативы. Этот дефицит источников<br />
человеческой энергии сегодня представляет несравненно более серьезную опасность, чем<br />
дефицит энергоносителей промышленного назначения» [60, 165].<br />
Но если реальность вырывается из границ культуры, она становится пространством<br />
абсурда. Минусовая реальность предстает не просто «чувством абсурда» (А. Камю),<br />
но осознанным абсурдом как попытка сохранить сиюминутность за пределами времени.<br />
Когда ориентация на «нюансы» утрачивает общее, лишь то, что исчезает, становится<br />
уделом умирающего разума. Идиотизм абсурдного сознания ужасен неспособностью осмысливать<br />
самого себя, не утрачивая при этом способность материализоваться, входить<br />
в тело (втілюватися, укр.) общественной жизни и превращать его в ничто. Поскольку<br />
становление человека выступает индивидуально-общественным восхождением до «Я-основания»,<br />
то отсутствие такового превращается извращениями самого становления.<br />
Отсутствующий мир сопутствует бытию, притягивая его вакуумной пустотой. Разумная<br />
недостаточность в таком случае равна сердечной недостаточности — недостаточности<br />
чувств — уравнивая в своем единстве сущностную и физическую смерть. Иррационализм<br />
нового ряда, в корне отличающийся от средневекового и предстающего как осознанный<br />
Утрата словом собственного значения является атрибутом «интересных времен». Слово<br />
поступается местом стону, но чаще междометию. Наподобие начала века в «Начале<br />
века» Андрея Белого. Непереживаемость конкретного, в силу логической и нравственной<br />
отдаленности от него, превращает положительный феномен возвратных форм в негативность<br />
созерцания. «Минусовое» пространство опустошенных форм является наличным<br />
бытием исчезновения прогрессирующего, восходящего времени. Если принять классификацию<br />
времени Л. Благи, выделявшего его по трем параметрам: 1) время-фонтан как<br />
пространство, открытое переживаниям, направленных в будущее; 2) время-водопад, в котором<br />
ударение высших ценностей относится к прошлому и 3) время-река, относящееся<br />
к настоящему, постоянно текучему времени» [58, 120–121], то заметим отсутствие будущего<br />
времени. Возвратная форма предстает как регрессивная подчиненность человека<br />
прошлому времени, но и последнее предстает перед ним как утраченное время, в поисках<br />
которого он находится. Анализ феноменологии Пруста, осуществленный М. К. Мамардашвили<br />
в логико-рефлексивном отношении, блестящ, но <strong>проблем</strong>а в том, что это логическое<br />
путешествие по лабиринтам ужасной жизни, в котором время не находит себя даже<br />
тогда, когда осмысленно ищет себя.<br />
Для современного человека провал времени не только трагичен, но трагичен в унизительной<br />
форме. Несовпадение времени индивидуальной жизни и времени истории<br />
не содержит в себе положительного драматизма устремленности по восходящей развития,<br />
которое имплицитно содержит и воспроизводит будущее время. Это несовпадение<br />
бесконечно негативно в силу деградации самого исторического времени в пространстве<br />
смысла жизни. И тогда сияющие вершины превращаются в зияющие высоты, пространство<br />
бытия становится провалом, невесомостью сиюминутного, смутностью смысла. Ведь<br />
всегда может принадлежать лишь тем, кто живет и действует осуществлением развивающегося<br />
времени. И только те прошли все «круги времен» и пройдут их в дальнейшем, кто<br />
жил и действовал во имя будущего. Жан Бодрийар попытался не только описать это<br />
состояние, но и найти выход из него, но может ли это назвать выходом и можно ли<br />
утешиться уже им? — «Ведь пустота, отсутствие, выдаваемое все равно в каком месте<br />
ограниченным выхлопом любого знака, бессмысленность, составляющая внезапно нападающие<br />
чары соблазна, — пустота эта есть также и то, что поджидает пространство<br />
по завершении его усилий, только чары тут же рассеиваются. Все возвращается в эту<br />
пустоту, включая наши слова и жесты, но некоторым, прежде чем исчезнуть, достало<br />
времени на то, чтобы в ожидании и предвосхищении конца проникнуться такой соблазнительной<br />
прелестью, какую другим не узнать никогда. Секрет соблазна в этом призывании<br />
и отзывании другого жестами, чья медлительность, надвешенность, столь же поэтичны,<br />
как замедленная съемка падения или взрыва, потому что тогда нечто, прежде чем свершиться,<br />
имеет право на то, чтобы дать вам почувствовать свое отсутствие, свою нехватку,<br />
и именно в этом — совершенство «желания», если таковое вообще существует» [58, 66].<br />
Собственно говоря, переживание времени превращается в замыкание времени, его замкмария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
374<br />
раздел второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ метафизика внутренней формы<br />
375
алогизм, порождает единственный и, возможно, последний в рамках уходящего от всех<br />
времени вопрос: есть ли смысл логически объяснить феномен отчуждения культуры в современных<br />
реалиях, если именно отчуждение становится самодостаточным, стремится<br />
к пустым формам как к истинным и находит в них еще и наслаждение? Если реальность<br />
исчезает, остается, как кажется бесчувственному разуму, только языковое пространство.<br />
Не существует больше ничего, что может придать значение слову, поскольку «остается<br />
лишь непережитое, которое осело в языке, и непонятое в самом языке» [61, 108]. Вместо<br />
заполненности непережитого в языке — попытка вербально компенсировать опустошенность<br />
чувств не менее пустыми образами. Возникающие здесь парадоксы являют собой<br />
не только беспредметную «языковую игру» от неимения что сказать. Являясь опустошенным,<br />
прикрывающимся за мифической формой «иного понимания» словом, сказание<br />
ничто вступает в свою предсмертную «мистическую силу».<br />
Замена прочтения надоевших логических схем «прочитыванием текста», когда текст<br />
не только принимает бесконечное количество интерпретаций, но и доходит до исключения<br />
возможности себя интерпретировать. Текст превращается в хаотический сбор семантических<br />
неоформленных (ибо трудно понять, где они начинаются, и где заканчиваются)<br />
фраз. «Создается» (симулируется) имитация пространства различных языков, но на самом<br />
деле реализуется полифония хаоса в языке, произвол бессмысленного слова. Уже<br />
не только искусственные, но, вместе с непонятийным языком масс, и естественные языки<br />
приобретают статус «сюр-реальных». Афористичный язык уходит из сферы понятийного<br />
мышления. Мышление начинает тяготеть к парадоксу, но и тяготиться им, ибо парадокс<br />
не приносит ему избавления от противоречий, но делает последние агрессивными<br />
по отношению к самому субъекту. Начинается гонка за «смыслами знаков», их искусственное<br />
возведение в статус «новой теории метафоры» — ведь за вербальным тождеством<br />
«называния» понятий ведется не столько поиск, сколько искусственное конструирование<br />
иных, имитирующих слово понятий. Язык превращается в замкнутую грамматику и форму<br />
самоотражающейся экзистенции. Возможно, отсюда Ева Анчел выводила утверждение<br />
о том, что реальность ХХ века в некоторой совокупности точек представала лишь как<br />
эскиз, в котором «потрясенность сознания […] в самых типичных случаях возникает<br />
не под влиянием каких-либо определенных воздействий, которые можно как-то вычленить.<br />
Но даже если в основе лежит какая-то конкретная общественная катастрофа, то отчаяние<br />
распространяется дальше, происходит его иррадиация, и оно, в конечном счете<br />
переносится не только на это явление, но и на все проявления жизни, обнаруживаясь<br />
в форме четкого выраженного бессилия» [62, 8].<br />
В новом иррационализме происходит не только семантическая деструкция смыслов<br />
и не только разрушение синтаксиса истории. В нем происходит обращенная деструкция<br />
морфологии слова как морфологическая деструкция культуры. Пересечение культур<br />
в деструктурированном «каркасе» истории в большей степени мистична, чем утопична.<br />
Поскольку пересечение культур предполагает их взаимопроникновение, то необходимо<br />
выведение единства семантики, синтаксиса и морфологии всех культурных языков.<br />
«Логика общения» разных культур невозможна вне нового уровня обобщения меры человека<br />
и присвоения ее через распредмечивание других культур. В минусовом пространстве<br />
надежда на более высокие метафоры, смыслы и ценности не может себя оправдать, ибо<br />
«ничто» не знает и не может знать никаких метафор. Прослеживая деструкцию времени<br />
в настоящем через разрыв времени культуры в современных изменениях стилей искусства,<br />
культуролог В.Винников замечает несколько особенностей их нестыковок: «В нынешний<br />
период, период междустилья, как в междуречье, столкнулись два потока осмысления<br />
будущего, образовав вязкое болото — местообиталище яркой горгоны Медузы. Характерно,<br />
что картины чаемого всеми “завтра” так или иначе кореллируются образами великого<br />
советского “вчера” и славного императорского “позавчера”, не оставляя место собственно<br />
будущему. Ублюдочный литерализм февраля 1917 и августа 1991, по-видимому,<br />
лишь путает след, прикрывает собой “стыки времен” […] Эти иерархии (стилей, подстилей.<br />
— М. Ш.) , это соподчинение частного общему, низшего — высшему, позволяющие<br />
творить из субъективного Ничто объективное Нечто, полностью отрицаются модернизмом,<br />
исповедующего иной принцип: синархии внутри полагаемого замкнутым пространства<br />
культуры, где стили-векторы, даже индивидуальные манеры, противонаправлены<br />
и нейтрализуют друг друга. Невозможность расширения культурного пространства при<br />
этом совершенно очевидна, зато происходит углубление и усложнение структуры внутренних<br />
соотношений между значениями взаимодействующих смыслов, вырабатываются<br />
новые результирующие стили-векторы культурного движения» [63, 8] Абстрагируясь<br />
от спорных оценок В. Винникова различных этапов истории, замечу, что им смещен центр<br />
культурной семантики исторического синтаксиса — если относительно истории еще находится<br />
какой-то ориентир смысловых нагрузок формы действия, то относительно искусства<br />
этот центр утрачивается. Ибо «усложнение и углубление структуры» любых внутренних<br />
соотношений, если они не опираются и не вытекают из положительного измерения<br />
жизни, становится дурным сном безумного сознания. Возможно, наиболее приближенным<br />
аналогом этой ситуации является «выставленная» на той или иной выставке постмодерна<br />
огороженная пустота, возле которой мистик-посетитель надстраивает смысловые<br />
конструкции по принципу «что бы это значило?»<br />
«Обживание хаоса» как попытка обживать «ничто» ничего другое собой не представляет<br />
как несбыточное не только по возможности, но и по ненужности, возвращение в исчерпанное<br />
становление. В критические периоды такого становления, когда основание<br />
обнаруживало себя, но не оказывалось способным преодолеть свои границы, «выворачивалось»<br />
своей мистической стороной небытия. Этот процесс представал мистикой бытия.<br />
Мистическое томление по небытию возникло, как констатировал В. П. Зенкин, в литературе<br />
Европы в конце ХVIII века, когда имело место увлечение «кладбищенской» лирикой<br />
и «готической» прозой. Позднее, у романтиков, стало складываться и осознанное эстетическое<br />
убеждение, что творчески воссоздать сущее можно лишь выйдя за его пределы,<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
376<br />
раздел второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ метафизика внутренней формы<br />
377
по ту сторону реальных вещей и «правильных» людских взаимоотношений» Некрофилия<br />
минусового пространства предстает как опустошенное «ничто» постмодернизма исчерпанного,<br />
но не преодоленного предела. Как следствие, имеет место «возвращение»<br />
к основанию в виде своеобразного «последнего пути» — как самоотречение, уход человечества<br />
в лишенное атрибута небытие. Ведь если для древних народов и древних форм<br />
философствования «ничто» выступало не небытием, а неосуществленностью, то здесь<br />
оно тщится стать предметом мышления, когда и само мышление не выходит за рамки<br />
зряшной самоотрицательности. А для ориентации мышления в объективной реальности<br />
(даже если мышление представляет себя негативностью диалектики), оно не перестает<br />
нуждаться в положительном противоречии с инобытием самого себя.<br />
Отказ как отречение от положительного самоопосредствования Я реальными отношениями<br />
обусловливает подмену жизни смертью, как это окончательно происходит в экзистенциализме<br />
Н. Аббаньяно. Процесс такой подмены происходит в пространстве<br />
«отрицательного» мышления, но с кем ему быть отрицательным, как не с самим собой?<br />
В этом смысле феноменология Э. Гуссерля не могла не требовать редуцирования жизни<br />
как отсечения последней из сферы мышления. «Постмодерн» предстал коллизией<br />
основания, в котором дерзания духа отсутствуют, но присутствуют терзания, не удержавшиеся<br />
на острие истории, но импровизирующие в нищете одиночества произвольные<br />
смыслы.<br />
НЕГАТИВНАЯ<br />
ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ИСКУССТВА<br />
В КОНТЕКСТЕ РЕГРЕССИВНОГО ВРЕМЕНИ<br />
Очарование — в интенсивности пустоты.<br />
Филип РОТ. Людское клеймо<br />
Если в онтологическом отношении искусство является формой<br />
отражения и самоотражения в теории эстетического, то в своем<br />
категориально-образном генезисе оно отражает чувственно-образный<br />
аспект филогенеза. Отсюда зависимость гносеологии<br />
искусства от состояния и «структурной» <strong>проблем</strong>ности философской<br />
гносеологии. В каком провале последней и самой исторической<br />
реальности возникает негативная феноменология искусства?<br />
С одной стороны, дошедшая до состояния утраты всех своих<br />
реальных и логических предпосылок диверсификация познания,<br />
необходимость преодоления («интеграции») которого уже<br />
обозначена характером универсальных информационных технологий.<br />
С другой — обусловленный гносеологической диверсификацией<br />
распад онтологии истории, в котором «демифологизация<br />
ремифологизации» явлется денотантом «перехода от современности<br />
к постсовременности» (Р. Барт). В пространстве названной антиномии<br />
тождество логики и образности образовывает необразовываемое,<br />
имитирует искусственное — небытие, «по умолчанию»<br />
принимаемое за бытие, за «аспект бытия». Из подобной переплетенности<br />
отрицательной «ничтойности» логического смысла<br />
и «навеянного» субъективностью образа рождается новое значение<br />
симулякра: «Способное быть похожим на то, что оно есть, —<br />
это симулякр. Его гипотетическое бытие есть кажимость, он вывернут<br />
сразу на две поверхностности записи, каждая из которой<br />
является истинной и ложной одновременно. Попробуйте забыть<br />
раздел второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ негативная феноменология<br />
379
об осторожности и довериться такому гносеологическому монстру — он заставит истолковывать<br />
себя бесконечно, навяжет вам овладевшую им самим дурную бесконечность.<br />
На помощь опять приходит и феноменологический мотив: неинтерпретируемое в терминах<br />
явления и сущности может как бы описать себя само, самопрезентироваться без возможности<br />
репрезентаций» [63, 94]. Двойное опосредование эффекта отражения в современном<br />
искусстве, как и эффекта отражения без отражения или наличного бытия неотраженности<br />
как видимость отражаемого обусловливает, а, точнее, тождественно<br />
не столько отдаленности, сколько окончательному разрыву с «онтологией» семантики<br />
образности. И если логической причиной и одновременным результатом подобного<br />
разрыва является распад «категориальных пар», в пространстве которых логическое<br />
и чувственное выражают себя понятийным противоречием (тщетно пытающийся возместить<br />
себя «третьим термином для невозможных пар», Ж. Деррида), то в феноменологическом<br />
распаде филогенеза вообще, эстетического филогенеза как достоверности такового,<br />
субъективированная (точнее, субъективизм) онтология современного искусства<br />
предстает анти-онтологией, отражением деструкции как процесса регресса самосознания<br />
и распада чувственного до без-образных схема и «смерти субъекта».<br />
Распад образности современного искусства является законорожденным, но неполноценным<br />
детищем утраты не только гносеологической (логической) связности смыслового<br />
содержания образности и отражаемого, но и регрессией ино-бытия («другого»), которое<br />
не восходит ко второму отрицанию и через него — к возврату в основание гармонической<br />
непосредственности, но возратной формой «возвращается» в былую неопределенность<br />
становления. В таком случае противоречие логического и чувственного изыскивает себя<br />
воспроизведением собственной дихотомии, когда не исчезающая все же никуда потребность<br />
высказать себя сопровождается «чрезмерным сближением смысла с выражением,<br />
в основном языковом» (М. Кулэ) и с «безмолвной серией действий или чувственной интериоризацией:<br />
“голосом” тела» [65, 23, 67].<br />
В этом движении вспять искусство лишается способности к творческому воображению,<br />
потому как последнее возможно целесообразностью движения по логике восхождения<br />
красоты как «всеобщей нормы» или меры действительности всеобщности. Развитие<br />
художественного воображения в аспекте целесообразности искусства ясно раскрыто<br />
Э. В. Ильенковым: «Эстетически схваченная, художественно осознанная необходимость,<br />
оказывающая давление на всех и каждого, но не осознанная пока никем, не выраженная<br />
еще в строгом формализме понятия, и есть свобода художественного воображения, художественной<br />
фантазии. Она-то и рождает всеобщий, общезначимый эстетический продукт<br />
в форме индивидуального сдвига в системе образов, созданных предшествующей деятельностью<br />
воображения. Тем самым в виде “индивидуального” сдвига в прежних нормах<br />
работы воображения рождается новая, всеобщая норма работы воображения […] Работа<br />
подлинно свободного воображения поэтому-то и состоит в постоянном индивидуальном,<br />
нигде и никем не описанном уклонении от уже найденной и узаконенной формы работы<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
380<br />
воображения — причем в таком уклонении, которое хотя и индивидуально, но не произвольно.<br />
В таком уклонении, которое есть продукт не личной изобретательности, а личного<br />
умения чутко схватить всеобщую необходимость, назревшую в организме общественной<br />
жизни. Такое, как сказал бы Гегель, “химическое” или “органическое” соединение индивидуальности<br />
воображения со всеобщей нормой, при котором новая, всеобщая норма<br />
рождается только как индивидуальное отклонение, а индивидуальная игра воображения<br />
прямо и непосредственно рождает всеобщий продукт, сразу находящий отклик у каждого,<br />
и есть и секрет свободы воображения и сопровождающего его чувства красоты. В то<br />
же время это два продукта разложения художественной формы, формы свободного воображения,<br />
аналогично тому, как разложение воды дает кислород и водород. Сколько и в<br />
каких пропорциях ни смешивай, ни сочетай эти два компонента, они не дают “химического”<br />
соединения. Для этого нужна особая реакция, особые условия. На два этих “исходных”<br />
продукта, которые одновременно суть конечные продукты разложения художественной<br />
формы, явственно и распадается ныне “модернистское” искусство. Не случайно<br />
крайние формы его разложения может имитировать, с одной стороны, машина, сочетающая<br />
слова и фразы по формальным канонам стихосложения, а с другой — осел, мажущий<br />
полотно совершенно “произвольными” и “индивидуально неповторимыми” взмахами своего<br />
хвоста. В этих полюсных формах, как легко заметить, исчезает не только “свободное”<br />
воображение, но и вообще отпадает необходимость в способности какого бы то ни было<br />
воображения. Его роль тут выполняет в одном случае штамп программы, в другом —<br />
абсолютно случайные физиологические позывы. Дело в том, что силой свободного воображения<br />
может обладать только человек, действующий не по личному капризу, а исключительно<br />
по цели, имеющей всеобщее значение и характер, — индивидуум, чутко улавливающий<br />
широкие общественные потребности, звучащие в неясном рокоте миллионов,<br />
и умеющий окрасить общественно значимую потребность личностным пафосом. […] Где<br />
нет свободы воображения — нет и самого воображения, воображения вообще, а есть<br />
лишь его иллюзия, его мнимое бытие, его суррогат — замаскированный штамп или замаскированное<br />
рабство по отношению к ближайшим условиям психической деятельности.<br />
Здесь нет работы воображения по цели, по идеалу, по развитому чувству красоты. Есть<br />
все что угодно, кроме воображения как драгоценнейшей, специфически человеческой<br />
способности. Это свойство таится глубоко — в самой природе воображения, в его социальной<br />
функции среди других способностей, обеспечивающих общественно-человеческую<br />
жизнедеятельность» [17, 247–249].<br />
Эта большая выдержка из текста Эвальда Ильенкова приведена потому, что в ней<br />
отражены все отсутствующие в современном искусстве «компоненты». Вместе с тем,<br />
онтологический распад истории и общественно-человеческой жизнедеятельности<br />
не только подпитывают их отсутствие. Имеет место быть и отраженность гносеологического<br />
распада, когда доведенные до абсурда «специализация знания» и «профессиональный<br />
кретинизм» (как профессионализм в предельно узкой форме деятельлности) провораздел<br />
второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ негативная феноменология<br />
381
цируют ситуацию увеличения до бесконечности пространство незнания, а также проникает<br />
в «логический аппарат» мышления, действуя по той же логике, что и запущенный<br />
в компьютерную программу вирус. Но гносеологический распад мышления как прямое<br />
расщепленное воспроизвдение в себе расщепленного, фрагментаризированного мира<br />
не только не способно двигаться по логике «целесообразности» (образность исчезает),<br />
но и распадается как мыслительная способность вообще.<br />
В этом смысле «психиатрия» современного искусства (имеется в виду не психическое<br />
нездоровье, а реинверсированная без-образность мира, которая все же тщится выразить<br />
себя образно 1 ) корнями беспамятятсва уходит в теоретические болезни духа, которые<br />
были обозначены К. Нойкой в зависимости от трансформаций всеобщего и особенного<br />
в самоопределении индивида к истории (к всеобщему). В исследовании «Шесть болезней<br />
современного духа» 2 выводится превращенные — болезненные — соотношения воли,<br />
свободы и самосознания классического разума и современного сознания. Эти атрибутивные<br />
заболевания отождествляются с разными модификациями «больного Логоса», характеризующиеся<br />
не только психологическим, или логическим, но и эмпирическим бытием.<br />
«Должны существовать болезни высшего уровня — болезни духа — ведь никакой невроз<br />
не может объяснить отчаяние Эклезиаста, ощущение ссылки на Земле, метафизическую<br />
тоску и чувство абсурда, гипертрофию собственного Я тотальный отказ от всего, точно<br />
также как никакой психоз не объяснит политический и экономический фурор, абстрактное<br />
искусство, технический демонизм или тиранию крайнего формализма в искусстве,<br />
которое ведет сегодня к примату пустой точности» [17, 7]. Автор концепции считает такие<br />
«отклонения» духа факторами, обусловившими рождение великих произведений.<br />
Только если соматические заболевания характеризуются акцидентальным характером,<br />
а психические классифицируются акцидентальными по отношению к человеку, болезни<br />
духа, по утверждению К. Нойки, являются конституционными для человека, присущи<br />
только ему и связаны со становлением его индивидуального Я.<br />
Из этого следует, что теоретические болезни духа и сами отражают отчужденную<br />
отрицательность становления, из которой вырывается сомнамбулический разум и которого,<br />
по-видимому, можно признать творцом художественного проивзедения (все великие<br />
люди «не в себе»), но, очевидно, опасно принимать в роли субъекта истории. Ведь если болезни<br />
духа обладают отрицательной степенью, отражающей распад онтологии, и если<br />
«современный абсурд не выносит определения и разрушает их как в человеческих взаимоотношениях,<br />
так и в отношении человечества в целом» [17, 21], то болезни духа рождаются<br />
в пространстве и состоянии обозначения пределов истории при условии их непреодоления.<br />
В логическом отношении они представляют собой обращенность в регрессию,<br />
а в пространстве искусства не могут не сопровождаться распадом образности отражения<br />
и образо-творения. В этом смысле утверждение М. Хайдеггера о том, что современная<br />
картина мира является совокупностью образов, отражает не только агностическое отношение<br />
современного человечества к миру нагромождений мертвых форм («Мы говорим<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
382<br />
о постмодерне, поскольку считаем, что в каком-то своем важнейшем сущностном аспекте<br />
современность (modernite) «завершилась» — Дж. Ваттимо), но и такая образность его<br />
представления себе, которая сохраняет целостность за пределами искусства — оно представляет<br />
собой герменевтическую убогость обыденного воображения, которое не способно<br />
войти в образ, а создает его по образу и подобию своей убогости.<br />
В модусах идеально-чувственного взаимоопосредствования становления, ситуация<br />
с шестью формами болезней духа по-своему отражается и в современном искусстве.<br />
В «первой такой ситуацией выступает отсутствие для индивидуального бытия того, что его<br />
обусловливает. Такое положение его сознания носит общий характер и называется “католия”<br />
(“Katho lu”) — “в общем” (др.-греч.). Вещи проявляют себя многообразно, но не существуют<br />
действительно», а в случае этого заболевания следуют аномалии, вытекающие<br />
из недостатка всеобщего: «В то время как непосредственная самодостаточность вещей в их<br />
существовании заключается в том, чтобы не иметь через самих себя иную всеобщность,<br />
страдание человека возникает вследствие возможности иметь иную всеобщность, но и неспособности<br />
достигнуть ее в действительности» [17, 32]. В случае этой «социально заданной<br />
ущербности» католия искусства проявляется самоизъятием из пространства общезначимых<br />
смыслов. К примеру, нередко обоснованная критика социалистического реализма<br />
ведет за собой и зряшное отрицание его художественного направления. Ведь если по своему<br />
месту и значению в истории ХХ столетия социалистический реализм не мог не сопровождаться<br />
определенной степенью художественной и тематической профанации, то как явление<br />
он был обусловлен и отражал процесс включения в пространство культуры той<br />
«повседневности» основания, которая на самом деле содержит в себе его реальную силу.<br />
Иными словами, включение в художественное пространство субъекта труда вело за собой<br />
включение в пространство искусства эмпирических форм всеобщего, которое непосредственно<br />
не выглядят возвышенными, как и не являются эстетически развитыми. Но именно<br />
они несут в себе и собой достоверность основания. Социалистический реализм и выступал<br />
первичной художественной формой «момента встречи» культурного самосознания и культуры<br />
труда, одновременно имея цель развития такого совпадения. Последнее является глубинной<br />
задачей, которая решается в процессе культурной революции. Вместе с тем, лишенное<br />
такого содержания, современное искусство симулирует «образы», претендующие<br />
на реализм субъективности, но редуцированная из последней общезначимость оборачивается<br />
выведением субъективности «из ряда вон». Одно примечание здесь все же необходимо<br />
— обнаружение основания всеобщего в качестве всеобщего основания обусловливает<br />
его субъективацию. В этом смысле субъективность действительно вырывается из плена<br />
обезличенного большинства, пытаясь идентифицироваться как индивидуальность. Так,<br />
к примеру, обосновывает идею своего проекта «Аутентификация» современный украинский<br />
художник Виктор Сидоренко. Это стремление более глубокое, чем возможность его<br />
трактовки как освобождение от подавления и поглощения немого и обезличенного множества<br />
«коллектива», поскольку подлинное развитие личности предполагает степень ее обораздел<br />
второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ негативная феноменология<br />
383
собления. Только предполагает его не в форме отрицания, а в форме осуществления «многого<br />
в одном» и «одного во многом».<br />
Второе теоретическое заболевание духа характеризуется «отсутствием индивидуальной<br />
реальности для общих детерминаций». Это случай тодетии (tode ti, «именно это»,<br />
др.-греч.): «явления могут многообразно самоорганизоваться, но не обладают индивидуальной<br />
реальностью — не существуют действительно. Таким образом, недостаток индивидуального<br />
является онтологической каузальностью тодетии. Она характеризуется<br />
интенсивной устремленностью к отсутствию “именно этого”, через которое могли бы<br />
состояться конкретно как всеобщий смысл, так и его особенные определения […], когда<br />
не можешь видеть законосообразный смысл в целостности собственной жизни, поскольку<br />
он тебе как таковой не дан, ищешь его в некоторых замкнутых фрагментах бытия» [17,<br />
50]. Аффект тодетии изначально свойственен абстрактному искусству (причем не только<br />
изобразительному). Но поскольку любая крайность содержит в себе свою противоположность<br />
и угасает в ней, то и случай тодетии в искусстве пытается компенсировать себя<br />
объяснениями. Этим, в свою очередь, объясняются пространные тексты-названия, которые<br />
приписываются художником Александром Клименко к своим произведениям.<br />
Но и не только. Тодетия приводит к своим бесконечным примечаниям (к которым нередко<br />
также пишутся примечания). Одно дело, когда блоки определенного текста разрастаются,<br />
диверсифицируются и обрастают новыми блоками по каждому блоку — феномен,<br />
являющий самоизъятие времени-пространства из эволюционной линейности становления<br />
и сворачивания их в сиюминутность всех времен-пространств, и другое дело — феномен<br />
вынужденности оговариваться (проговаривать) неопределенность, размытую в субъективности<br />
бытийность, если последняя желает быть не только созерцаемой, но и понимаемой.<br />
Иными словами, тодетия в искусстве обусловливает феномен гносеологического<br />
выражения гносеологически невыразимого, выражения бессловесного словом, что превращает<br />
его относительную силу в абсолютную слабость.<br />
Третья онтологическая ситуация теоретических заболеваний обозначается как отсутствие<br />
в принявшем индивидуальную форму всеобщего всеобщих детерминаций. Это<br />
болезнь хоретии (horos, «определенность» (др.-греч.), когда вещи состоялись в принципе,<br />
но и теперь не существуют действительно. Это процесс размывания определенностей,<br />
которые задают себе вещи и человек. Это разрушение определенностей, которое способно<br />
интенсифицировать, а также замедлять их естественное движение, вплоть до полного<br />
истощения. В случае «острой» хоретии «человек не присваивает свою самость и не вносит<br />
порядок в окружающий мир с простыми доспехами всеобщего, а только внешними определениями<br />
по его количественным меркам» [17, 27]. В случае «хронической» хоретии<br />
насыщенность всеобщим слишком подавляет реальности индивидуального, в которых<br />
всеобщее самоопределяется. К хоретии я бы отнесла отклонения социалистического реализма,<br />
как и его современную искусствоведческую критику. Если «соцреализм» отражал<br />
вульгарные формы «острой хоретии», то современное искусствоведение отражает<br />
ее хроническую форму. В первом случае всеобщее сохраняет все же свой принцип, хотя<br />
(как уже говорилось раньше), часто облекает его в упрощенные (а потому — ординарные)<br />
формы смысла вещей. В этом случае хоретия принимает форму профанного, ординарного,<br />
утилитарного и подменивает подлинную семантику эстетики труда как основания<br />
творчества масс имитацией художественного принципа реализма. Во втором случае имеет<br />
место довольно агрессивное (с претензией на необоснованную элитарность) зряшное<br />
отрицание всеобщего, сплошь и рядом встречаемое в посредственных отображениях<br />
соответствующего исторического периода. Здесь нет дилеммности (в первом случае<br />
в смысле коллизий плакатного искусства и искусства масс, а во втором — элитарного<br />
и массового искусства) — здесь присутствует, с одной стороны, размывание, неосознанная<br />
профанация всеобщего, с другой, — его сознательное искажение. В первом случае —<br />
это самоподавление всеобщим в смысле трудности его понимания и возведения его в исторически<br />
обусловленную жизненную задачу; во втором случае — подавление всеобщим<br />
в виде ожидания его тягостных возможностей.<br />
Следующие болезни духа выводятся К. Нойкой из отказа (у человека) или неспособности<br />
(у вещей) понятийного самоопределения. Поэтому эти заболевания выступают<br />
противоположными первым трем — акатолия, атодетия, ахоретия. «Ахоретия» —<br />
«не иметь» (у человека — «отказаться») для возвышенной до всеобщности индивидуальности.<br />
Вхождение в определенные взаимосвязи может быть, но лишенные конкретных<br />
определений, вещи не существуют действительно. Здесь встречаем самоотречение от собственной<br />
самости, когда «даже обычные определения, цвет и форма вещей, должны<br />
исчезнуть в возвышенности экстаза» (Нойка). Ахоретией страдают все. «Век» иллюзий<br />
«абсолютной свободы», когда «никто никому ничего не должен» порождает ту эстетику,<br />
которая опирается на безразличии. Ибо в субстанциальном смысле все должны всем, точнее,<br />
должны освободиться от «несвободы» долженствования, диалектически осуществляя<br />
и, таким образом, преодолев его в основании общественного развития и, следовательно,<br />
в основании преодоления безобразного.<br />
«Атодетия» состоит в том, что явления имеют точную соответственность, но вне<br />
сосредоточенности на определенную реальность, так что не существует действительно.<br />
Отказ от индивидуального происходит через самоаннигиляцию в интересах общества<br />
и государства. В случае «акатолии» имеет место сосредоточение в некоторой индивидуальности<br />
реальных определений, лишенных в самих себе уверенности всеобщего. Вещи<br />
фиксируются, но в чем-то лишенном опоры всеобщего, поэтому не существуют действительно.<br />
Отказ от всеобщего является, с точки зрения К. Нойки, самым выраженным заболеванием<br />
современности: «Там, где отсутствует всеобщее, не остается места для истории<br />
в ее высоком смысле» [17, 135]. Найти акатолию в современном искусстве невозможно<br />
по причинам, изложенным в случае ахоретии.<br />
Недействительность истории. Неспособность больного самосознания к саморефлексии.<br />
Крайности, сходящиеся и взаимообусловливающие друг друга. И мгновение смерти<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
384<br />
раздел второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ негативная феноменология<br />
385
не способно перечеркнуть тоску по подлинности. В пределах больного Логоса все предстает<br />
больным и болезненно опосредствуется духом и чувствами. В каждом из этих заболеваний,<br />
осуществляя и воспроизводя себя отчужденным образом, пребывают индивиды,<br />
народы и даже целые исторические эпохи. Поскольку же, утверждает автор, такое положение<br />
дел объективно, имея, поэтому и практическое значение, то и шесть заболеваний<br />
духа могут привести к шести больших типов и способов человеческого самоутверждения.<br />
Таким образом, Нойка связывает болезни духа со становлением всеобщего в его историческом,<br />
логическом, эстетическом, этическом отношении, собственно говоря —<br />
со становлением Логоса в его феноменологическо-исторических превращениях: «Можно<br />
было бы говорить о шести возрастах человека, точно также, как можно было бы говорить<br />
о шести объектах его любви; существуют шесть способов творчества наподобие существования<br />
шести способов построения философских систем; существуют шесть типов<br />
культуры, шесть типов свободы, шесть типов исторической практики, точно также как<br />
существует столько же трагических смыслов, шесть форм случайности с соответствующими<br />
им формами необходимости, шесть пониманий бесконечности и шесть пониманий<br />
“ничто”» [17, 31].<br />
Разворачивая генезис болезней духа, автор показывает их проявление в непосредственном<br />
бытии. Еще во времена древних греков католия имела значение аномалии, возникающей<br />
в результате становления всеобщего в вещах и в человеке. «“Ничто” не лишено<br />
всеобщих смыслов, но та или иная реальность может быть лишена собственной всеобщности,<br />
а человек тяжело переживает такую ситуацию. Это проявляется таким образом,<br />
что человек нуждается как будто в другой всеобщности, единственной, которая бы подошла<br />
его индивидуальной мере. Более того, такая всеобщность не пребывает «где бы то ни<br />
было» (как на складе ленивых всеобщностей), а каждый раз, вместе с проявлениями индивидуального,<br />
должна принимать новый образ. Такими воплощениями всеобщего человек<br />
хочет быть. Быть для других, для себя, в Абсолюте, в истории, хочет быть в образе<br />
статуи, как гордость, справедливость, как истина, творец, как разрушитель, но быть.<br />
Страдания человека являются страданиями реальности, которая стремится быть хотя бы<br />
в первичном проявлении — в смысле выживания [17, 33]. Здесь обосновывается мысль, что<br />
именно «неуравновешенность», случайность эволюции по формам порождает «католию»<br />
как неравномерность господства всеобщих смыслов. Эволюция, сопровождаясь слепыми<br />
явлениями, которые, не завершаясь ничем, в жизни человека остаются слепыми, не знает<br />
собственных законов.<br />
Реальность эволюции, по К. Нойке, состоит из процессов, которые содержат в себе<br />
элементы порядка, но не достигают такого порядка и продолжают оставаться хаотичными.<br />
К примеру, Наполеон как человеческое воплощение стихии эволюции в одной из ее<br />
кульминационных точек, выявил и породил через себя большое количество исторических<br />
явлений, в которых все же не было порядка. Феномену проявления стихии становления<br />
в жизни отдельного человека Нойка дает такое объяснение: «Слепые манифестации<br />
истории выступают в свою очередь способом просто быть. Они не зависают над бездной,<br />
будучи связаными между собой чем-то индивидуальным, которому придают блеска.<br />
Такие индивидуальные реальности освобождают себя из инерции всеобщности и приобретают<br />
особенные, индивидуальные детерминации, не постигая при этом “кода бытия”.<br />
Они предстают как “совокупность явлений”, концентрирующихся вокруг одного полюса,<br />
но они не имеют противоположного полюса — всеобщего, через который они могли бы<br />
достигать полноту жизненного равновесия» [17, 35].<br />
Болезнь католии приводит к отсутствию всеобщих значений самосознания, когда оно<br />
перевоплощает в себе всеобщее, а также к противоположной крайности, когда происходит<br />
гипертрофированность собственного Я, подчинение индивидуальностью всеобщего.<br />
Рецидив католии выводится Нойкой как типичный для «великих хозяинов» мира в их<br />
«слепой потребности действовать». К ним относятся великие тираны: «опьяненный<br />
собственными действиями, больной “католией” может дойти до того, что начнет лихорадить<br />
историю собственной лихорадкой» [17, 36]. Нойка дает определенную феноменологическую<br />
характеристику католии через ее проявления в возрастных периодах становления<br />
человека. Это интересно не только в аспекте феномена становления феноменологии<br />
духа, но и феноменологии чувств. Речь идет о болезни человека, который понимает, что<br />
он не может достичь необходимой для него всеобщности. В этом случае, католия выступает<br />
заболеванием человека, который поднялся до культуры, человека, пребывающего<br />
в поисках всеобщезначимых истин. В этом процессе, к примеру, можно привести феноменологию<br />
ученых, не всегда индивид выдерживает трансформации необходимости, свободы<br />
и случайности. Так, в случае Кьеркегора имеет место разочарование и отчаяние в силу<br />
утраты всеобщности. Кьеркегор, по утверждению Нойки, является самым выдающимся<br />
больным католии в европейской культуре: «Он знает о всеобщем, чувствует его присутствие<br />
как проклятие, переживает и пропускает всеобщее через себя постоянно. В то же<br />
время, он пытается обойти его, не только углубляясь в собственную судьбу, но и, в силу<br />
таких причин, теряясь в ней» [17, 47–48].<br />
Тодетия разворачивается в противоположном католии направлении. Если католия<br />
была болезнью несовершенства, то тодетия, напротив, является болезнью утрирования<br />
совершенного. Тодетия проявляется как зависимость человека от того или иного смысла<br />
всеобщего характера, за которым трудно найти собственную индивидуальность: «так,<br />
религиозное сознание, ориентируясь на совершенство божественного, мучается из-за того,<br />
что никогда не имело возможность созерцать осуществление божественного в чем-то<br />
реальном. Если христианство занимает особенное место среди мировых религий, это благодаря<br />
тому, что оно имело мужество поддерживать идею индивидуального воплощения<br />
сверхчувственного» [17, 50], «святость в своей сущности рождалась из «ничто», из отсутствия<br />
идентичного совершенства».<br />
Таким образом, именно общая реальность в своей болезненности является первичной<br />
по отношению к болезням духа. Абсолютное ли время, или абсолютное пространство,<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
386<br />
раздел второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ негативная феноменология<br />
387
с самого начала были предрасположены заболеть «совершенством». «Ничто» индивидуального<br />
не могло не только их реализовывать, но и выдержать: «Время представало как<br />
глубокая метафизическая ирония и в его понимании Ньютоном, утверждало себя через<br />
данное время, чтобы заметить свою собственную ложность в форме абсолюта; или же оно<br />
порождало “детей мгновения”, которых уничтожал так же, как и Кронос. Пространство<br />
тоже становилось принципом индивидуализации через локальные самодетерминации,<br />
отрицая в то же время какие-либо локализации. Именно поэтому Гегель называл абсолютное<br />
время “самым мощным, и самым уязвимым”» [17, 53].<br />
Нельзя не согласиться с тем, что, в пределах неимманентности идеального материальному,<br />
болезни духа сопровождались драматизмом теоретических рефлексий в тех случаях,<br />
когда таковые имели место. Человек сильно страдал вследствие логических рефлексий.<br />
При игнорировании реального возвращения индивидуального, совершенство<br />
рефлексий придавало больному на тодетию больше благородства, но в то же время, отягощало<br />
его более сложными формами. И не только как существа религиозного, или познающего,<br />
ибо тодетия ассоциируется с наивысшими процессами, и в первую очередь,<br />
с процессами познания. Но наряду с деградацией, которую современность внесла в высшие<br />
кульминанты культуры, и с релятивизмом в познании, — объясняет автор, человек<br />
освободился от тоски по совершенству и, таким образом, от одной из форм тодетии.<br />
«Но снова случилось нечто непредвиденное: если через точное познание рассеялись тучи<br />
любого абсолюта, то у самого познающего человека остался абсолют точности. Все совершенства<br />
распались в процессе познания, но осталось стремление к совершенству самого<br />
познания. Потребность в абсолютной точности нашла свое отталкивающее воплощение<br />
в символической логике, идеал которой заключается в том, что она находит большие<br />
совершенства во всем, что было утверждением логоса (в первую очередь в естественных<br />
языках). Хотя в таких выявлениях доходит до подчеркивания парадоксов и противоречий<br />
даже в математике. Такое устремление не может не превратиться в болезнь тодетии,<br />
через муку неспособности найти для меры всеобщего индивидуальную меру, и, таким образом,<br />
символическая логика вынуждена выдумывать такие индивидуальные меры, или<br />
предлагать их в форме идеальных моделей. В своей внутренней взаимосвязи с автоматическими<br />
системами, на службе которых она находится, символическая логика представляет<br />
в чистом виде первичность всеобщего над единичным и, таким образом, первичность<br />
точности, механическо-рационального совершенства, из-за которого естественный человек<br />
рискует своей упорядоченностью перед неупорядоченностью. Действительно, в науке<br />
человек должен представлять собой некоторое отсутствие, как и все остальное, что является<br />
по характеру индивидуальным. Любая наука является редуцированием некоторого<br />
многообразия до единства, то есть явлений до всеобщности. Главной <strong>проблем</strong>ой здесь выступает<br />
то, что многообразие природных явлений следует понимать как общий порядок<br />
и истину. Индивидуальное же как таковое, как и Великий человек, перед познанием могут<br />
взяться только в скобках» [17, 54].<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
388<br />
К. Нойка показывает, что тодетия также обладает своей кульминационной формой.<br />
Последняя всегда трагична. «Собственным совершенством, точностью, уверенностью<br />
внутренних связей, всеобщее торжественно входит в жизнь и в культурное пространство<br />
человека. Но такая всеобщность, которая не находит свою индивидуальность и потому<br />
рискует раздавить любую индивидуальность в параметрах реальности, выступает активной<br />
в непосредственных формах. И не только в высших формах познания. Это заболевание<br />
типично для половины человечества: для женщин, претендующих законсервировать<br />
общность своего пола в своей индивидуальности — будет ли это ребенок, любовь или<br />
семья. Через свой, достаточно глупый, но переполненный крайностей экзальтированной<br />
красоты, молодые люди, в основном под влиянием идеала, а также в качестве первичного<br />
восхождения к всеобщему, которое они подчиняют себе на первом этапе, обязательно<br />
переживают такой период, когда заболевают тодетией» [17, 56].<br />
В форме идеала всеобщее становится активным преимуществом над непосредственными<br />
чувствами молодого человека. Поэтому, особенно в юном возрасте, всеобщее может<br />
переживаться в форме «неопределенности чувства, только разбуженного всеобщим»<br />
(Нойка): «Молодой человек испытывает потребность действовать, но не знает что и как<br />
осуществлять; хочет изменить мир к лучшему, но не знает как; хочет любить, но не знает<br />
кого именно. Но идеал как выражение всеобщего является активным не только по отношению<br />
к сердцу, но и по отношению к сознанию. Особенно в отдельные моменты жизни<br />
и особенно в определенном возрасте. Это молодой возраст “теоретического сознания”.<br />
Дойдя до этого <strong>проблем</strong>ного момента, молодой человек почти всегда попадает под деградированную<br />
всеобщность. Правда, это встречается и у взрослых. Что характерно для<br />
такого возраста, так это факт попадания индивида в независимость от общих значений,<br />
которые стали ему доступными, […] но ему недоступно собственное самоутверждение<br />
или реализация всеобщего в конкретных ситуациях» [17, 57].<br />
Вместе с тем, продолжает философ, не только в этом возрасте индивид может очаровываться<br />
и радоваться своему восхождению до общезначимого (даже если при этом он<br />
рискует не знать, где и когда остановиться, или не заметить конкретность всеобщего, которое<br />
осуществляется в нем). Радость наблюдения явлений всеобщего, распространяющиеся<br />
на исторические и общественные законы, может привести к тому, чтобы забыть<br />
о самом себе: «независимо от твоих желаний, ты очарован и охвачен не столько познанием,<br />
сколько возможностью переживать вместе со всеми (коллективным энтузиазмом,<br />
господствующими историческими ситуациями, характером времени, общественными<br />
идеями). Переживать таким образом, что всеобщее, с выделенными в себе явлениями, становится<br />
господствующим над любым индивидуальным смыслом и достигает особенную,<br />
автономичную форму. Но является ли эта всеобщность твоей всеобщностью? Скорее всего<br />
— это фантомное существование “под чем-то”. “Я был не Я” — чувствует каждый, кто<br />
пережил этот страшный сон. В реальности та всеобщность, которая превращает в случайность<br />
общего любой индивидуальный поступок, раздавливает ситуации и индивидуальраздел<br />
второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ негативная феноменология<br />
389
ные судьбы только потому, что сам индивид находится в процессе становления. Поэтому<br />
«в идее» могут потеряться целые народы, точно также как и отдельные индивиды, которые<br />
потом не находят возможностей вернуться к себе. Теоретическое познание, слишком<br />
категоричное по своей природе, способно опустошить большие исторические общности<br />
точно также, как и целые культуры. Ориентация современной культуры на позитивизм,<br />
как и ориентация современного искусства на абстрактные формы, относятся к определенной<br />
степени взросления истории, до которой мы дошли, и которая принимает два контрастных<br />
противоречия: теоретическая истинность государства, которое еще не существует,<br />
и рафинированная рассудочность некоторых исторически пресыщенных наций» [17,<br />
59]. В этике данная <strong>проблем</strong>а предстает противоречием между тем, кто действует<br />
по принципу что хочу, и тем, кто действует по принципу что необходимо. Но в таких действиях<br />
человек уже выходит за пределы статуса «статистической единицы».<br />
С точки зрения К. Нойки, хоретия является заболеванием или великих нетерпеливых<br />
мира, или, напротив, великих терпеливых, как и всех, кто терпит в этом мире. Здесь имеет<br />
место положительное и отрицательное испытание воли человека, ее положительный<br />
или отрицательный диссонанс с необходимостью и свободой, который, в свою очередь,<br />
может «интенсифицировать или тормозить протекание болезни». Даже ритм исторических<br />
явлений предстает испытанием воли человека попыткой изменить его. Поэтому, в отличие<br />
от предшествующих, такое заболевание возникает на уровне соотношения человека<br />
и истории. Но как у человека, так и в истории, хоретия может принять хроническую<br />
или острую форму. В объем острой формы хоретии Нойка вводит проявления таких персонажей<br />
как Дон Кихот, Фауст, Ницше, представленный его Заратустрой. Относительно<br />
Зевсов, то больного на такую форму хоретии автор видит в Люцифере М. Эминеску. «Все<br />
они страдают от слабости перед невозможностью задать себе проявления, соответствующие<br />
их собственной судьбе. Поскольку трагедия представляет собой опыт осознания<br />
пределов, она может встречаться только у человека или у тех исторических общностей,<br />
которые достигли индивидуальности. Но всеобщее обладает человеческой определенностью,<br />
поэтому тот, в котором оно осуществляется, является гением. В гениях же трагедия<br />
предстает не только трагизмом личности, но и трагизмом всеобщего — того, что, осуществляясь<br />
в индивидуальности, обусловливает переживание ею пределов бытия абсолютного<br />
в другом, не обыденном ракурсе. Таким случаем выступает гений Люцифера<br />
М. Эминеску, который страдает от невозможности осчастливить других и быть самому<br />
счастливым. «Действительно, в качестве всеобщей сущности Люцифер не может индивидуализироваться<br />
и, тем самым, страдает от тодетии. Ему удается на короткое мгновение<br />
индивидуализироваться (и даже два раза, когда он покидает небесную сферу и опускается<br />
на землю), но каждый раз он остается “прекрасным мертвецом с живыми глазами”<br />
(Эминеску). Он не может задавать себе земных детерминаций, смешивая в себе тодетию<br />
с острой формой хоретии. Нетерпеливость Люцифера заключается в желании достичь<br />
земных определенностей и подобна нетерпеливости желания Фауста достичь небесных<br />
определенностей. Но “Земной дух” ставит преграды и делает невозможным такое превращение.<br />
Как Люцифер остается “бессмертным и холодным”, так Фауст остается “смертным<br />
и холодным”, далеким от любых определенностей и включенным лишь в ту возможность,<br />
которую ему предоставил Мефистофель. И в случае Люцифера, и в случае Мефистофеля,<br />
хоретия принимает значение последнего опыта» [17, 70–71].<br />
Положительно (с точки зрения автора) проявляется хоретия в случае Дон Кихота. Его<br />
нетерпение реализовать себя как всеобщность приводит к таким обстоятельствам-детерминациям,<br />
которые, несмотря на осуществление реальной воли, завершаются конструкцией<br />
высоких смысловых полей. В реальности же все предстает постоянным недоразумением.<br />
Возникает такой феномен, когда индивид видит, что не достигает упорядочивания<br />
мира даже ценой собственного подчинения ему. И тогда, осознав необходимость реального<br />
закона и общего порядка того, в чем должно реализоваться бытие, субъект великих<br />
стремлений проносит через себя этот смысл, считая себя его носителем и реализатором:<br />
«Я существую потому, что опредмечиваю в себе некоторый закон; я сам для себя осознал<br />
всеобщий смысл, или освоил его в некоторой области реальности, которая зависит от моих<br />
сил» [17, 73]. В этом случае человек не осваивает собственную индивидуальность и не<br />
упорядочивает мир напоминанием, или внешней вооруженностью всеобщим, но только<br />
детерминациями конкретных ступеней последнего.<br />
Совершенно правомерно, что понимание характера хронической хоретии зависит от<br />
понимания характера самого Хроноса. «Как и абсолютное пространство, раньше время<br />
представало лишенным индивидуальности, лишенным “именно этого”, когда и абсолютное<br />
пространство, и абсолютное время представали как космические образы тодетии.<br />
Но когда мы продвигаемся от идеи абсолюта до его реального образа, то время и пространство<br />
предстают смешаными с индивидуальным и напоминают, как ву случае Люцифера,<br />
доведенное до крайностей становление самих детерминаций. Потому что в реальности<br />
пространство и время являются именно принципами актуализации “здесь” и “теперь”.<br />
Если же опускаться до уровня сознания обычного человека, мы найдем симптомы этого<br />
заболевания у тех, кто так или иначе сами себя подчинили некоторой высшей необходимости.<br />
Понятый один раз, закон уже нельзя обойти. Под действием этого закона жизнь<br />
становится иной. Вопрос только в том, становится ли она настолько “иной”, что превращает<br />
проявления человека в неадекватные ему самому действия. Причем неадекватные<br />
тому самому закону, которого он придерживается. Но носящий в себе всеобщность человек<br />
предстает не слепым, наподобие Дон Кихоту, а уверенным в том, что он делает. Тем не<br />
менее, такая самоуверенность может привести к деформациям, что были свойственны<br />
святому Августину. Оторванный от многообразия жизни и властвующий над собой в устремлениях<br />
к достижению “прекрасной души”, он превратил жизнь в нечто незначительное,<br />
но претендующее на большую значительность. “Печаль после победы” является<br />
состоянием–следствием этого заболевания» [17, 79–80].<br />
Охватывая возможное пространство данного заболевания, Нойка утверждает, что все<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
390<br />
раздел второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ негативная феноменология<br />
391
— от великих актеров до великих влюбленных, от простых до великих людей — могут<br />
заболеть хронической хоретией тогда, когда очарование всеобщим слишком велико.<br />
Но такое же очарование может выпасть целым народам. Даже таким народам, которые<br />
не обязательно хворали острой формой хоретии. К примеру, магометанство представляло<br />
для арабских народов блокирование исторического развития, которое, после прекрасного<br />
начала их истории, не позволило им выйти на сущностную линию европейской культуры<br />
и задать себе координаты для полноценной исторической жизни. С другой стороны,<br />
тюркским народам, которые, возможно, с самого начала не обладали большими творческими<br />
способностями, магометанство оставило лишь пустую способность покорять и подчинять<br />
себе другие народы, господствовать над ними, не обладая при этом ни собственной<br />
культурой, ни цивилизацинностью.<br />
Определив фундаментальные особенности первых трех заболеваний, Нойка выводит<br />
остальные три в качестве их специфического антипода. Ведь нельзя рассматривать, к примеру,<br />
акатолию в виде простой противоположности католии, без того, чтобы она не уподобилась<br />
тодетии. И в остальных случаях особенность противопоставления первых<br />
и последних трех заболеваний духа не должна пониматься механицистически. С «ахоретии»<br />
начинаются, как утверждает философ, болезни «здравого рассудка». В качестве<br />
яркого примера, обрисовывающего особенность последней, Нойка приводит пьесу Беккета<br />
«В ожидании Годо». Тут ахоретия предстает категорическим и тотальным отказом<br />
от любых обусловленностей. Другим примером может послужить феномен хиппи,<br />
представляющий собой чрезмерность, но «чрезмерность низкого порядка». «Если ахоретия<br />
является непривычной для активного духа европейской культуры и философии, она<br />
естественна там, где некоторая литературная пьеса является не простым драматическим<br />
сочинением, и не эксцентричным, наподобие хиппизма, опытом, а предстает своеобразной<br />
эпопеей в середине данной культуры. Тут духовный отказ от детерминаций уже<br />
не принимает форму чего-то эксцентричного, а принимает форму тенденции наивысшего<br />
прозрения, такого выхода за пределы мира, который приостановлен уровнем исторического<br />
становления» [17, 86]. Так, в индийской культуре действие подменивается «пассивной<br />
выдержкой».<br />
Кажется, что в такой интерпретации ахоретия была бы невозможной для европейской<br />
культуры. Но нельзя ставить знак тождества между такими явлениями ахоретии как<br />
хиппизм и индийский поиск нирваны. Или же, если знак равенства ставится, то этим выявляется<br />
новая, остро актуальная теоретическая <strong>проблем</strong>а. Она состоит в необходимости<br />
осмысления общих закономерностей как европейского, так и азиатского миров в значении<br />
различных форм единства мира, только в период становления выступившими параллелями.<br />
А последние, очень своеобразно сокрыты в зародыше азиатского способа производства.<br />
Ахоретия уникальна тем, что принимает положительные значения через крайнюю<br />
форму негативного. Иначе говоря, она становится эффективной через тотальную<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
392<br />
бездеятельность. «Тем не менее, следует отличать ситуацию, когда хочешь обладать<br />
детерминациями (как в случае хоретии), но не достигаешь их до тех пор, пока от них<br />
не отказываешься», — предупреждает автор. Тот, кто болеет ахоретией и отказывается<br />
от детерминаций во имя всеобщего, должен растворить в себе индивидуальное наподобие<br />
«соляной статуи». «В случае ахоретии, когда скорее индивидуальное реализуется через<br />
всеобщее, рождается прозрение, а не слепота, радость от поражения, но не печаль от победы.<br />
Так случилось со стоиками, единственными наряду с аскетами в европейской культуре,<br />
которые прямо напоминают индийский мир. Стоики непосредственно устанавливают<br />
соотношение между индивидуальным сознанием и универсальным разумом […]<br />
Ты существовал как часть целого. И вернешься в то бытие, которое тебя породило» —<br />
сказал Марк Аврелий после того, как раб Эпиктет вымолвил: “Вспомни, что ты актер<br />
в драме, которую автор написал не спрашивая твоего согласия”. Для того, чтобы возвыситься<br />
до всеобщего, во имя которого он отказывается от детерминаций, стоик не нуждается<br />
в опосредствовании этими детерминациями» [17, 89].<br />
К. Нойка распространяет феномен ахоретии и на особенности математического<br />
познания, поскольку таковое, вследствие своей «точности» также аскетично, подобно<br />
поэзии, которая была аскезой познающего мышления. Здесь выявляются предпосылки<br />
для новых изменений в состоянии духа современности. «Европейский человек, ведущий<br />
за собой всех людей планеты, находится, с одной стороны, на пути изменения католии<br />
на тодетию, с другой — на пути превращения ее в хоретию. Таким образом, он находится<br />
в сложном состоянии, а именно — в состоянии поиска адекватных современности детерминаций<br />
и именно в то время, когда ему необходимо превратить хоретию на ахоретию.<br />
По сути дела, только современный европейский человек переживает все болезни духа.<br />
На современном же этапе он все же пребывает в рамках ахоретии, которая казалась свойственной<br />
лишь индийской культуре. Только в европейском контексте речь идет о другом<br />
варианте ахоретии, в той мере, в какой всеобщее, в котором пребывает европейский человек,<br />
отличается от всеобщности Брахмы» [17, 95–96].<br />
В атодетии человек сознательно отказывается от индивидуального. Атодетия, как<br />
и ахоретия, также является болезнью здравого рассудка. Чем больше тут отрицается<br />
познание, тем более распространяется здравый рассудок. Именно поэтому атодетия возникает<br />
во времена запоздалого взросления народов и индивидов и принимает вид «нюансов»,<br />
«моделирования», «церемоний», «культивации» и «комментариев». Отсюда Нойка<br />
выводит объяснение такого феномена, когда целые народы, как и личности, были лишь<br />
простым приложением к определенной форме религии, этической системы или просто совокупности<br />
«идей». В отличие от ахоретии, для которой характерным был тип аскета или<br />
экстатика, для атодетии характерным выступает тип священника — того, кто будто бы<br />
владеет истиной. «Под такой атодетией жили народы до того времени, когда состоялось<br />
утверждение индивида в значении героя — возможно, также и философа (софиста<br />
в Древней Греции, позднее — христианина, и, наконец, свободного человека в современраздел<br />
второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ негативная феноменология<br />
393
ной европейской культуре). Большинство поколений приняли историю в качестве такой,<br />
которая преодолевает собственные границы, и таким образом утверждает, часто варварскими<br />
методами, определенные общезначимые смыслы. Такими смыслами были мировые<br />
религии. Ценой индивидуального самопожертвования, целые общественные группы оказались<br />
подчиненными некоторой религиозной идеей, которой они придавали новые нюансы<br />
и удостоверения. И это осуществлялось намного быстрее, чем они реализовывали<br />
свои человеческие качества через эти идеи» [17, 111]. Но более яркую историческую практику<br />
под знаком атодетии переживают, с точки зрения К. Нойки, общности, которые поднялись<br />
до уровня культуры. Возможно, утверждает он, в таком положении находились<br />
когда-то мавры. В далеком прошлом, Китай и Египет смогли эффективно остановиться<br />
на нахождении и рафинировании новых значений содержания общих смыслов.<br />
В рефлексиях болезней духа через феноменологию великих персоналий автор концепции<br />
утверждает, что Канту, к примеру, индивидуальное не было присуще вообще. Он считает<br />
характерным для Канта (в аспекте атодетии) ориентацию разума до критического<br />
и дисоциативного, в то время как ахоретия ориентировала на экстатическое мышление,<br />
на мышление математического типа. Разум, который отказывается от индивидуального,<br />
не способен найти закон — в отличие от Бэкона, Декарта или Лейбница, Кант не мечтает<br />
о новых науках и не предлагает их. Он предлагает лишь правила закона и логические задачи<br />
на основе таких правил в отношении познания человека и природы. В этом смысле,<br />
речь идет уже о первичности познания перед его реализацией, но не такого познания,<br />
которое открывает законы природы, а такого, которое само порождает эти законы, или<br />
критически сотрудничает при их порождении. «В любом случае — это познание запоздавшего<br />
мужа, такое, какое Гегель образно отождествлял с полетом Совы Минервы<br />
в сумерках» (Нойка).<br />
Атодетия, может завершиться формой разума без тела — отказом от индивидуального,<br />
если такой отказ утрачивает путь к реальному. Это заболевание зависит от становления<br />
культуры и на индивидуальном уровне являет себя как полный уход во всеобщее,<br />
доходя или до выведения абстрактных истин, или до последовательного повторения ложных<br />
форм всеобщего. Поскольку же реальность последнего не есть непосредственная<br />
данность, то интерес ко всеобщему остается в пространстве возможного. Таким образом,<br />
атодетия характерна для определенного критического и дисоциативного типа философского<br />
мышления. Но свобода, которая приписывается абстрактной всеобщности,<br />
не является полной. Она обогащает его понимание и смысл, но через предельно богатую<br />
нюансами необходимость, через закон, проявляющийся как случайность. В то же время,<br />
атодетия порождает такой закон, который допускает лишь статистическую индивидуальность<br />
и поэтому игнорирующий реальное существование свободы.<br />
Содержание и разворачивание акатолии Нойка выводит таким образом: в отличие<br />
от атодетии как болезни культуры, акатолия как отказ от всеобщего, является болезнью<br />
цивилизации. Она характерна для современности в ее европейском варианте: «Кажется<br />
более эффективным проанализировать цивилизацию под знаком акатолии, а не усталости<br />
и конца пути, как это представил Шпенглер в “Закате Европы”. Шпенглер видел под<br />
этим углом зрения лишь отрицательные стороны цивилизации. Но осознанный отказ<br />
от всеобщего (как и в случае двух предыдущих болезней) очень далек от простого феномена<br />
усталости прошлого в пассиве человека как начала конца. Шпенглер не смог понять<br />
ни романтической полноты научно-технической революции, ни великие изменения в состоянии<br />
интеллигенции, которая восстала против всеобщего (как в “Бунтующем человеке”<br />
А. Камю), ни великие информационные и демографические взрывы. Он не понял<br />
позитивный смысл нашего мира, как и его выход за собственный предел, что в то же время<br />
было обречено на такие катастрофы, которых мир никогда не видел, но и таких <strong>проблем</strong>,<br />
которые впервые стали перед человеком» [17, 133–134]. Живущий в этом мире человек<br />
должен перестать себя обманывать. Поскольку мы живем под знаком цивилизации,<br />
утверждает автор, мы живем под знаком света. Мы уже пятый элемент после четырех.<br />
«Но мы живем в элементе холодного огня, электрической энергии и электронных флуктуаций,<br />
которые привели до автоматов другого типа нежели те, которые были порождены<br />
горячим огнем» [17, 133–134].<br />
Из этих размышлений выводятся основные черты атодетии. От значения света родился<br />
разум эпохи Просвещения (Иллюминизма): «Просвещение возникло как сосредоточение<br />
и сомнение перед любыми всеобщностями (всеобщности Бога в первую очередь) и со<br />
своей акатолией, которая обусловила неспособность достичь некоторую всеобщность<br />
через определения. Но разум нашел бы всеобщее, если бы оно в тот момент было действительно<br />
свободным. Так как разум стремился не только к познанию, но и к реальным для<br />
себя и человека смыслов. Правда, он каким то образом снова превратился в скептицизм,<br />
но только на мгновение. Разум “приходит в себя” и смертью духа переступает через<br />
смерть, он должен подняться именно до такого света, под знаком которого родился» [17,<br />
134–135]. Проблема в том, что разум периода Просвещения не смог свободно реализоваться<br />
до конца. Ему мешал эмпиризм, утилитаризм, технические и производственноматериальные<br />
достижения, которые породили потребительское общество. Тем не менее,<br />
разум продолжал поиск своего значения в реально-историческом бытии человека. Прекрасный<br />
лозунг Просвещения: «Просвещайся, и будешь» превратился в лозунг: «Просвещайся,<br />
но потеряешь жизнь», который, с точки зрения Нойки, переживается западным<br />
миром со страхом. «В самом деле, англосаксонский мир, южные немецкие корни, страдают<br />
хронической акатолией. Южный мир интересен: он не породил с 800 по 1200 годы, когда<br />
родились его мифы, какую-либо великую религию, или эпопею, равную за масштабами<br />
древнегреческим или индийским эпопеям. Он не породил даже исторического государства<br />
(английское государство было, скорее, основано французами), но в его пределах возникли<br />
две не имеющие равных во всем мире тональности: философская и музыкальная вокация у<br />
немцев и эмпрически-практический, как и технический опыт у англичан. С производством<br />
машин, англо-саксонский мир полностью изменил образ целого мира» [17, 135]. С точки<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
394<br />
раздел второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ негативная феноменология<br />
395
зрения автора, достижения современной акатолии, если ограничиться ее английским типом,<br />
выливаются в одно принципиальное противоречие — несмотря на то, что после Второй<br />
мировой войны Великобритания утратила свой имперский статус, английский дух,<br />
напротив, победил весь мир. По крайней мере, он победил полностью европейское пространство<br />
и ту часть земли, которая находится под влиянием Великобритании.<br />
Прослеживая логику и смысл, который К. Нойка вкладывает в содержание болезней<br />
духа, становится очевидным, что они представляют гносеологически перевернутую<br />
персонализацию истории. Представлено ли это в непривычных обывателю поступках,<br />
формах проявления воли или формах познания. Очевидно также, что нельзя ставить знак<br />
равенства между неразумием и безумием перевернутого гносеологического пространства,<br />
как нельзя ставить знак равенства между различными причинами сумасшествия духа.<br />
Если в «Эстетике безобразного» Карл Розенкранц относил сумасшествие к одной из ступеней<br />
деформации, то при этом не забывал и о величии сумасшествия, по поводу которого<br />
Лессинг когда-то выразился: «тот, кто при определенных обстоятельствах не теряет<br />
рассудок, — тому нечего терять».<br />
Проблема перевернутой гносеологии становления не является в чистом виде <strong>проблем</strong>ой<br />
безумия классического разума, так как именно такая форма познания была «нормальной»<br />
для становления. Следовательно, такое безумие не тождественно безумию<br />
театра абсурда. Впрочем, культурное пространство, возникшее между классическим,<br />
существовавшим «не в разумной форме» разумом (К. Маркс) и абсурдным сознанием<br />
ХХ столетия, было наполнено случаями безумия отдельных носителей культуры. Труды<br />
многих из них читаются и почитаются. Безусловно, были психически больные философы,<br />
художники и писатели, но не все душевнобольные являются философами, писателями<br />
или художниками. И все же такая инверсия неправомерна. Переворачивание соотношения<br />
творчества до отношения гениальности к помешательству выводит творчество как<br />
единственно нормальное состояние человека за границы действительности жизни, переводит<br />
его в область неестественного. А уж в этой области больное творчество ничем иным<br />
быть не может, как предметом психоанализа и критерием аномальности.<br />
Думается, что за <strong>проблем</strong>атикой болезней духа в классическом становлении истории<br />
стоит <strong>проблем</strong>а степени возможности личностного самоопределения человека в истории<br />
именно тогда, когда сама история самоопределяется исключительно в качестве предмета<br />
познания и только в периоды «скачков» — в качестве предмета преобразования. Конфликтность<br />
человека-личности с исторической данностью является не только следствием<br />
ограниченности предмета исторического действия в засисимости от степени его осмысления<br />
в контексте степени осмысления идеального пространства самого мышления. Такой<br />
конфликт является также следствием внутренней противоречивости человека самому<br />
себе в силу несоответствия феноменологии духа логики истории в масштаба времени<br />
определенной исторической эпохи, а также в силу внешней, абстрактной противоречивости<br />
индивидуального становления становлению истории. Отсюда феноменальное<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
396<br />
несоответствие человека самому себе, его дихотомия, вплоть до социальной шизофрении<br />
(Ж. Бодрийар), постоянная критичность по отношению к собственной ограниченности<br />
и осознание невозможности выйти за пределы такой ограниченности. Цветы зла расцветают<br />
не только на пустоши отказа от величия, их рассаживают на могилах погибших героев<br />
как память о времени, которое их истребило.<br />
На фоне великих героев, ставших личностями через превращение истины всеобщего<br />
в смысл личной жизни, процветает очарование злом и индивидуализм, доведенный до маниакальности<br />
представителей зла. В этом пределе возможны были две линии — линия зла,<br />
ставшего соблазном уже не Мефистофеля, а его мелкого подобия в образе Дориана Грея<br />
и всего пантеона последующих представителей «подземного царства» истории. Вторая<br />
линия является полной противоположностью первой — превращение принципа личности<br />
во всеобщий принцип и его торжество как торжество автобиографии истории. Как оказалось,<br />
обе остались обладающими равными возможностями (и амбивалентностью) параллелями<br />
на конец не только ХІХ, но и ХХ столетия.<br />
Законсервированность превращенных отношений «единичных» форм Я и «всеобщих<br />
логических» форм Мы не разрешает противоречия Логоса как необходимости-свободы<br />
становления и индивидуального перевоплощения истории. Поэтому клиника болезней<br />
духа сохраняется как антиномия истинности и неистинности человеческой воли в объективном<br />
ходе вещей, и только в этом тождестве единичная жизнь, в проекции на экране<br />
вечности, может иметь положительный смысл как утверждение общего смысла через самопреодоление<br />
отдельности. Здесь обозначается граница переставания разумом быть<br />
одиночеством и печалью познания, трансформируясь в величие практического разума,<br />
но в новых, неведомых классике смыслах и определениях самого предмета практики.<br />
Ошибка методологических подходов к раскрытию природы эстетического с позиций<br />
самого эстетического, с оснований художественных произведений (которые не могут<br />
выполнить эту рефлексивную миссию, будучи сами производными) сохраняется в арсенале<br />
современного искусства, искусствоведения и художественной критики. Вместе с тем,<br />
возвращение в пространство иллюзорной дуальности эстетичекого обусловливает необходимость<br />
понимания основания эстетического так такого «своего другого сознания»,<br />
которое опосредованным образом приобретает это самосознание, в то же время, как<br />
и самосознание приобретает «свое другое» в чувственной непосредственности. Механическое<br />
понимание разрешения данного противоречия апеллирует к морали как их «необходимого<br />
синтеза», что не приводит к положительному результату. Но, «если разум, перерастая<br />
свои собственные рамки, становится инструментом злоупотребления моральной<br />
практикой, то чем же является то, против чего совершается злоупотребление?» [65, 23].<br />
Негативная феноменология знает только отрицательность и не знает другого. Даже<br />
допуская его, не веря в реальную возможность другого, о нем даже не мечтает. В этом<br />
смысле, феноменологические превращения современного сознания ассоциируются<br />
с замкнутостью сюжета последней легенды. Логические нити этой символической и сераздел<br />
второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ негативная феноменология<br />
397
мантической ассоциации требуют расшифровки (насколько вообще возможна расшифровка<br />
такого рода замкнутости) в пределах трансформации логческого поля общественного<br />
сознания. Несложно обозначить что на входе данной замкнутости — примитивная,<br />
в силу неопосредованности целесообразностью, «ненависть к неподвижному всеобщему<br />
понятию», а на выходе «культ иррациональной непосредственности, суверенной свободы<br />
в несвободном». Вместе с тем, невзирая на «равную бытию» «ничтойность» содержания<br />
современного сознания, его «нерефлектированной банальности» (Т. Адорно), перенасыщенной<br />
лоскутами обыденной реальности самоидентификации, дезертирства из категориального<br />
пространства мысли и истории, его негативность обладает наличным бытием.<br />
Последнее в становлении, как в диалектике и метафизике любого процесса играющее<br />
роль необходимой отрицательности, отражая «минусовое пространство» сущности,<br />
никогда раннее в истории не претендовавшее на собственный статус, превращается в самостоятельную<br />
негативность. В современном мире именно отрицательность приняла<br />
форму устойчивости, поэтому «негативная диалектика» актуализируется возможностью<br />
стать самостоятельным модусом наличного бытия, такой атрибутивно невыносимой<br />
ситуацией, когда «тождество индивида с самим собой» превращается не только в «логическую<br />
галлюцинацию» (Гегель), но и в этико-эстетическую самопрофанацию. Ведь абсолютизация<br />
отрицательности исключает тождественность Я с социумом, из которого Я<br />
поспешно, и даже с трагической успешностью редуцирует себя. Феноменологический образ<br />
такой эклектичности выглядит дурной бесконечностью симулированніх пространств,<br />
звенящих гулом пустоты.<br />
Таким образом, в негативной феноменологии форма не становятся внутренней, качественной<br />
определенностью сущностного Я. Не случайно форма выводится за пределами<br />
индивидуализированной сущности, так как сущностное Я не становится эстетическииндивидуализированной<br />
формой общественной истории. Поскольку же атрибутом<br />
возможности такого становления выступает творчество, а первоначальное содержание<br />
последнего в рамках восхождения культуры в непосредственную конкретность суть<br />
доразвитие случайности до необходимости, тогда творчество представляет свободным<br />
основанием индивида как его самоопределение. Это уже не <strong>проблем</strong>а методологии — это<br />
<strong>проблем</strong>а способности к художественной деятельности, противоположное эстетическое<br />
художественному в его классических определениях.<br />
Рёбра — самая красивая часть<br />
скелета, представляются<br />
крылья или нечто вроде<br />
гармони где жизнь в- и вы-ходит<br />
лучше всего их видно<br />
у изголодавшихся или в общей могиле<br />
это борозды на песке<br />
когда море отступает после прилива<br />
это оставшиеся от деревьев<br />
ломкие ветки когда их<br />
на открытых грузовиках<br />
увозят.<br />
Мириам Ван Хи. Пер. Дм. Сильвестрова<br />
2 Концепция К. Нойки изложена в моей монографии «Феноменология истории в трансформациях<br />
культуры» (К.: Изд-во Нац. авиац. ун-та, 2005).<br />
Примечания<br />
1 Означенная инверсация следует по обратной логике восхождения «предметных форм», и воспроизводит<br />
уже движение вспять от органического к неорганическому, от живого к мертвому,<br />
что может уже быть диагностическим признаком и некоторым критерием «классификации» направлений,<br />
поднаправлений и т. д. современного искусства.<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
398
ТРАНСГРЕССИИ ВРЕМЕНИ<br />
В КОНТЕКСТЕ ЛОГИЧЕСКОЙ<br />
ЗАМКНУТОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ<br />
Я был погребен под грудами мертвецов…<br />
Оноре БАЛЬЗАК. Полковник Шабер<br />
Прощай. Предыдущий ты человек, ей-богу.<br />
Всеволод ИВАНОВ. Бронепоезд № 14-69<br />
Безумие возвращения истории в исчерпанное становление<br />
не имеет никакого подобия безумству храбрых, совершивших когда-то<br />
преодоление пределов его (становления) абстрактности,<br />
но воплощается в образы безумия массы и отдельных персоналий.<br />
Массы надеются на чудо, «персоналии» «страждают» по поводу<br />
недополучения «условий». И те, и другие — бессознательные и сознательные<br />
потребители «безумства храбрых», в которые в нескончаемом<br />
«шоу-карнавале» различной тематики, но одинаковой<br />
пошлости бросают каменья своих окаменевших «душ» и своей<br />
вышибающей дух «духовности», оплачиваемые «шоумены» и бесплатные<br />
зомби. В целом они «согласны» в одном: их протест будто<br />
бы «против их тоталитарной унификации», не замечая современную<br />
унификацию. И весь этот сонм подсознательно (по причине<br />
невежества) или осознанно (из-за чрезмерной просвещенности)<br />
яростно «протестует» против «классического рационализма»,<br />
отдаваясь в плен и во власти неклассическому иррационализму<br />
и заболевая всеми его бесплодными формами чувственного<br />
и уничтожающим бессилием его пессимизма.<br />
Но завершение становления всеобщего невозможно без его<br />
абстрактно-логического, «рационального» самоопределения<br />
в Понятии. Таким образом, в своих логических параметрах становление<br />
«унифицирует мир с целью оформления его как единства.<br />
Оно открывает предметному миру истину того, что «пока<br />
не станет одним, он не будут обладать формой» [67, 7]. Завершение<br />
же становления проявляется и в антиномии отчужденного<br />
прогресса, которая выражена регрессией непосредственности человека и стагнацией развития<br />
самой логики в ее универсальном — диалектическом значении. Гегель обосновывает<br />
абсолютную природу логического понятия через критику формально-логического понимания<br />
мышления, но утверждает, что «логическая идея есть сама идея в своей чистой сущности,<br />
идея как такая, которая в простом тождестве заключена в своем понятии и еще<br />
не выявлена в какой-нибудь определенности формы» [68, 289]. Несмотря на факт теоретического<br />
преодоления параметров и оснований гегелевской абсолютной идеи (Понятия)<br />
последующей философией, реальная история не только не осуществила это преодоление,<br />
но и не распредметила логические кульминанты гегелевской диалектики.<br />
Субстанциальное противоречие отчужденного характера предысторического прогресса<br />
обнаруживает внутренние пределы материальной и идеальной логики классической<br />
истории, которые обнажаются характером и сущностными противоречиями капитализма.<br />
Логические и исторические противоречия, которые обнаруживаются в классическом индустриальном<br />
обществе, выступают не просто противоречиями производительных сил и производственных<br />
отношений в политико-экономическом выражении взаимоисключения и взаимообусловливания<br />
«экономического базиса» и «идеологической надстройки». В фундаментальном<br />
отношении — в отношении противоречия мышления и бытия по типу всеобщего —<br />
они могут быть поняты как завершенное отчуждение самого основания и, как следствие,<br />
в невозможности развития мышления в пространстве и формах становящейся, «прошедшей»<br />
«логики». Форма умозаключения как опосредствованное доведение единичного<br />
до всеобщего постигла себя как логическая форма — «логическая идея, стало быть, имеет<br />
своим содержанием себя как бесконечную форму, — форму, составляющую бесконечность<br />
содержания постольку, поскольку содержание есть возвратившееся в себя и снятое в тождестве<br />
определения формы таким образом, что это конкретное тождество противостоит тождеству,<br />
развитому как форма» [68, с. 289]. Но прозрачная, абстрактно снявшая и тем самым<br />
умертвившая в себе опосредствования собственного становления «чистота» тождества<br />
«формы идеи» и «идеальной формы» обратно пропорциональна деформированности (это<br />
общественный аналог феномена деформации, эстетику которой разворачивает К. Розенкранц)<br />
содержания реального бытия. Как отмечалось выше, поскольку реальные индивиды<br />
не обладают полнотой содержания и существенности формы феноменологического становления,<br />
то классический капитализм как высшая форма развития производительных сил сочетает<br />
в себе аморфность непосредственности человека и деформацию характера общественных<br />
отношений. Парадокс заключается в том, что капитализм как высшая классическая<br />
форма исторического развития возможен как сочетание сущностной аморфности отчужденного<br />
человека и сущностной деформации прогресса. В этом сочетании имеет место<br />
оборачивание становления на идеологически обоснованную деструкцию в суммарной бесконечности<br />
последней. Логическая непостижимость данного феномена состоит в том, что он<br />
отрицает собой логику развития и, под видимостью освобождения от долженствования, утверждает<br />
иррациональное как видимость произвольной свободы (в экзистенциализме имеет<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
400<br />
раздел второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ трансгрессии времени<br />
401
место ситуация негативной деструкции феноменологического становления, когда индивид<br />
будет пытаться отредуцировать от себя собственное становление через попытку разрушения<br />
присутствующего в нем самом и в культуре прошедшего времени [69]).<br />
Эта особая иррациональность является, на мой взгляд, причиной «сумасшествия» последующей<br />
за классикой философии, которая не могла уже найти новую предметность<br />
в классическом пространстве, но не обладала волей высвобождения себя из его пределов.<br />
Нередко сопровождавшаяся психическими заболеваниями ее носителей, превращенная<br />
феноменология этого периода философии демонстрировала завершенность «болезней<br />
духа», их теоретически и эстетически выраженный персонифицированный симбиоз. Ведь<br />
в ее классическом варианте феноменология онтологически не способна вырваться из плена<br />
кошмаров «неразумной формы разума» (К. Маркс). Данная логическая форма уже<br />
не находит для себя ни опосредовано, ни тем более непосредственно адекватной чувственной<br />
формы, обречена на утрату свободы реальности и на подмену последней волюнтаризмом<br />
сиюминутности.<br />
Тщета немецкой классической философии выявилась в попытке обосновать собственные<br />
основы. Она вернулась к пережитой Аристотелем логической ситуации неспособности<br />
обоснования им собственной системы силлогизмов. Неспособность немецкой классической<br />
философии обосновать Основание и подмена его недействительной реальностью<br />
было расставанием логики с этим самым основанием. В пределах классического прагматизма<br />
логике ничего не оставалось, как превратиться в самоценную математическую логику<br />
и стать утилитарно-функциональной. Ведь если предпочтение отдается «чистой<br />
форме», которая исчерпала свою роль в развитии философии, то она автоматически<br />
становится прерогативой и «собственностью» оперирующей чистыми формами математики.<br />
Всеобщая логическая форма (Понятие) не становится гносеологическим основанием общественного<br />
отношения, в силу чего последующей логике ничего иного не оставалось, как<br />
забыть о Гегеле, или отвести ему место несущественной теории, вплоть до полного игнорирования<br />
его философии. Действительно, регрессии диалектической логики в пространство<br />
математической логики, как ярко продемонстрировал «нео-» и «пост-» позитивизм, родились<br />
из факта несовпадения пространства-времени теории и практики диалектики.<br />
Но ограниченность самоопределения всеобщего в форме логического понятия недостаточно<br />
рассматривать лишь в контексте противоречия метода и системы Гегеля. При<br />
абсолютизации цели становления в виде идеального понятия такое противоречие выражает<br />
собой замкнутость становления — возникает ситуация парадокса логически<br />
выраженной идеальной всеобщности и суммарной единичности эмпирического мира<br />
материальных вещей, а «там, где возникает парадокс, гибнет система и торжествует<br />
жизнь», — констатировал Э. Чоран [70, 19]. «Как в качестве реальной ситуации, так и в<br />
качестве теоретической формы, парадокс рождается из незавершенности (несвершенности).<br />
Сам по себе, он взорвал бы себя самого», «чем он является, если не демоническим<br />
разрывом разума, кровной трансфузией в Логике и страданием форм?» [70, 15]. Иными<br />
словами, идеально-логическая выраженность становления становится его логической<br />
замкнутостью по причине своей практической незавершенности (несвершенности), вследствие<br />
чего вся история становится добровольной лишенностью Сущности и подменой<br />
ее феноменологически самоимпровизирующимися видимостями.<br />
«Гибель» идеальной системы становления (и в смысле ее завершенности, и в смысле<br />
исчерпания системного этапа философского самосознания истории) не сопровождалась<br />
жизненным торжеством сущностных модусов человека. Если некоторая реальность<br />
продолжает существовать после того, как сущностно себя исчерпала, ее существование<br />
обусловливает превращение отрицания в наличную форму бытия. Регрессивная отрицательность<br />
приобретает статус наличного бытия. В пространстве непосредственности<br />
человека превращенность такого рода заключается в том, что возникает феномен запаздывания<br />
человеческих чувств от теоретического содержания философского сознания.<br />
Но регрессивность истории есть отсутствие человека как ее творческого субъекта.<br />
История превращается в ожидание и кантовский вопрос: «На что я могу надеяться?» констатирует<br />
состояние унизительного бессилия человека в истории, которую он ставит<br />
перед собой, но не содержит в себе. Прорыв чувств пытается осуществиться как сущностное<br />
предвосхищение бытия, но в силу теоретической неопосредованности, такого рода<br />
предвосхищение может быть следствием особенной феноменологической ситуации, возникающей<br />
в жизни отдельного индивида как следствие случайного проявления исторической<br />
необходимости. Превращение логики в новую, добровольно иррациональную форму<br />
метафизики ограничивает чувственное антигносеологической функциональностью<br />
и оборачивается разрушением рефлексивной способности индивида. Самоотречение разума<br />
и обусловленное им возвращение в неразумную форму истории сопровождается<br />
не только извращением ее сути, но и регрессией Формы как Основания. Происходит возвращение<br />
логической формы к собственным пройденным ступеням, сопровождающееся<br />
отрицающей их интерпретации и репрезентации. Но, будучи деградацией логического<br />
в иррациональность первой — чувственной — ступени познания, такое возвращение<br />
абсолютизирует скептицизм, выводя его из статуса самокритического познания и возводя<br />
его в статус отрицания возможности познания самой истины. Превращение скептицизма<br />
в особую форму эмпиризма, который выступает уже не чувственной, а логической<br />
предпосылкой позитивизма, обусловлено «возвращенными» («обращенными») формами<br />
идеального. Отсюда утверждение, что «смерть ни в коем случае не должна пониматься<br />
как реальное событие, происходящее с некоторым субъектом и телом, но как некоторая<br />
форма — в известных случаях форма социальных отношений, — в которой утрачивается<br />
детерминированность субъекта и ценности. Как раз требование обратимости и кладет<br />
конец различению детерминированности и недетерминированности» [71, 48]. Таким<br />
образом, «обратимость» логики оборачивается попыткой «обратимости становления»<br />
и регрессивностью феноменологии, поэтому логическая замкнутость становления превращается<br />
в иррациональную жизненную деструкцию семантики истории.<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
402<br />
раздел второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ трансгрессии времени<br />
403
Идеологическое табу на движение по логике истории исключило возможность самообоснования<br />
Основания практическим преодолением собственного отчуждения. Это вынудило<br />
философию вернуться к своему прошлому становлению. Неогегельянство,<br />
неокантианство, как и все остальные «нео-», были и есть формами такого возврата. Как<br />
констатировал Н. А. Бердяев, «движение это явно носит печать эпигонства и упадничества.<br />
Утерян центр, все раздробилось. Некоторые переходят от неокантианства к неофихтеанству.<br />
Намечается возможность и дальнейшего движения к неогегельянству. Но философская<br />
мысль этим путем не движется творчески вперед, не выходит из тупика. Неофихтеанство<br />
и неогегельянство легко может опять перейти в неоматериализм и неопозитивизм.<br />
И так до бесконечности. В конце концов, все возможные типы и комбинации философской<br />
мысли уже испробованы и гениально выражены. Нового почти ничего нельзя уже<br />
выдумать. Нужно выйти из круга, а для этого необходимо сознать, что происходит<br />
не только философский кризис, каких немало было в истории мысли, а кризис философии,<br />
т. е. в корне подвергается сомнению возможность и правомерность отвлеченной<br />
рационалистической философии» [72, 17–18]. И мысль Бердяева, что за негативностью<br />
обращенной вспять мысли стоит «болезнь питания», клиника которой проявляется тем,<br />
что философия «говорит лишь о чем-то, а не что-то», констатирует факт утраты философии<br />
реальной исторической предметности.<br />
Но зряшные формы отрицания «органически-логического следствия, завершения<br />
и исхода культуры» (О. Шпенглер) создавали условия для превращения логики в алогичное.<br />
Вместе с тем, превращаясь в абсурд, алогичное не может стать ни предметом логической<br />
рефлексии, ни самой логической рефлексией — оно утрачивает себя в утрате предметной<br />
саморефлексии. Алогичное может стать только несообразностью чувственного,<br />
так как предметный мир как первичный образ чувственного подменен «вторичными»<br />
импровизациями его реалий. Отсюда корни модернизма и постмодернизма с их случайностью<br />
чувственного восприятия и чувственной памяти, вместе с агрессивным отрицанием<br />
логической рефлексии. В контексте распространения постмодернизма на сферу истории<br />
и отрицания логического в любой форме (в первую очередь — в долженствующей форме<br />
закона, вместе с сопровождающей его апологии субъективной чувственности), приобретал<br />
новое значение вопрос Шпенглера: «Речь идет о деле величайшей серьезности: возможно<br />
ли вообще сегодня или завтра существование настоящей философии?» [73, 63].<br />
Поскольку философское мышление невозможно без рефлексии основ и их опосредующего<br />
становления в содержании определенного противоречия. Такая рефлексия есть постоянная<br />
логическая ретроспектива, положительная возвращенность мышления к началу<br />
явления и воспроизведение логики его становления как условие феноменологического<br />
«овладения временем» (Н. Муравьев) и осознанного разрешения такого противоречия<br />
в конце его возможности. Ведь если «в каждой культуре философия и наука служат<br />
скорее орудиями преодоления времени, чем являются самим этим преодолением» [74,<br />
111], то феноменологическое овладение временем (развивающейся сущностью) является<br />
закономерным содержанием конца становления как разрешение противоречия его отчуждения.<br />
При отсутствии положительной рефлексии, метафизически возвращенные формы<br />
логического становятся регрессивной временной логикой. Но последняя не только развращает<br />
разум и извращает реальность. Игнорируя факт тупиковости «конца» становления,<br />
она закономерно возвращается к его «началу», но с отсутствием перспективы его<br />
дальнейшей эволюции — ведь следствия таковой как раз и игнорируются. В историческом<br />
поведении теоретического разума повторяется феномен безобразного как декаданс «развитой»<br />
(совершенной) деформации конца искаженной негативности («изнанки») становления<br />
в «аморфность» его начала. Но, как следствие, и это «начало» присутствует уже<br />
в качестве лишенной проекции в будущее время «негативности». Отсюда — вечное «начинание<br />
с начала», наделение чувственной сиюминутности статуса непосредственности,<br />
которая и должна играть роль иллюзорной, количественно повторяющейся, но не развивающейся<br />
«новизны», ибо в «предметность» такой непосредственности не присутствует<br />
опосредование как отношение. Сочетание ложного преодоления (точнее — игнорирования)<br />
Формы как «одной формы единого» с отсутствием опосредствования как отношения<br />
к другому не могло не привести к повторяющемуся во всех «неоклассических» формах<br />
отражения мира феномену одиночества.<br />
Но деградация чувственной формы не только находится в прямой зависимости от деградации<br />
формы логики и непосредственно логической формы. Она проявляется и как<br />
деструкция мотивации человеческой жизни. Напрашивается историческая параллель,<br />
к сожалению, остро актуальна и ассоциируюется с периодом неоплатонической регрессии<br />
философии: «Чтобы оценить действительное значение последних античных философских<br />
учений в эпоху разложения древнего мира, стоило бы только обратить внимание<br />
на действительное положение их адептов при римской мировом господстве. Он мог бы,<br />
между прочим, найти у Лукиана подробное описание того, как народ считал их публичными<br />
скоморохами, а римские “капиталисты”, проконсулы и т. д. нанимали их в качестве<br />
придворных шутов для того, чтобы они, поругавшись за столом с рабами из-за нескольких<br />
костей и корок хлеба и получив особое кислое вино, забавляли вельможу и его гостей<br />
занятными словами “атараксия”, “афазия”, “гедоне” и т. д. Впрочем, если уж наш молодец<br />
хотел сделать из истории древней философии история древности, то он, само собой разумеется,<br />
должен был растворить стоиков, эпикурейцев и скептиков в неоплатониках,<br />
философия которых представляет собой не что иное, как фантастическое сочетание стоического,<br />
эпикурейского и скептического учения с содержанием философии Платона<br />
и Аристотеля» [75, 128–129]. Этот исторический экскурс был осуществлен Марксом и Энгельсом<br />
в связи с логическими путешествиями «критической критики», которая демонстрировала<br />
превращение «негативности» в самостоятельный процесс мышления.<br />
В регрессивности истории время становится отрицательной паузой. В пространстве<br />
таковой рождаются уже не логические, а чувственные мифы. Этим обусловливается<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
404<br />
раздел второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ трансгрессии времени<br />
405
расположение К. Розенкранцем феномена абсурдного, опустошенного, мертвого, сумасшедшего<br />
в таком самоопределении безобразного, в котором жизнь приобретает форму<br />
и содержание смерти, а смерть приобретает форму и содержание жизни. Таким образом,<br />
замкнутая форма логики истории оборачивается замкнутостью самого логического,<br />
превращается в логически-иррациональное замыкание самой формы в значении чувственного<br />
основания, что обрекает последнее на тавтологическое наращивание собственной<br />
извращенности. Форма выворачивается наизнанку и в таком виде представляет нам<br />
изнаночную форму предыстории. Поиск новизны рассудком превращается здесь в апофеоз<br />
надуманного, в вожделение безумия. Невозможность реального «компенсируется»<br />
возможностью безумной фантазии, ибо в реальной жизни уже ничего не возможно.<br />
Жизнь как реально переживаемая смерть, смерть как «осевая нагрузка» жизни. Феноменологический<br />
обрыв как средоточие распада мира.<br />
Конституирование алогичного, отражающее этот процесс, выявляется подменой фигур<br />
логики фигурами языка. Если из логики исчезает объективный смысл (что всегда происходит<br />
при декадансе истории), то и смысл речи неизбежно деградирует до междометий или<br />
же до «негативного молчания». По-видимому, не случайно мышление софистов рассматривалось<br />
в качестве угрозы афинской государственности. Если абстрагированная от логики<br />
«речь» перестает быть практикой идеальной истины и утверждается бессвязностью,<br />
то она отрицает не только саму себя, но и природу сознания. В этом моменте осуществляется<br />
«уход» предела от собственной определенности, его абсурдное замыкание в форме<br />
негативной беспредельности. И тогда феноменология духа регрессирует в помешательство<br />
духа, ибо «дух, определенный как только сущий, поскольку его такое бытие наличествует<br />
в его сознании в нерасчлененном виде, являет себя больным. Содержанием, освобождающимся<br />
в этой своей природности, являются себялюбивые определения сердца,<br />
гордость и другие страсти — фантазии, надежда-любовь и ненависть субъекта» [76, 176]<br />
и лишь «будучи здоровым и здравомыслящим, субъект располагает наличным сознанием<br />
упорядоченной тотальности своего индивидуального мира» [76, 174–175].<br />
Правомерно ли соотнесение этих гегелевских мыслей с <strong>проблем</strong>ой алогизма чувственного?<br />
Ведь в «Философии духа» Гегель рассматривает возможность помешательства как<br />
бессознательную предпосылку феноменологического начала индивида, а <strong>проблем</strong>а<br />
замкнутости логического самоопределения человека выступает отрицательным феноменом<br />
консервации завершенного становления истории в исчерпанные пределы. Такая<br />
правомерность может найти для себя «основание» в механическом возвращении духа<br />
в искаженную (завершенно отчужденную) эмпирию бытия, когда негация положительного<br />
опосредствования феноменологии истории становится положенностью и занимает<br />
место наличного бытия. В таких случаях дух обречен на то, чтобы «сойти с ума», потерять<br />
себя в качестве разума. Действительно, возвратная форма духа в его теоретическом<br />
самоотрицании характерна тем, что из его «стихии» исчезает опосредование им мира<br />
и самоопосредствование миром как возможность быть чувственно развивающейся томария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
406<br />
тальностью. Утрата, наступающая после искажения меры единичного и всеобщего в человеке,<br />
проявляется в нем как конфликт общего и частного. Разрыв и противопоставление<br />
двух — идеального и чувственного — планов человеческой сущности не способствуют<br />
преодолению антиномичности создавшейся феноменологической ситуации, когда<br />
всеобщее включает в себя особенное, но реальное особенное (конкретный индивид)<br />
не включает в себя всеобщее. Наряду с абстрактной всеобщностью утверждается вульгарный<br />
эмпиризм единичного с его ложно обобщающим индуктивным сознанием и, соответственно,<br />
со своими идолами. В логическом выражении данная ситуация есть безосновательность<br />
(необоснованность) существования, ибо <strong>проблем</strong>а правомерности «индуцирующего»<br />
себя субъекта остается, как правомерно утверждал Б. Рассел, неразрешенной.<br />
Отсюда опасность «гибели человечества в случае несправедливости индуктивных выводов<br />
о существовании общих закономерностей» (Штилер).<br />
Природу и происхождение замкнутой «силлогистичности» 1 конца становления нельзя<br />
понимать вне доведения до логического конца фундаментального противоречия общественного<br />
разделения труда во всех его ипостасях: экономической, социальной, политической,<br />
идеологической, культурной. Причем обозначение предела становления не может<br />
не выражать себя уже как превращение общественного разделения труда из фактора<br />
«прогресса» стихийного становления, в фактор регресса, в отрицательную величину.<br />
Противоречие метода и системы Гегеля, выражающее исчерпанность превращенной<br />
формы диалектики, логики и теории познания, может быть понято лишь в той завершенности,<br />
которую оно достигает в парадоксе исторического времени и пространства, когда<br />
время закрепляется за духом, а пространство за единичностью эмпирических форм.<br />
Природа данного, утратившего семантику собственного объема парадокса, обозначалась<br />
тем, что логика теряла уже не только содержание, но и форму как единственную возможность<br />
своей целостности. Ведь логика оперировала «формой» лишь до тех пор, пока<br />
выступала диалектической абстракцией от реальных процессов. Поэтому, природа<br />
данного парадокса, со всеми сопровождающими его «хитростями разума», обусловливалась<br />
окончательной разорванностью основания на две псевдо самостоятельные «сущности»<br />
— материальную и идеальную.<br />
Проблемой дальнейшей возможности развития диалектики как логики процессуального<br />
тождества материального и идеального, выступала возможность и способность<br />
теории универсального преодоления метафизики внешних форм и постижения логики<br />
внутренней формы, то есть логики позитивного «выворачивания» основания, его<br />
трансформации из «сущности-в-себе» в определенность бытия сущности «сущностидля-себя».<br />
Формальная логика как логика внешних форм справиться с диалектикой<br />
второго отрицания была не в силах, а диалектика Гегеля была вынуждена обосновывать<br />
себя как формально-логически, так и иррационально одновременно (ведь основание тождества<br />
мышления и бытия в конечном итоге приходилось принимать на веру). Отсюда<br />
логическая концепция Н. А. Васильева [77], обосновавшего необходимость выхода форраздел<br />
второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ трансгрессии времени<br />
407
мальной логики за собственные пределы уже с позиций понимания исчерпанного объема<br />
предела исторического процесса. Заметив особенность превращения (оборачивания)<br />
отрицания «вовнутрь противоречия» Н. А. Васильев констатировал следующее: «если бы<br />
существовал в каком-нибудь мире иной источник отрицательных суждений, помимо несовместимости,<br />
тогда для логики этого мира потерял бы свою силу закон противоречия<br />
в его втором виде. Тогда отрицание перестало бы быть по определению тем, что несовместимо<br />
с утверждением, и могло бы совместимо с ним» [77, 128]. Очевидно, что теория<br />
Аристотеля об отрицательных суждениях (а данную <strong>проблем</strong>у, на мой взгляд, следует<br />
рассматривать с оснований критики способности суждения вообще в единстве постоянного<br />
(закона) и актуального (конкретного)) исторически не могла выйти на эту внутреннюю<br />
«вогнутость» метафизического отрицания в силу отсутствия такового даже в период<br />
трагической гибели греческого полиса.<br />
Логическая форма как абстрактная форма единого оборачивается в суждениях замкнутой<br />
логики метафизической количественностью. В пределе отрицательного бытия<br />
единого количественность (наличное бытие) последнего предстает «безличным деятелем»,<br />
а реальность такого превращения предстает раздробленным человеком, превращением<br />
его из единицы в дробь. Отсюда категориальный статус империализма быть такой<br />
«интегральной историей», в которой «каждый только интеграл, и никто не знает, что<br />
такое история» (Т. Имамичи). История в таком случае располагается (растягивается)<br />
в плоскостном пространстве, и исключительно метафизика данного факта упорно цепляется<br />
за рьяно критикуемую и практически исчерпанную «линейность» истории. Ведь дурная<br />
количественность не способна постигнуть природу бесконечности, как и того, что<br />
бесконечность вообще не является количеством. А значит, пространство бесконечности<br />
не «вмещается» в плоскости амбивалентного мышления и стереотипного образа жизни.<br />
Предел в таком случае выступает «установленной границей»: «на самом деле понятие<br />
“предела” является чисто порядковым понятием, вообще не включающем понятие количества<br />
(за исключением случая, когда ряды оказываются тождественными)» [78, 94].<br />
При явлении непреодолимости эволюционной поступательности истории, логика<br />
понимания логики мира разрывается изнутри и перестает быть таковой. Современная<br />
мифология рождается, таким образом, в пределах самой логики. Тем самым, замкнутость<br />
предела в своих внутренних определенностях разрывает логику изнутри, заменяя развитие<br />
в одном случае геометрической последовательностью простого ряда: «Ряд называется<br />
“замкнутым”, когда каждая прогрессия или регрессия, совершающаяся в ряду, имеет<br />
предел в этом ряду» [78, 94] и тогда «одно» как количественная определенность сущности<br />
подменивается частной единицей, к которой можно прибавить бесконечное количество<br />
единиц. Подмена такого порядка, разрушающая тождество меры и развития «живет»<br />
в количественной повторяемости обыденного. История не совершается (не свершается)<br />
в человеке, поскольку в схематичном однообразии кажимого многообразия сущность<br />
и бытие обречены на вечный диссонанс, единство мира ищет себя в бытии, а «совершенстмария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
408<br />
во» также принимает схематичный характер. Логично, что в таком случае «ряд является<br />
«совершенным», когда он конденсирован в себе и замкнут, то есть когда каждый термин<br />
есть предел прогрессии или регрессии и каждая прогрессия или регрессия, содержащаяся<br />
в ряду, имеет в нем предел» [78, 189]. В другом случае, она предстает феноменологической<br />
и технологической невозможностью развития [79]. Проецируя выражение схематизма<br />
восхождения на мифические трансформации посклассических направлений искусства,<br />
Мих. Лифшиц фиксировал искусственный перенос линейного становления<br />
на внутреннюю логику такого мифа: «В двадцатом веке сама логика часто становится<br />
мостиком к алогизму, намеренно принятой бессмыслицей. Для этого нужно преувеличить<br />
формальную чистоту логического порядка, превратив его в голый факт, оторванный<br />
от реального содержания» [80, 143]. Таким образом, логическая замкнутость становления<br />
предстает и парадоксом одновременного утверждения и отрицания «линейности» пройденной<br />
логики. Но и сохранение, и отрицание таковой происходит субъективно-зряшным<br />
отрицанием или воображаемыми структурализмом и конструктивизмом, которые осуществляются<br />
не менее парадоксальным образом через деконструкцию мира и сознания.<br />
Рядоположенность количественного многообразия является и причиной, и следствием<br />
субъективистских предпосылок выворачивания основания логики в математическую<br />
логику, превращения всеобщего в множественность, обезличивания количества и сведения<br />
его к числу, как и перевод мира в пространство математического сознания («искусственного<br />
интеллекта»). «Число — безличный деятель нашего века. Память — для этих<br />
чисел» (Т. Имамичи) — отчаянная констатация абсолюта количественности за счет утраты<br />
субстанциальных модусов непосредственности человеческой сущности. Возвеличение<br />
математики, под которую подводится логика (что продемонстрировал Г. Спенсер модификациями<br />
логической системы Аристотеля) целесообразно в технологически-функциональных<br />
пределах информационной эры. Но феномен технократического мышления<br />
абсолютизирует математическую схему и репрезентирует ее как высшее достижения<br />
культуры. В отличие от кантовского, семантическая патология математического схематизма<br />
(когда таковой возводится в императив общественных отношений) обусловлена<br />
вынужденностью редуцирования всего, что в него не вмещается — многообразия жизни.<br />
Таким образом, «чистая форма» диалектического Понятия не преодолевается, а подменивается<br />
иною «чистою формою», которая также исключает из себя реальное многообразие<br />
жизни, но ценой утраты всеобщности. «Сумасшествие» логики наступило не в<br />
связи с требованиями развития новых информационных технологий, которые непосредственно<br />
связаны с темпами развития математической логики. Ведь как раз в этом направлении<br />
«линейное» математическое мышление уже принципиально неэффективно. Связь<br />
исчерпанности такого способа мышления в математики с исчерпанностью классического<br />
типа общественных отношений современный российский ученый Ю. Затуливетер видит<br />
в следующем: «В чем причина такой диспропорции (между спросом и предложением<br />
на информацию. — М. Ш.)? Прежде всего в консервативности технологий программирораздел<br />
второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ трансгрессии времени<br />
409
вания. В модели последовательного счета открыт парадоксальный феномен. У фон Неймана<br />
память линейна, т. е. имеет одно измерение, в то время, как пользователя многомерны.<br />
Цель программирования — уложить многомерное многообразие структур окружающего<br />
мира в прокрустово ложе одного измерения. Технологии программирования<br />
направлены на облегчение этого в условиях реальной машинной среды. На практике<br />
<strong>проблем</strong>а “линейного прокрустова ложа” усугубляется. В технических реализациях модели<br />
фон Неймана неизбежно расщепляется. Под расщеплением понимается обеспечение<br />
одновременного доступа к нескольким областям памяти. Это обусловлено необходимостью<br />
учитывать и преодолевать ограничения объемов и быстродействия запоминающихся<br />
устройств. С расщеплением памяти привносится параллелизм действий, что увеличивает<br />
производительность компьютеров, но резко усложняет архитектурные решения. При<br />
этом растет число степеней свободы и прогрессивно нарастают трудности управления машинным<br />
счетом. На программиста дополнительно ложатся <strong>проблем</strong>ы упаковки многомерных<br />
структур данных и программ в отрезки памяти ограниченной длины, а также<br />
увязки динамики параллельных вычислительных процессов Эпоха доминирования<br />
модели последовательно счета — простейшей схемы машинного счета — завершается.<br />
Пространственная, функционально более мощная единая модель идет на смену простейшей<br />
модели последовательного счета. Она должна стать научной основой и гарантом<br />
«бескровного» перехода к единому информационному пространству Однако по мере<br />
исчерпания природных ресурсов и развития инфраструктуры прогрессивное значение<br />
частной собственности будет уменьшаться. Исторические возможности частной собственности<br />
ограничены. Сегодня отчетливо видны их границы Возможно, именно компьютерный<br />
мир готовится сделать исторически необратимый шаг к ускользающему до сей<br />
поры социализму» [81, 93–95, 98–100]. Развитие производительных сил сохраняет в себе<br />
тождество логики науки и логики истории и требует их имманентности.<br />
Но поскольку современная история пребывает в пространстве оборачивания отношения<br />
мышления к бытию, то превратившаяся в мировой кризис фундаментальная коллизия<br />
современной истории обусловлена не только замыканием предела становления и пребыванием<br />
в исчерпанных формах своего предшествующего становления по онтологическим<br />
предпосылкам. В этом перевернутом отношении «консервация» предела, его непреодолимость<br />
обусловлена категориальною деструкцией исторического сознания, его нежеланием<br />
практически разрешать противоречия. Психологически это обусловлено пережитыми<br />
разочарованиями конца ХХ века. Но, по-видимому, экстраполяция кризисного времени<br />
на абсолютное историческое время неправомерно. Или может претендовать на правомерность<br />
исключительно при условии бездеятельного принятия апокалипсиса как неестественного<br />
конца истории. Исторические комплексы, которые стали модусами современного<br />
сознания достаточно мощны даже при «игре в жизнь» или «лихачестве перед смертью».<br />
Таким образом, в контексте фундаментального противоречия основания — тождества<br />
мышления и бытия, данная коллизия предстает парадоксом. С одной стороны, современмария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
410<br />
ная история может развиваться при условии научного «опережения» общественным сознанием<br />
в его теоретическом значении общественного бытия, с другой — такое опережение<br />
имеет место, но в его технократическом значении — мир моделируется по логике<br />
частности функционально-прагматических интересов, чем обусловливается антагонизм<br />
частного и всеобщего. Фундаментальное противоречие основания не только не разрешается,<br />
но и до крайности обостряется. А преодоление исчерпанного предела возможно<br />
через осуществление субстанциального перехода мира, когда создается «базис как возможность<br />
универсального развития индивида и действительное развитие индивидов<br />
на этом базисе как беспрестанное устранение предела для этого развития, предела, который<br />
и осознается как предел, а не как священная грань. Универсальность индивида<br />
не в качестве мыслимой или воображаемой, а как универсальность его реальных и идеальных<br />
отношений. Отсюда проистекает также понимание его собственной истории как процесса<br />
и познание природы (выступающее также в качестве практической власти над ней)<br />
как своего реального тела. Сам процесс развития положен и осознан как предпосылка индивида»<br />
[82, 35].<br />
Если феноменология духа суть отчужденный модус становления Основания в качестве<br />
атрибутивного принципа мышления, теоретического самопознания и условия превращения<br />
в феноменологию истории, то, в силу стихийности эволюции, феноменология<br />
индивидуального разума не помнит и не знает себя. Она также стихийна и производна как<br />
отражение. Феноменология духа есть результат классической истории, но не причина<br />
и не предпосылка, а тем более — не само основание. «Чувственная достоверность» феноменологии<br />
духа вынуждена быть случайной и безосновательной. Она абстрагирует свое<br />
«начало» от того, что в снятом виде присутствует в предметности духа и отдать себя делу<br />
случая. Феноменология духа обречена на то, чтобы законсервироваться или в несчастном<br />
сознании, или в невозвращающийся в действительную реальность теоретический разум.<br />
В отличие от исторического и логического «начала» феноменологии истории, в чувственной<br />
достоверности «начала» феноменологии духа не присутствует то, что Гегель называл<br />
«образованием и высвобождением из непосредственности субстанциальной жизни».<br />
А такое образование возможно через «приобретение знания общих принципов и точек<br />
зрения, чтобы сперва дойти до мысли о существе дела вообще, а равным образом для того,<br />
чтобы подкрепить его доводами или опровергнуть, постигнуть конкретную и богатую<br />
полноту по определенностям и уметь принять относительно его надлежащее решение<br />
и составить серьезное суждение» [83, 3]. Таким образом, культурное время феноменологии<br />
духа не обладает индивидуальной достоверностью или хотя бы статусом реальности<br />
для того, кто не есть Гегель.<br />
Феноменологическое время культуры требует превращения истории в основание<br />
достоверного становления каждого человека, а потому время как действительное основание<br />
индивидуальной жизни превращает общественное пространство в производную собственного<br />
самосуществления. В долженствовании преодолевается кажимая вневременраздел<br />
второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ трансгрессии времени<br />
411
ность идеального, предстающая в жизни замечательных людей как опережающая и преодолевающая<br />
непосредственно метафизические реалии эмпирического времени истории<br />
и времени культуры. Опережающие кульминанты культуры являют себя феноменологическим<br />
пафосом исторического сознания и экстазом непосредственности чувств в имманентной<br />
сиюминутности раскрытия всеобщего основания как основания всеобщего. В несвершившейся<br />
истории «полнота всевременности начал и концов исторического мира<br />
случается, по слову русского поэта, в “минуты роковые” — “лишь теперь” и “как раз<br />
теперь”, — в этом переживании сразу узнается сигнатура поколения…» [84, 485]. Но феноменологическое<br />
время культуры предполагает преодоление трагизма рокового<br />
раскрытия основания при сохранении его предельной революционности в непосредственном<br />
значении диалектики как всеобщей достоверности практики чувств.<br />
«Взлет» чувственного в субстанциальное пространство обусловливает субъективную<br />
предпосылку возникновения во всех уровнях познания некоторой фетишизации и даже<br />
догматизации принципа «деятельности по логике предмета» как его одновременное созидание.<br />
Выпадающие (для одних по велению собственной воли, для других — «по велению<br />
судьбы») мгновения озарения основанием творят дух и человека имманентно тому, как<br />
дух и человек творят время. В самоопределениях новой реальности, они творят друг друга<br />
в той степени, в какой онто-историческая определенность времени нуждается и допускает<br />
это творчество, но обозначая его определенность субъективным расположением<br />
не в пространстве пределов, а в самом пределе (жизнь в пределе и является интенсивностью<br />
времени культуры человека и ее диалектичностью). В силу этого, феноменологическое<br />
время культуры выступает предельностью субъективной достижимости тождества<br />
разума и чувств. С одной стороны, даже озарения историей являются здесь случайными<br />
и детерминированными, вплоть до видимости фатализма. И только то, что в моменты<br />
озарения историческое время переживается сообща, как общее время, оно приоткрывает<br />
тайну своей общественности — меры движения и развития общего (коллективного, обобществленного,<br />
очеловеченного) 2 . С другой — превращение основания в принцип субъективной<br />
воли снимает его безразличие к метаморфозам субстанции вообще, возводя таковые<br />
в акты и феномены предела меры человека. Иначе говоря, феноменология духа пребывает<br />
и консервируется в пределах становления, феноменология истории живет в пределе,<br />
в непосредственном самопреодолении индивидуальной феноменологии.<br />
Только индивидуально-всеобщему времени дана субстанциальная временность. И это<br />
уже не тот человек, который о вечном только мечтает, стихийно видоизменяя его<br />
природу в абстрактной сфере категорий эстетики и философии. Прошедшее (в его историческом<br />
значении) время предстало как уходящее, ускользающее, обманывающее, разочаровывающее,<br />
непостижимое пространство. Но, в силу сохранения экономической<br />
несвободы, в историческом измерении того же самого феноменологического времени<br />
реально-чувственное пространство предстало и как сущностная недвижимость и неизменность,<br />
вплоть до низменности превращения в товарную категорию жизненного простмария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
412<br />
ранства вообще. В своей существенной подлинности, история как феноменология реальности<br />
является культурой субстанциального времени опосредованной по всеобщему типу<br />
и опосредовано снявшей свою опосредованность человеческой непосредственности.<br />
В этом бытии не существует места для многочисленных, рожденных в пространстве закостенелых<br />
и закоснелых форм определений культуры. Индивидуальное многообразие<br />
времени культуры предстает как непосредственность единого времени и как единство<br />
времени в непосредственности каждого, когда преодоление времени предстает постоянным<br />
и плотным разрывом обыденно-исторических пластов бытия в их чувственном,<br />
моральном, религиозном, гносеологическом и т. д. образованиях. Феноменологическое<br />
время культуры как субстанциальное время чувств и достигает свою единственную подлинность<br />
как настоящее время. Оно не может уже предстать ни как потерянное прошлое,<br />
ни как недоступное будущее. Оно — не ускользающее бытие, которое было обречено<br />
стать таковым в экзистенциализме каждый раз, когда было вынуждено быть понято как<br />
текучесть непосредственного и впасть в полное самоотрицание вплоть до минусового<br />
«ничто». Здесь не нужно (нет нужды) искать «вспомогательные» функции глагола<br />
«быть», поскольку он превращается в существительное, но таким образом, что тождество<br />
субъекта и предиката перестают являться как потеря их единства.<br />
Разрыв тождества субъекта и предиката в экзистенциализме породил специфическую<br />
феноменологическую инверсацию, проявившуюся в попытке индивида отредуцировать<br />
от себя становление в образе прошедшего времени. В романе («Зрелый возраст») трилогии<br />
«Дорогами свободы» Ж.-П. Сартра, феноменологическая инверсация времени<br />
представлена феноменами временной регрессивности, анархизма «чистого бытия»,<br />
конфликта свободы и времени, а также через инверсии трансформаций «ничто». Парадоксальность<br />
вневременности сиюминутности и метафизики пространства существования,<br />
их не-взаимообусловленность, не-взаимоопосредствованность, ложная, негативная<br />
диалектичность «здесь» и «теперь», не могут не проявиться иначе, кроме как процессуальной<br />
самопотерей. Главный персонаж романа, преподаватель философии и апологет<br />
экзистенциальной свободы Матье «никогда не мог в полной мере найти себя в любви,<br />
в удовольствии, он никогда не был хотя бы несчастным, ему все время казалось, что<br />
он в другом месте, что он еще не родился» [85, 74]. Метафизика экзистенциального пространства<br />
проявляется в дилемме одномерного присутствия деструкции временного бытия<br />
и видимости его субъективного созидания. Поскольку же творение себя через творчество<br />
мира здесь принципиально отсутствует, то и «восстановление»-конструкция в разумении<br />
Матье оказывается «ничтойной» мотивацией желаний и поступков.<br />
Из этого искаженного переплетения времени и пространства внутренних и отчужденных<br />
противоречий сущности и существования человека, в котором не могла не возникнуть<br />
«<strong>проблем</strong>а самоубийства как единственная философская <strong>проблем</strong>а» (А. Камю),<br />
и вырастали ошибочные логические конструкции и сравнения, наподобие следующего:<br />
«марксизм требовал покорить иррациональное начало в человеке, тогда как сюрреалисраздел<br />
второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ трансгрессии времени<br />
413
ты не на жизнь, а на смерть встали на его защиту. Марксизм стремился к завоеванию<br />
тотальности, а сюрреализм, как великий духовный опыт, стремился к единству. Тотальность<br />
может потребовать повиновения от иррационального, если рационального достаточно<br />
для обретения господства над миром. Но жажда единства более требовательна.<br />
Ей недостаточно, чтобы все было разумным. Она стремится к тому, чтобы рациональное<br />
и иррациональное были уравновешены на одном и том же уровне. Нет такого единства,<br />
которое предполагало бы саморазрушение» [86, 192]. Но распространение смещения<br />
логических полей классического и «постклассического» времени-пространства феноменологии<br />
порождено непониманием монистической тождественности «единства»<br />
и «тотальности». Остальные логические погрешности такого рода конструкций целиком<br />
и полностью вытекают из этого фундаментального заблуждения и вполне вмещаются<br />
в кажимость облегченных параметров экзистенциального восприятия жизни. Ибо<br />
фатальное бессилие экзистенциального человека — это бессилие перед жизнью. И именно<br />
потому, что жизнь в действительной всеобщности пребывает в тождестве единого и тотального,<br />
она невозможна в их разделенности. Не имеет значения, состоится ли такое<br />
разделение в пространстве отчужденного отношения материального/идеального,<br />
или в пространстве отчужденного труда как политико-экономической посылки первого.<br />
Отличие становления человека как утверждение тотальной непосредственности<br />
в практическом тождестве мышления-бытия, когда сама практика становится «практикой»<br />
чувств, от абстрактного становления сущностных сил человека в пределах становления<br />
самого основания, выступает в начале действительной истории снятием априорного<br />
основания времени, конституируемого в форме безразличного общественного<br />
бытия и форм общественного сознания. Истинность непосредственного как тотальности<br />
единого предстает как полнота охвата переживаемого времени в пространственности<br />
чувственного 3 . Временная метафизика личностного (как внешним образом опосредованного<br />
и опосредующего собой процесс снятия внешней формальности истории) преодолевается<br />
в рефлексирующей и проецирующей себя во всех временах длительности восприятия<br />
как перенос самодостаточности данного снятия в непосредственности переживания<br />
самопреодоления. Здесь самодостаточность принимает единственно возможную форму<br />
— форму разумного эгоизма, природу и содержание которого человечеству еще предстоит<br />
освоить. В силу сохранения предпосылок господства внешних форм, в частности, в виде<br />
необходимости решения утилитарных задач, феноменологическое время культуры<br />
в монизме как начале действительной истории может предстать разочарованием как следствие<br />
практически неосуществленного очарования идеальным. Такое разочарование есть<br />
переживание обрыва между следствиями «уходящего времени» и неосуществленными<br />
предпосылками времени будущего.<br />
Метафизика одновременно очарованного и разочарованного бытия связана с историческими<br />
возможностями свободы общества в целом и, следовательно, с таким восприятием<br />
себя в «настоящем» и «дали» истории, когда принципы идеала требуют аскезы, а их<br />
практическая направленность требуют преодоления таковой. Поскольку, как никогда<br />
в истории, в этом настоящем единстве внешних и внутренних форм (противоречий) оборачивается<br />
не только будущее, но и прошлое, метафизика двойственного (осуществления<br />
и неосуществления) субъективного сама уже становится предпосылкой того, что не только<br />
прошлое, но и будущее может быть представлено превращенными формами. Причем<br />
таким образом, что не только на будущее могут накладываться превращенные формы<br />
прошлого (поскольку чувственное восприятие выводит мечту о будущем из области научной<br />
фантазии в сферу ограниченной возможности образного представления непережитого<br />
времени), но и на прошлое накладываются формы будущего. Но будущее, в его идеальности,<br />
несовместимо с превращенными формами — оно приобретает таковые в его<br />
«интерпретациях», в герменевтическом адаптировании к настоящему.<br />
Возникает новый «экзистенциализм», феноменологическая <strong>проблем</strong>атичность которого<br />
принципиально отличается от таковой в его классическом варианте. Классическому<br />
экзистенциализму было свойственно яростное сопротивление индивидуального времени<br />
— времени общественному, вплоть до волюнтаристской попытки экстракции индивидуального<br />
времени из времени как такового. Ведь если ценно только «здесь» и «теперь»,<br />
то аннигилируется возможность прогрессивного снятия прошлых времен и становится<br />
невозможным будущее — «сиюминутность» предстает попыткой истребления времени.<br />
Фактически, экзистенциализм возвещал собой о том, что, принимаемое исключительно вне<br />
общественных опосредствований Я и Они, непосредственное время представало истреблением<br />
основания Я. Зыбкость уже вневременной экзистенции не могла не трансформироваться<br />
в отчаяние свободы, ибо в последней уже не было не только необходимости,<br />
но и самое индивида. Как ни парадоксально это было для экзистенциализма, оставалось<br />
лишь излишество слов о свободе, компенсирующих отсутствие подлинности таковой.<br />
Завершенная деформация основания истории в субъективном полностью подменила<br />
величие и достоинство человеческого разума, на которое указывала классика, как и силу<br />
человеческих чувств, способных заставить его ужаснуться и воспротивиться реальному<br />
антигуманизму. Абсолютным предметом рефлексии сознания и чувственного целеполагания<br />
стало как раз то, что достойно суду комедии и сатиры, ибо величие, возвышенность<br />
и красота жизни в эгоизме «материальных предпосылок» подменены ничтожностью, бессилием<br />
и низостью. Абсолютизация естественных границ существования, ординарность<br />
и одномерность бытия, «ухватывание собственной самости исключительно в феномене<br />
переживания» (Плеснер), где господствуют «витальные» ценности, управляемые «экзистенциальным<br />
интеллектуализмом» (Маритен) — основные признаки феноменологической<br />
экзистенции современности. Переход основания в последнюю степень превращенности<br />
— страдания безобразного — не становится условием жизни, берущей начала<br />
в сущностных определениях субстанции, но становится абсолютной реальностью смерти.<br />
И если человек «суть основание мира» (Хайдеггер) в качестве мертвой основы, то в чем<br />
должна быть найдена та жизненная ориентация, способная оживить его мертвую душу?<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
414<br />
раздел второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ трансгрессии времени<br />
415
Как возможно выявление основания всеобщего в его прогрессивной тенденции и утверждение<br />
в самодостаточности очеловеченного творчества жизни? Освобождением от абсолюта<br />
субъективной основы, преодолением онтологического, объективистского бесчувствия,<br />
и гносеологического, субъективистского сумасшествия произвола. Индивидуализм,<br />
по Э. Фромму, для большинства был не более, чем фасадом, за которым скрывался факт,<br />
что человеку не удалось достичь индивидуального самоотождествления. Но индивидуальное<br />
самоотождествление не только не может быть оторвано от человеческого утверждения<br />
общественного смысла жизни, но и возможно исключительно через него и благодаря ему.<br />
Активная объективация субъективизма оборачивается утратой объективной реальности<br />
из сферы мироощущений. Не случайно во второй половине ХХ века стало возможным<br />
такое определение: «Экзистенциализм представляет собой философию сиюминутности,<br />
но не вы смысле физической непосредственности, а в смысле непосредственности сознания,<br />
выдвигая в качестве непосредственного не различные эмоциональные и этические<br />
определения, а непосредственное как явление исторической метафизики» [87, 16]. Единственный<br />
выход из этого тупика — превращение мироощущения в способ отрицания объективной<br />
реальности, оказался мнимым, даже стал реальностью. К примеру, для Сальвадора<br />
Дали он стал основой такого художественного мифотворчества, в котором реальное всегда<br />
присутствует в форме произвольного самоотрицания, где исчезает всякая граница<br />
между тем, что было, и тем, чего не было. При этом, деформация субъективной реальности<br />
уже утверждается как принцип. Свобода, по Дали, если ее определить как эстетическую<br />
категорию, есть органическая неспособность обрести форму, сама аморфность.<br />
Трансценденции самодостаточного экзистенциального бытия алогичны не потому,<br />
что непосредственность всеобщего не определяема понятийно, непереводима на другое,<br />
а потому, что экзистенция абстрагирует себя из логики развития, отрицает логику вообще.<br />
В действительности, чувственно-субъективный образ мира равен сотворению образа<br />
объекта в понятийно неопределяемой, но реально определенной чувственности индивида.<br />
Человек являет собой абсолютную форму мира как преобразующий в себе все многообразие<br />
форм его становления. Абсолютность формы определяется абсолютной возможностью<br />
индивидуального воплощения идеального и идеальности связи опредмечивания<br />
мира в феноменологическом и через феноменологическое, где идеал является нравственной<br />
определенностью развития, идеальное — принцип со-образности себя и истины.<br />
В едином феноменологическом процессе творчества, они приобретают смысл самоопределения<br />
идеального как индивидуально-эстетического критерия истинности развития,<br />
входят в имманентность природы конечных вещей и явлений. Критерий достаточности<br />
основания в этом процессе никогда не высвечивает себя как логический критерий, но его<br />
недостаточность выявляет себя в расщепленности основания и мышления. Отсюда происходит<br />
утверждение Макса Шелера: «Для нас основное отношение человека к мировой<br />
основе состоит в том, что эта основа непосредственно постигает и осуществляет себя<br />
в каждом человеке, который как таковой в качестве духовного, и в качестве живого сущемария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
416<br />
ства есть всякий раз лишь частичный центр духа и прорыва “через себя сущего”» [88, 93].<br />
Отрицание логического из сферы непосредственного подчиняет последнее мистическому,<br />
«роковому», неведомому. И конечность экзистенциального сознания определяется<br />
не временным пределом истории, и не историческим пределом времени, через которое оно<br />
не может «прорваться» до сути, а агонией исторически опустошенного времени. Трагедия<br />
конечного сознания возникает как неспособность понять содержание и жизненную тенденцию<br />
собственной маргинальности, как и неспособность «заглянуть за предел», когда<br />
последний отождествляется с абсолютным концом. Форма перехода через этот предел<br />
и способ беспредельного самоутверждения закрепляется за прорывами духа. Но и сам<br />
«дух» уже предстает принципиальной противоположностью чувственному бытию как<br />
вожделенной сущности, «делает себе “харакири”» (Т. Манн) во имя непосредственности.<br />
Это без-образное движение экзистенциального понятия в обезличенном жизненном пространстве.<br />
В превращенных формах бытия утрачивается основание как объективная всеобщность.<br />
Поэтому, чем больше экзистенциальный индивид стремится к непосредственночувственному<br />
самоотождествлению, тем более ему приходится «самоотождествляться»<br />
с видимостями бытия. Это мир человека, в котором нет ни мира, ни человека, а есть лишь<br />
абсолютная самость космического хаоса. Дисгармония экзистенции выявляет субъективное<br />
определение безмерности хаоса в качестве сомнительного принципа индивидуальной<br />
жизни. Отчуждение идеальных форм разума проявляется как экзистенциальное отрицание<br />
разума, сама экзистенция есть форм отрицания идеального. Ориентация на чувственное<br />
как неопосредованную основу, вне всеобщности предметного становления истории,<br />
лишает ее тотальности и индивидуальной целостности. Возникают антиномии чувственного<br />
бытия как предпосылки существования и всеобщей непосредственности основания.<br />
Существование нефилософично, что было бы его завершенным достоинством, если бы<br />
оно, будучи сущностно опустошенным и, одновременно, стремясь к абсолютной свободе<br />
во времени не вступило в конфликт с Логосом. Стремясь к сиюминутности как единственно<br />
возможной формы «самоидентичности», бытие безобразно. Ведь если в царстве<br />
природы его красота обусловлена тем, что необходимость опосредствований многообразия<br />
форм есть случайность как свобода непреднамеренной красоты, то, в пределах социума,<br />
бытие становится безобразным вследствие «нигилистически настроенной и издевающейся<br />
агрессивности» (Х. Ортега-и-Гассет) деформированной свободы. Иначе говоря,<br />
существование «само по себе» безобразно по содержанию и не может не тяготеть к осуществлению<br />
безобразных форм, в которых находит свою имманентную «идентичность».<br />
Оно оборачивается неприятием и невосприятием эстетических форм вечности, отвращением<br />
к прекрасному — перед красотой человек становится абсолютно одиноким и абсолютно<br />
потерянным. Вполне правомерно утверждение К. Розенкранца, что чистое бытие<br />
как таковое и является основанием и предпосылкой безобразного.<br />
Не терпящая сущностного развития, экзистенция становится отчужденным превращением<br />
— извращением человека, поэтому «философия существования» является теоретираздел<br />
второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ трансгрессии времени<br />
417
ния, так как утраченное существование нельзя найти в пределах самого существования.<br />
Сущностная обусловленность существования живет через опосредствованность взаимотрансформаций<br />
его форм. И подлинно человеческие определения существования<br />
пребывают в преодолении его самости. «Само по себе», существование не есть величие,<br />
поскольку оно не идентично сущности, а выступает лишь умноженной копией собственных<br />
притязаний. Поэтому апологетика существования как такового начинается с агрессивных<br />
попыток опровержения великого. Существование как таковое не нуждается<br />
в сущностных определениях в силу того, что, будучи противоположением идеальному,<br />
оно в своей самости стремится стать антиномией разуму. Не случайно в пределах «чистого<br />
бытия» утрачиваются «все принципы соотношения с реальностью».<br />
Существование невозможно «воспеть», как несколько лет уже стремятся осуществить<br />
его апологеты. Оно — не поэтично. Поэзия жизни является таким качеством бытия, в котором<br />
существование предикативно, выступает как условие, но не основание. Устремленность<br />
к самоценному существованию столь же слепа, как и случайные возможности его<br />
реальных форм. Существование не свободно даже в случае обусловленности необходимостью,<br />
являясь вынужденной формой последней. Как тождество с самим собой, существование<br />
есть отрицание человеческого единства. В своей полифоничности, оно не гармонично,<br />
оно — за пределами истории. И это не безмерность, порождаемая страстью<br />
и насыщающая меру сущностного самоопределения человека. Это безмерность, которая<br />
выявляется аморфностью человека в отсутствии его сущностных определений — аморфностью<br />
как отсутствие. Так, в стремлении просто «быть», существование вынуждено покончить<br />
с собой, «быть ничем» Смерть здесь — проклятие жизни, логически завершенное<br />
безразличие к тому, к чему экзистенциальный человек так самозабвенно стремится.<br />
Неизбежность самоубийства (о котором не только постоянно и всерьез упоминают философы<br />
экзистенциалисты, но и которое постоянно предпринимают герои Сартра) вытекает<br />
из природы низменности, так как, будучи уничижительной, она не направлена на что<br />
иное, как на самое себя. По отношению к другому, низменное становится сильным только<br />
тогда, когда все в абсолюте становится его тождеством. Самоубийство в таком случае может<br />
предшествовать физической смерти и не обязательно совпадать с нею.<br />
Беспомощность существования проявляется уже в том, что оно уступает свои преимущества<br />
вульгаризированному глаголу «иметь». Это порождено непониманием, что «Глагол<br />
“быть” имеет одну особенность: это единственный глагол, настоящее время которого<br />
не является только настоящим временем (оставим в стороне “историческое настоящее”).<br />
В нескольких культовых языках он исчез как настоящее в его же применении, ставши связующим<br />
словом. Это значит что он опустошился от собственных значений» [90, 48]. И до<br />
сих пор, при помощи глагола «иметь», спрягается абсолютное большинство глаголов.<br />
Но и в тех немногочисленных случаях, когда это происходит при помощи глагола «быть»,<br />
его вспомогательная функциональность ставится под сомнением самими корифеями экзистенциализма.<br />
Хайдеггер, в частности, утверждал, что в грамматике лучше отказаться<br />
ческим обоснованием эстетики безобразного. С бытия как «чистого присутствия» начинается<br />
низменность человека. Последняя воздвигает себя в принцип не в момент экзистенциального<br />
наслаждения солнечными лучами, что согревают «самодостаточное» растение.<br />
Существуют еще «уголки» «самой по себе природы» не только в памяти детства. Но забываясь<br />
в ощущениях (если они иногда чудом возвращаются) вселенской тишины природы,<br />
открываем, что уже не одна полынь отдает горечью. Бытие природы — подчиненное бытие,<br />
и уродливость распространенного на нее отчуждения сильнее ее несамостоятельной<br />
красоты, так как способна уничтожить ее. Стихия природы есть ничто по сравнению с хаосом<br />
существования. Поэтому, как утверждает Розенкранц, если природа способна непосредственно<br />
производить безобразное в животных формах, то человек деформирует и денатурализирует<br />
изнутри красоту собственной природы, что само по себе является проявлением<br />
аннигилирующей себя свободы. Поступок, на который животное не способно.<br />
Низменность существования — слабость, претендующая на силу и самоценность. Самозащита<br />
в этом случае является деформацией сознания. Трепет здесь не прикрывает<br />
страх. Существование презренно, ибо в своей слабости всегда становится жалким.<br />
«Чистое» существование несущественно именно в стремлении к самодостаточности.<br />
Удовлетворение существованием есть радость обладания жизнью за пределами выхода<br />
в другом. Отсюда вывод: «L’enfere s’est l’autre» (Сартр). Ад самости существования раскрывается<br />
в отсутствии другого, которое порождает самую страшную клятву современности<br />
— клятву одиночеством ничего не ждущего и не желающего человека: «одинокий<br />
человек, который тайком мастерил свое посредственное и прочное счастье инертности,<br />
оправдываясь время от времени высокими соображениями» [89, 74].<br />
Самодостаточное существование претендует только на конкретность (последовательностью<br />
такого изъявления был бы отказ от изложения, повествования экзистенциальных<br />
состояний) вне опосредствований и, тем самым, отрицает свои устремления. Так существование<br />
превращается в сюр-реальнорсть, или в и-реальность — оно становится нереальным.<br />
В таком качестве оно оформляет себя моно-логом. Но это уже одиночество, теряющее<br />
разум, ибо, как констатировал румынский писатель О. Палер, нереальность не может предоставить<br />
«мне» кого-то, кто слушал бы меня. Такое мы можем просить только у реальности<br />
и именно поэтому нереальность вынуждает временами слушать воображаемые голоса.<br />
Парадокс непосредственности существования заключается в том, что оно возможно<br />
в человеческом измерении только выходом за пределы сиюминутности меры человека<br />
переживанием опосредствований, переходов и трансформаций форм, а не удовлетворенностью<br />
статичных состояний. Из опосредствованных переходов оно рождается, опосредствованием<br />
интенсифицируется, в них переливается, ими становится, и только таким<br />
образом становится временем. Поэтому <strong>проблем</strong>а бытия и существования является метафизической<br />
<strong>проблем</strong>ой в связи с политико-экономическими основаниями истории,<br />
в границах которых человеческая жизнь вообще становится <strong>проблем</strong>атичной. В фундаментальных<br />
обозначениях, <strong>проблем</strong>ность существования есть <strong>проблем</strong>а несчастного сознамария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
418<br />
раздел второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ трансгрессии времени<br />
419
от вспомогательного «есть», а писать «бытие : ничто». Эти кажимые парадоксы происходят<br />
из непонимания, что в сущности бытие не тождественно непосредственному, или же<br />
тождественно ему лишь в той степени, в какой непосредственное выступает свернутостью<br />
прошлого становления в его же устремленности во времени, поскольку: «человек не есть<br />
то, что есть его настоящее. Он есть свое собственное будущее» (К. Нойка).<br />
Превращенности бытия извращают и действительное (как единство сущности и существования),<br />
возводя его в идеал с атрибутикой недостижимости, вечной утопичности.<br />
В действительности существование не достигает себя самого, так как само по себе<br />
«недвижимо». Поэтому и идеал перестает иметь значение, а имеет значение лишь то, что<br />
говорится о нем. Так существование заканчивается задолго до того, как начинается<br />
действительность (если последняя самоопределяется в историческом времени). Они —<br />
дилеммы, иначе — «парадигмы», одна сторона которой имеет «достоинство» быть определением<br />
«здравого рассудка», другая — определением «абстрактного разума».<br />
Существование как самодостаточная «бытийность» есть разрушение единства человечества<br />
(«единство мира не в его бытии»). В своей полифоничности оно структурируемо,<br />
программируемо, мозаично, безразлично («чистое тождество с самим собой»). Оно —<br />
многообразие без Логоса, или же такое, в котором Логос болен. Печаль «чистого существования»<br />
есть скрытая печаль по действительности жизни, поднимающаяся лишь<br />
до обывательской мечтательности. Она — «ненастоящая». Такое существование есть лишенное<br />
интеллектуальной воли поколение, агрессивная тупость мещанского сознания,<br />
стена, за которой выглядывает запущенность человеческого Я. Такое существование<br />
не может обосновать право на самого себя.<br />
Существование как чистое бытие не существует. Чистое бытие как чистое время есть чистая<br />
трансцендентальность, а ничто так не противопоставлено существованию как трансцендентальное.<br />
Иначе говоря, трансцендентальное есть такое противостояние «ничто»<br />
и «существования», в котором «ничто» определено как самость сущности, а существование<br />
никак не определено, или же определено не как, а отсутствием. А в качестве чистой<br />
трансцендентальности существование не может быть предметным, субстанциальным. Но не<br />
является субстанциальным только чистая, регрессивная негативность. Следовательно,<br />
существование не обладает силой претендовать на себя именно потому, что в этой претензии<br />
оно бесперспективно самоотрицается, превращается в свою абсолютную противоположность<br />
— небытие. Это, в частности, одна из причин, по которой чтение экзистенциальных<br />
трактатов разрушает логическое мышление — регрессивность феноменологического<br />
времени разрушает логическое время в его категориальной последовательности.<br />
Но экзистенциализм не может признать существования и в качестве «чистого принципа»,<br />
так как чистое существование не чувственно, следовательно, как раз самостью не обладает.<br />
В «чистом принципе» самого себя существование не только бесчувственно, безразлично<br />
— таковым оно может быть и в негативных реалиях. Парадоксом экзистенциального<br />
времени выступает то, что, как раз в своей самости, существование нереально<br />
и этим констатирует свою ничтойность как отсутствие собственного пространства. Как<br />
«чистое», существование более реально в идеализме, так как в пределах концепции о самом<br />
себе, экзистенция утрачивается до такой степени, что исчезает потребность поиска<br />
«утраченного времени». Это означало (и означает исторически) «впасть в круг» поиска<br />
чистого бытия в пределах «чистого бытия». По этой же причине, экзистенция не имеет<br />
памяти, а сиюминутность не есть утверждение содержания времени, а самоотрицанием<br />
человека как субъекта исторического времени, развития вообще. Ведь «бытийное» тяготение<br />
к чистой пространственности не может быть вне чувственного бытия.<br />
Непосредственное не тождественно экзистенции, когда предстает одновременно итогом,<br />
предпосылкой и самим процессом развития. Непосредственное не есть основание.<br />
Осуществилось как иллюзия, оно утратило бывшие возможности становления — стать<br />
многим. Оно иллюзорно состоялось как одно, но не как устремление к другому. Ведь<br />
существование самоценно не отношением к себе, а опосредованным другим самоопределением.<br />
Только в таком качестве непосредственное есть поток жизни, а не момент смерти<br />
и не стоячая вода самотождественного «быть». «Существо» постольку не есть сиюминутность,<br />
поскольку мгновенность не измеряется пространственными (формальными<br />
в смысле оформленности) проявлениями сущности. Непосредственность без-мерна,<br />
поскольку есть непреходящая переходность как самопреодоление, как снятие себя в виде<br />
снятия собственных форм. В диалектике такого снятия непосредственность всегда<br />
ориентирована на многообразие и, в кажимой неподдающести определению конкретности,<br />
обладает сущностной направленностью. Но она определена в границах исторической<br />
конкретности Логоса и возвышенность Логоса (возвышение до разума) предстает как<br />
выход за эти границы. Сущностное бытие в непосредственности выявляет практическую<br />
феноменологию исторического времени, и только завершенное отчуждение не способно<br />
воспринять и принять фундаментальные самоопределения человека в жизни, когда остается<br />
только констатация персонажа Сартра: «я опустошился, стерилизовался, превратился<br />
в чистое ожидание. Сейчас я пуст, это правда, но я уже ничего не жду».<br />
Не суждено современнику стать позитивным предметом философии, ибо в минусовых<br />
реалиях истории, при иррациональном, добровольном возвращении в основание отчуждения,<br />
философия возможна как позитивистское отрицание человека. Это серьезная<br />
причина для того, чтобы «философия жизни» вышла из пустоты «неопримитивистского<br />
инстинкта постиндустриального общества» (Пьер Рестани), когда отчужденное производство<br />
человека не преодолевается, а консервируется в превращенных формах обыденности.<br />
В таком случае, смысл экзистенциальной философии сохраняется при условии<br />
принятия ее безосновательной предметности. В таком статусе, экзистенциальная философия<br />
«пробуждает то, чего не знает; проясняет и волнует, но не фиксирует» (К. Ясперс).<br />
Но именно поэтому экзистенциальное озарение сиюминутностью не обладает эффективностью<br />
и экзистенциальное сознание остается всегда неудовлетворенным собственными<br />
проекциями на бытие. Абсолютизированная свобода обезразличивается относительно<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
420<br />
раздел второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ трансгрессии времени<br />
421
общественно-необходимой деятельности в значении ее основополагающей роли в развитии<br />
индивида. Время человеческого бытия отчуждается от возможности его эстетической<br />
завершенности. За пределами общественно-полезного характера исторических явлений,<br />
свобода, как сущностное время жизни, исчезает из универсальных определений единства<br />
мира. Лишенный возможности творить общественные отношения, и прежде всего творчески<br />
трудиться (да и трудиться вообще), индивид деградирует до полной утраты времени<br />
и пространства самоосуществления. С одной стороны, осознание (или ощущение) своей<br />
утраты заставляют человека восстать против ординарности уходящей жизни, «просыпаться»<br />
иногда до таких озарений, когда «превращения во времени играют роль превращений<br />
в пространстве; они перемещают ось жизни в такой мир, где банальности не возникают<br />
больше и не могут возникнуть, так как индивидуальная протяженность времени<br />
включена в коллективно управляемое время напряженных чувств индивидуальностей»<br />
[91, 142]. С другой стороны, этот протест остается, как правило, пассивной субъективностью<br />
сознания, трансформируясь в воображаемую манипуляцию логических основ мира.<br />
А в ложном содержании опредмеченного прагматизма, ложная практика, входя в полное<br />
определение предмета чувств, становится практикой превращенных ощущений. Орудийная<br />
свобода как научно производительная силы становится рафинированной формой<br />
порабощения, угнетения и обнищания его чувств. Этому человеку уже трудно, почти<br />
невозможно практически восстать против существующего положения дел.<br />
Феноменологическое время культуры выявляет себя практической <strong>проблем</strong>ой лишь<br />
там и тогда, где и когда культура становится сознательным делом истории, поскольку<br />
в культуру нельзя войти в одиночку. В одиночку культура не распредмечивается, а,<br />
значит, не открывается человеку как его собственное пространство. Но метафизика классических<br />
остатков во всемирном переходе истории, субстанциального преобразования ее<br />
абсолютного основания, создает иллюзорность невозможности осуществления всеобщего<br />
идеала. И дело не только в том, что «не учтены масштабы исторического времени для<br />
измерения исторического процесса перехода человеческого общества из царства необходимости<br />
в царство свободы» [92, 23]. Поскольку в своем подлинном начале историческое<br />
время не обладает также самостоятельной производительностью, оно может измеряться<br />
временем индивидуальной жизни, а его «производительная эффективность» — напряженной<br />
полнотой смены диалектических форм бытия. Только здесь диалектика может<br />
изменить свои формы до бесконечности, утверждаясь не экстенсивно, не как форма познания,<br />
а как многообразие форм жизни.<br />
Поскольку современная история лишена своего творческого субъекта, то и феноменологическое<br />
время предстает лишенным историчности. В негативной взаимотрансформации<br />
всеобщего и индивидуального в движении феноменологических форм времени,<br />
не может не возникнуть зряшное отрицание самой логики. Закономерно, что не только<br />
экзистенциализм, но и остальные формы философствования в ХХ веке восставали против<br />
логики. Правда, восставая против логики, герменевтика называла себя тоже логикой. Это<br />
была форма восставания против времени, обреченная на то, чтобы восстать уже против<br />
логики истории и объективной реальности. На мой взгляд, драма экзистенциализма,<br />
довольно часто превращающаяся в мелодраму, заключается в этом постоянном страхе<br />
и не менее постоянной лени перед исторической реальностью и в пренебрежении, граничащем<br />
с презрением к «вынужденности» считаться с ней.<br />
Тем не менее, тяга к непосредственности была связана не только с поверхностными,<br />
как обычно принято считать, мировоззренческими пробелами некоторого общества,<br />
исторического поколения или плеяды философов. Крайность абсолютизации непосредственного<br />
выступала противоположностью крайности классического абсолютизирования<br />
логического. Но поскольку классика исчерпала себя в собственном становлении,<br />
но приняла замкнутую форму и не исчерпала себя в реальном преодолении, то возникла<br />
новая форма воспроизведения дуализма сущности, но уже в новом историческом содержании.<br />
«Абсолютная Идея» (а значит, и ее параметры измерения жизни логическим<br />
формулами, параграфами, законами, правилами, императивами) уже «не работает»<br />
не потому, что она исчерпала себя в принципе, а потому что этот принцип освоен в лучшем<br />
случае в его долженствующей аскезе. Армянский философ К. А. Свасьян представил<br />
факт вынужденного «изжития» логического, который не мог не стать бунтарским пространством<br />
феноменологии в конце ХІХ — начале ХХ века: «если применить чисто логическую<br />
мерку к самой истории, то последняя едва ли не вся окажется логически ошибочной<br />
и несостоятельной» [93, 23]. Но феноменологическое время культуры не предстает поступательность<br />
логических идей. Оно преобразовывает их не по единственной логике абсолютной<br />
формы, а по бесконечно многообразным «логикам» предметности чувственного.<br />
Эта бесконечность не нуждается в вербальном выражении, да и не может быть вербально<br />
представлена. В «невозможности понятия» такого процесса, поскольку это уже преодоление<br />
гносеологической самоценности всеобщего, присутствует опасный момент возможности<br />
отделения реального от субъективного, кажимости их внешнего соприкосновения,<br />
и, в конечном итоге, разрыв феноменологии от феномена и возведения феномена<br />
в феноменальность, которая «сама по себе», «случайна» и неизбывна.<br />
Примечания<br />
1 Пример замкнутого силлогизма (следствие оборачивается посылкой выведения общей причины)<br />
как отражения объективной логики социального порядка приводил Шумахер в форме диалога<br />
ребенка с матерью: «Мама, почему у нас так холодно? — Потому что у нас нет угля. — А почему у нас<br />
нет угля? — Потому что у нас нет денег. — А почему у нас нет денег? — Потому что отец безработный.<br />
— А почему отец безработный? — Потому что слишком много угля» (Цит. по: Noica C. Scrisori<br />
despre logica lui Hermes. — Р. 202). Силлогистическая замкнутость конца становления проявляется<br />
парадоксальной ситуацией, выражающей «сущностную необусловленность человека. Вещи еще<br />
не состоялись» (Цит. по: Noica C. Sase maladii ale spiritului contemporan. — р. 15].<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
422<br />
раздел второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ трансгрессии времени<br />
423
2 Эти понятия по-прежнему пугают «просвещенный» дух интеллигенции. И не только из-за исторической<br />
вульгаризации их содержания (которая, впрочем, всегда присутствует в любом новом<br />
начале истории), но и из-за замкнутой страстности к своему Я, которому стоит лишь попасть не в самую<br />
сложную жизненную ситуацию, чтобы возроптать на то, что «общество недодало». А между<br />
тем, инверсия необобществленности — неокультуренности, неочеловеченности — общественных отношений<br />
изгнала другого человека из области самопознания и самопонимания:<br />
Двадцатый век срывает с якорей<br />
Растет в груди смятенья злая вьюга,<br />
Мы научились понимать зверей,<br />
Но разучились понимать друг друга.<br />
Таинственный созрел в крови недуг.<br />
Не учат нас и прошлого уроки.<br />
И чем людней становится вокруг,<br />
Тем глуше мы, тем боле одиноки…<br />
Н. Рачков<br />
Какое же несчастное сознание по сравнению с очеловеченным образом зверей, представленные<br />
мифологией как тайна рождения человеческих чувств:<br />
…но с той поры, как я, смеющуюся миру<br />
в Геракловых руках увидел Деяниру<br />
меня бичует страсть и шерсть встает во мне<br />
то бог — проклятие от проклятого века<br />
смешал в моей крови, сгорающей в огне<br />
пыл зверя, и любовь — мученье человека<br />
Жозе-<strong>Мария</strong> де Эредиа<br />
3 Представляется, что Гегель в некоторой степени сузил пространство как форму, разделив его<br />
на дискретные части в начале возможности феноменологии духа, где предмет предстает как «здесь»<br />
и «теперь» частично — с одной стороны, как отделенный от остальных предметов, с другой, предстающий<br />
эмпирически с разных сторон. На самом деле первичное схватывание вещей не схватывает их<br />
в такой частичной ограниченности. Детское восприятие пространства как раз осуществляется всесторонним<br />
охватом видимых и невидимых (в том смысле, что за видимым первоначально возникает<br />
мифологическая конструкция его значений) вещей и вместе с тем, предстает как целостно-минимизировано-отдаленным.<br />
Конечно, можно было бы ввести отличие между восприятием пространства<br />
в период возникновения сознания вообще у годовалого ребенка и восприятие пространства в период<br />
начала абстрактно-самостоятельного процесса познания, но ведь начало феноменологии духа начинается<br />
как раз с возникновением сознания как такового. Ребенку же сложно, фактически невозможно<br />
выделить из мира вещей отдельную вещь как отдельность. Частное, единичное и отдельное здесь<br />
не совпадают по своему значению. Еще сложнее ему назвать эту вещь, ввести ее в статус понятия,<br />
поскольку она не познана и не понятна. Начало здесь в пространственном отношении случайно<br />
и, тем не менее, целостно.<br />
СОВРЕМЕННЫЕ ТРАНСФУЗИИ<br />
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОТРАЖЕНИЯ<br />
В содержательных коллизиях феномен современного искусства<br />
отражает в художественных формах базовое противоречие<br />
истории, которая в концентрированном виде представлено антиномичностью<br />
законов жизни и законов культуры. Эта невыносимая<br />
в феноменологическом отношении ситуация провоцирует<br />
господство в характере общественной жизни социального дарвинизма<br />
и превращение содержания культуры в мертворожденный<br />
и неубедительный симулякр.<br />
Трансфузии художественного отражения в современном<br />
искусстве оговариваются этой антиномией неравномерно: отображение<br />
жизни удается осуществить «фотографически» и прослеживается<br />
провокацией ощущения неестественности его существующих<br />
форм, но отражение культурной атрибутивности жизни<br />
остается трансцендентальным модусом собственной (искусства)<br />
истории и непосредственно не воспринимается.<br />
Восприятие культурного содержания художественных «образов»<br />
требует двойного опосредования рефлексии современного<br />
искусства. В этом заключается сложность его декодирования<br />
не только на уровне общественного сознания, но и на уровне<br />
современного искусствоведения. Общество и искусствоведческие<br />
рефлексии классического искусства не нуждались в двойном опосредовании,<br />
поскольку, в силу объективной достоверности его<br />
исторической основы, классическое искусство не знало и не требовало<br />
таких осложненных инверсаций в соотношении с реальностью.<br />
В пространстве перемещения субъективации основы современной<br />
истории в инвазию случайности субъективистских оснований<br />
двойное опосредование, которое предопределяет особенности<br />
рефлексий современного искусства, антиномично из-за отказа<br />
от классического характера художественного образа и специфираздел<br />
второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ современные трансфузии<br />
425
ческой негативной тотальности «пост» «образа» (или образа «пост»). Иными словами,<br />
согласно своих исторических оснований, художественное опосредование реальности<br />
в классическом искусстве получило свое «наличное бытие» в четкой социальности отображения<br />
(что определяло его (открытый или сокрытый) классовый характер.<br />
В «образах» современного искусства социальность предстает его структурно-семантической<br />
негативностью и однообразием — в ней узнает себя каждый, независимо от социального<br />
происхождения и системы жизненных координат. Это объясняется социальной<br />
аморфностью образа люмпенизированного человека, который «дезертировал из истории»<br />
(Х. Ортега-и-Гассет), устроил себе пир на обочине истории и собственной жизни<br />
и который опустошает взгляд своей стагнацией в ирреальные пласты исторического времени.<br />
Такая ситуация порождает особое состояние «бытия небытия» современного<br />
искусства, в которой невозможны художественные явления и образность индивидуальных<br />
определенностей, а тщится возвести себя в возможность и выразить себя отрицательность.<br />
Нечто подобное мифологии-наоборот, но воспроизводящей в себе перемещение<br />
небытия на место бытия. В этом смысле еще философия древнего Китая констатировала:<br />
«Но, раз нет Атмана, то становится иллюзорным человеческое Я. Ведь таким образом,<br />
оно теряет свою внутреннее единство. Так и в буддизме появляется учение о “не-я”, “недуше”.<br />
Соответствующая буддистская концепция называется анатта-вади, то есть — не-<br />
Атмана, что означает безличность, несамостоятельность, несуществование. Место Атмана<br />
у буддистов занимает “вы-джняка” — одна из скандх, что с санскрита переводится как<br />
“куча”» [Цит. по: 96, 32]. Вездесущность именно наличного бытия «не-» или «анти-» обусловливает<br />
негативность пространства современных художественных трансфузий.<br />
Негативность же содержания предопределяет негативность формы, которая направлена<br />
не на систему чувственного восприятия — такое восприятие выполняет роль лишь<br />
«порога» «перевода» произведения искусства в «информацию к размышлению» и не обладает<br />
способностью и возможностью наслаждаться художественным наблюдением<br />
и восприятием. Таким образом, второе опосредование содержания и его восприятия в современном<br />
искусстве обусловлено негативностью преобразования этой художественной<br />
формы, в которой, под видом ложного многообразия, укореняется однообразие анонимно-всеобщего<br />
субъекта. И трудно решить, на что здесь ставить ударение — ведь если «на<br />
космолете “Земля” пассажиров нет, мы все — экипаж» (Маршалл Мак-Лухан), тогда все<br />
же ударение следует ставить на «субъект»? А если этот «космолет» движется как неуправляемый<br />
болид, все же на «анонимно-всеобщий»? Иначе как можно управлять этим<br />
сложным аппаратом, когда экипаж добровольно выпал в осадок несвободы (О. Чепелик.<br />
Иллюстрауция «Хроник от Фортинбраса»; В. Кочмар «Фигура со скрещенными руками»,<br />
О. Ройтбурд «Живые деньги» и др.)?<br />
Второе опосредование «образов» современного искусства и их восприятие усложняется<br />
именно невозможностью семантическиих прогрессий, воспринимаемых непосредственно<br />
в смысле единства чувств и мышления. Нарушение их единства и лежит в основе так<br />
называемой «негативной диалектике». И совсем не случайно, что, «последовательно<br />
ис пользуя логические приёмы, вместо принципа тождества и всевластия понятия, которое<br />
возвышается над миром, негативная диалектика рассматривает идею того нечто, которое<br />
избежало заклятий и чар единства» [97, 11]. Не случайно также, что негативная диалектика<br />
была положена Т. Адорно в основу теории отрицательной эстетики. А здесь уже рождается<br />
«неотрефлексированная банальность» современного человека, когда само отрицание<br />
получает форму устойчивости, намеревается конституировать себя как образ.<br />
Отрицание как болезненный отказ от себя и становится художественным принципом<br />
современного искусства. Эстетика, в первую очередь как эстетика восприятия, становится<br />
невозможной. Мнимый образ здесь предстает моделью, но в условиях единства редуцированного<br />
чувственного восприятия и фрагментарности постмодернистского сознания<br />
эта модель проявляется несовершенной и размытой. «Она неточно формулируется. Более<br />
того, даже у одной и той же личности воображаемая модель со временем изменяется, например,<br />
в течение беседы. Человеческий разум соединяет определенные взаимосвязи для<br />
того, чтобы приспосабливаться к содержанию дискуссии. Как только меняется субъект,<br />
меняется и модель. Даже когда обсуждается конкретная тема, каждый участник разговора<br />
использует различные мысленные модели, с помощью которых интерпретирует предмет<br />
беседы. Фундаментальные гипотезы меняются, но никогда явно не высказываются. Цели<br />
разные и остаются не идентифицированными» [98, 45–46]. Этим обусловливается абстрактный<br />
символизм современного искусства, поскольку подмена художественного образа<br />
размытой семантикой символов скрывается за непродуктивным множеством возможностей<br />
интерпретаций как «нарративности» субъективизма. И художника, и зрителя 1 . Это<br />
осознанная, а потому — добровольная иллюзия свободы современного искусства.<br />
Таким образом, противоречия его восприятия и рефлексии становятся невыносимыми<br />
— ускользает предмет рефлексии и сама рефлексия, поскольку они невозможны из-за «опредмечивания»<br />
их «анти-материальности». В устремлении к абсолютной самодостаточности<br />
художественная форма теряет смысловое содержание, формализуется вплоть до его абсолютного<br />
редуцирования и превращается в напряженную, плотную пустоту. Это законченная<br />
и совершенная инверсация эффекта «чистого тождества» индивида со своей чувственной<br />
непосредственностью. «Целостная недифференциированность» чувственного становится<br />
реальностью самоотречения от идеального. В этом моменте художник или искусствовед<br />
заставляет рефлексию перейти в пространство монолога и отрицают собственные<br />
первоисточники. Правда, монологичность негативного осознания негативной чувственности<br />
требует понимающего слушателя. Но мечта о «интерсубъективном согласии» превратилась<br />
в миф, поскольку, ползущее за эмпирией несчастного бытия «несчастное сознание»<br />
не способно найти связь, которая могла бы стать сущностной связью хотя бы двух людей,<br />
и надежда на то, что «в эпоху духовного кризиса и девальвации ценностей феноменология<br />
показывает возможность нахождения содержания через возвращение к непредметному<br />
потоку сознания, в котором конституируются смысловые конфигурации как идеальных<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
426<br />
раздел второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ современные трансфузии<br />
427
объектов науки и искусства, так и смысловые уровни человеческой жизни» [99, 3] является<br />
бесполезной, поскольку феноменология не способна предоставлять объективный смысл вещам,<br />
а субъективные смыслы не включают в себя критерии истинности. Возможно, именно<br />
поэтому современное искусство не только отказалось от императива красоты, но и эмигрировало<br />
в пространство плохо понятого, но привлекательного релятивизма.<br />
При условии отсутствия понимания двойного опосредования самосознание современного<br />
искусства попадает в логическую ловушку не только из-за своих размытых и потерянных<br />
оснований, но и из-за порожденной этими негациями энтропией своих инсайтных содержаний.<br />
В логическом выражении эта ситуация уподобляется упражнению, заданному<br />
Д. Дидро слепому — философ спросил слепого о том, что такое зеркало в его понимании,<br />
а тот ответил: «Зеркало — это предмет, в котором все предметы отражаются выпукло».<br />
По отношению к слепому такой ответ порождает два вопроса: 1) откуда он знает о том, что<br />
есть отражение, если лишен органа отражения? 2) откуда слепой знает, что в зеркале предметы<br />
отображаются выпукло, если на ощупь зеркало плоско, а отражаемое он не видит?<br />
В силу двойной опосредованности способности отображать эти реальности, и особенно<br />
реальность субъективную, современное искусство предстает удвоенным, голограммным<br />
или многомерно сфокусированным зеркалом. Зеркалом, которое сюр-реально экспериментирует<br />
с различным расположением линз в собственном пространстве. В некоторой<br />
степени теоретическое сознание слепого, с которым беседует Дидро, предстает более<br />
прогрессивным в сравнении с теоретическим самосознанием современного искусства.<br />
Ведь в качестве зеркала объективной и субъективной реальности современное искусство<br />
не знает ничего (или не хочет знать) о своём главном «отражающем органе», а именно<br />
о том «органе», который слепоглухонемой А. Суворов в студенческие годы определил<br />
как свойство «видеть и слышать глазами и ушами всего человечества». Гипертрофия субъективности<br />
творческого процесса и методологии теоретического развеществления его результатов<br />
дает ему вдохновение, которое уподобляется слепоте «любви с первого взгляда»,<br />
радуется и насыщается им.<br />
Проблема трансфузий художественного отражения в современном искусстве уподобляется<br />
эффекту шагреневой кожи, который в пространстве современного искусства происходит<br />
с такой трактовкой чувственного. Не имея отношения к эстетическому как непосредственности<br />
и целостности человеческой чувственности и будучи направлено на такое<br />
действенное влияние на восприятие, оно не только требует роскоши и насыщенности<br />
именно этой чувственности, а используя ее как звено для «размышлений над информацией»,<br />
современное искусство программирует сворачивание, свертывание чувственности<br />
особенностями современного художественного произведения. Причем, речь идет<br />
не только о чувственном восприятии наблюдателя, но и об использовании художником<br />
методов, предусматривающих эффект подобного сворачивания как условие восприятия<br />
произведения. Насколько это соотносится с сенсуалистом Демокритом, который выколол<br />
(или, по другим источникам, — пытался выколоть) себе глаза? На вопрос, зачем он<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
428<br />
это сделал, философ ответил: «Для того, чтобы лучше видеть». Именно этот сенсуалистско-логический<br />
парадокс современного искусства ведет его к осознанию того, что стихийное<br />
редуцирования чувственности является условием прохождения пути двойного<br />
опосредования для возвращения в его действительную историческую основу. Нельзя сказать,<br />
что эта операция осуществляется. Когда зритель пугается человека, подвешенного<br />
на цепях, он еще может увидеть себя. Но следует ли после этого вопрос, как и почему<br />
человек оказался в таком состоянии и как освободиться от такого состояния?<br />
Самостоятельная фиксация именно первого отрицания чувственности, которое не осознается<br />
как эстетически-гносеологический, субъективный порог восприятия современного<br />
искусства, абсолютизирует чистую негативность не доведенного до второго уровня отрицания.<br />
В этом контексте возникает ситуация, когда становится правомерным вопрос, который<br />
был сформулирован одним из критиков современного искусства: «если существует беззвучная<br />
музыка, то почему не может быть бессловесная поэзия? Например, профессор поэзии<br />
рвет, или режет бумагу. Легче, чем написать пастернаковский “Февраль”, а?»<br />
Чувствуя опасность редуцирования чувственности (ведь может наступить момент,<br />
когда крайность превратится в свою противоположность — редуцирование трансформируется<br />
в утверждение, что потребовало бы от современного искусства перестать «играть»<br />
на аморфном поле первого отрицания), современный художник не может не ориентироваться<br />
на создание произведения, восприятие которого должно базироваться на процессе,<br />
«когда впечатление, которое присуще одному органу чувств, сопровождается дополнительными<br />
впечатлениями, характерными для других органов чувств (одного и более).<br />
Тогда мы говорим о возможности синестезии» [100, 56].<br />
Приведу их классификацию Т. Степаняна:<br />
1. Зрение–слух: светлый звук, бесцветный голос, тусклая музыка, малиновый звон,<br />
искрящийся смех, светлый гимн, серебряная мелодия;<br />
2. Обоняние–слух: удушливый голос, душная тишина; Вкус-слух: сладкий звук, кислый<br />
тон, медовый голос, горький смех;<br />
3. Соприкосновение–слух: ледяной тон (температурное), легкая музыка (кинестезическое),<br />
твердый звук (тактильное), трепетный голос (вибрационное);<br />
4. Слух–зрение: кричащие краски, немой мрак;<br />
5. Обоняние–зрение: душистый сумрак, пахучая мгла;<br />
6. Вкус–зрение: терпкие краски, сладкий полумрак;<br />
7. Соприкосновение–зрение: ледяной блеск (температур), тяжелые краски (кинестезическое),<br />
твердый колорит (тактильное), колючий взгляд (болезненное), колеблющиеся<br />
мазки (вибрационное);<br />
8. Зрение–прикосновение–слух: светлый трепетный аккорд;<br />
9. Температура–зрение–боль–слух: холодные, блистательные, пронизывающие звуки;<br />
10. Пять чувств: «Эта музыка сухая, холодная, ясная и пенистая, как шампанское»,<br />
а именно — слухового (музыка), осязательного (сухой), температурного (холодный), зрираздел<br />
второй ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ современные трансфузии<br />
429
тельного (ясный) и вкусового (шампанское), «звуки бывают твердый и мягкий, дрожащий,<br />
резкий, передние, ударение — тяжелое и острое, придыхание — густое и легкое; описывая<br />
определенные изменения в звучании слов, ученые говорят, что согласный отвердел<br />
или смягчился и т. п.». Не только в музыковедении, но и в теории изобразительного искусства<br />
давно узаконены и перестали ощущаться как метафоры следующие выражения:<br />
теплые тона, холодные краски, тяжелая судьба, мягкий блеск, легкий штрих, кричащие<br />
краски; Витрувий: «Архитектура — это застывшая музыка» [100, 57–58] .<br />
Феномен синестезии, как отмечает автор, выполнил функцию предсказание слияния<br />
искусств через создание уже романтиками и символистами причудливой гармонии впечатления.<br />
«И, наверное, не случайно звучание флейты виделось Л. Тинови небесно-голубым,<br />
Стендалю — ультрамариновым, а российскому художнику В. Кандинскому и русскому<br />
поэту К. Бальмонту — голубым!» [100, 60].<br />
Поскольку же современное «сворачивание» видов искусства происходит не через<br />
диалектику их снятия в непосредственной тотальности эстетического, то современное<br />
искусство не может ориентироваться на гармонию чувственного восприятия и художественного<br />
воспроизведения и сотворения мира в образах. Оно рассчитано на фрагментирование<br />
единства восприятия, и даже его отрицание. В отличие от аргумента, который<br />
привел Демокрит в пользу ослепления, современное искусство опирается на утверждение<br />
непосредственности восприятия через аннигиляцию чувственности. Эта парадоксальная<br />
ситуация противоречия в противоречии постоянно воспроизводит себя «аргументом»<br />
П. Элюара: «Я закрыл глаза, чтобы больше не видеть, я закрыл глаза, чтобы плакать от того,<br />
что не вижу тебя». Иными словами, если в случае греческого философа отказ от чувственного<br />
восприятия был условием приближения мышления к сущности вещей, в случае<br />
современного искусства он усиливает отказ от мышления и впадает в отчаяние.<br />
Художественное отражение является не только субъективной копией любой реальности.<br />
Даже при отображении реальности субъективной оно требует сохранения объективности<br />
исторического содержания своих форм (что и происходит, как бы художники<br />
не пытались этого избежать), даже при условии его отторжения восприятием. Ведь чувственное<br />
восприятие не является механической тождеством субъекта и объекта восприятия,<br />
а является их противоречием — не только прекрасное видится на расстоянии —<br />
близкое восприятие также требует удаления. Воображение как первая абстракция, возникающая<br />
на пороге вхождения в образ, перевоплощение в предмет, что «отражается»<br />
в органах чувств, вхождение в предмет, его «предвидения» ведь воображение является<br />
«представлением» — тем, что перед становлением и тем она априори охватывает внутреннее<br />
противоречие становления «предмета» (художественного произведения) в его неосмысленной<br />
еще противоречивости.<br />
Но когда человек привыкает к образу жизни моли, когда его раздражает свет и он<br />
скрывается в салонно-будуарной драпировке пространства, когда симфония звуков мира<br />
заменяется гомоном тусовки, противоречие света и тени теряет свою диалектичность —<br />
тень скрыла за собой свет и абсолютизировала отрицательное совершенство сумрака.<br />
В этой абсолютной темноте человек привыкает к смерти и, теряя ощущение трагичности<br />
вечности, теряет ощущение величия жизни. Подмена трагедии обыденным драматизмом<br />
существования дает печальный результат — превращаясь в сомнительно аргументированную<br />
социальным дарвинизмом борьбу за существование, жизнь перестает быть борьбой<br />
за сущность. Поэтому борьба за жизнь отменяется самой жизнью. В таком случае современные<br />
трансфузии художественного отображения играют одну положительную роль —<br />
они отражают процесс таких трансформаций и в этом смысле, его высшим достижением<br />
является провокация ужаса.<br />
Примечание<br />
1 «Легитимация» отсутствующего пространства как пространства попытки воспроизвести различения<br />
отсутствий пространства — одна из теоретических услуг, которые иногда оказываются современному<br />
искусству. Один из наиболее неординарных вариантов такой легитимации представляет собой,<br />
на мой взгляд, экспозиционный энвайронмент научного сотрудника ИПСИ Г. Вышеславского<br />
к выставке при участии В. Сидоренко, А. Сидоренко, О. Чепелик, А. Клименко (декабрь 2009 г.).<br />
«Метаморфозы пространства<br />
Выставка отличается от тех принципов построения экспозиции и отбора произведений, которые<br />
распространены среди кураторов. Это не презентация направления или тенденции, не демонстрация<br />
возможностей группы художников. Это, скорее, исследование, которое наглядно демонстрирует<br />
<strong>проблем</strong>ы, которые обычно существуют только в вербальной форме. Например, такие умозрительные<br />
понятия, как “перцептуальное временное пространство” или “концептуальное временное пространство”<br />
представлены благодаря художественно-образным возможностям инсталляции дискретно,<br />
в разных частях физического пространства.<br />
Построение экспозиции подчеркивает относительность различий между пространством экспозиционным,<br />
“парадным”, и тем, что в большинстве случаев остается без внимания зрителей, —<br />
внутренним, частным, малопригодным для восприятия. С одной стороны, пространство обработано<br />
в соответствии с “нормами культуры”, с другой — пространство “сырое”, необработанное, почти<br />
непредсказуемое авторами, будничное. На экспозиции “первое пространство” представлено фасадом<br />
произведений и парадным большим белым столом, а другой — обратной поверхностью полотен,<br />
подрамниками, эскизами (или предыдущими циклами произведений, фотографиями из интерьера мастерской)<br />
— тем, что обычно не контролируется сознанием автора. Граница между двумя пространствами<br />
якобы проходит линией толщины полотна, но каждый элемент обыденного — желает того<br />
автор или нет — входит в структуру его произведений и откликается непредсказуемым образом на “фасаде<br />
творчества”. Выставка предоставляет зрителям возможность самим убедиться в относительности<br />
границы между “фасадным” и “обратным” благодаря произведениям представленных авторов…»<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
430
ЗАКЛЮЧЕНИЕ<br />
В современной культурологии накопилось около тысячи дефиниций<br />
культуры. Их множественность обнаруживает две логикоэстетические<br />
ситуации «быйтийствования» (Ф. И. Гиренок)<br />
культуры. Первая ситуация констатирует и фиксирует собой<br />
не только ее расчлененность на бесконечность вариативных<br />
условностей, но и связанный с таковыми семантический и синтаксический<br />
распад культуры как атрибутивности истории. Но эта<br />
вторая ситуация на самом деле производна от первой, которая<br />
сокрыта за явлениями завершенного неразумия чувств и бесчувственности<br />
разума, завершившие своей дилеммностью окончательный<br />
распад основания истории на бесконечность опустошенных<br />
модусов. Логика такого распада сопровождала логику категориального<br />
оформления культуры. В самом предельном и поэтому —<br />
самом абстрактном смысле «культура есть все, что создано человеком»,<br />
т. е. то, что В. И. Вернадский называл ноосферой. Истинность<br />
такого ее определения 1 состоит в том, что в «конечном<br />
итоге» — в развитой истории все, что создает человек, должно<br />
быть тождественно творению и со-творению культуры.<br />
Но между первым абстрактным и вторым конкретным выражением<br />
культуры находит свое вынужденно-необходимое место все<br />
множество ее определений. Состоявшееся когда-то разделение<br />
культуры на «материальную» и «духовную» имело исторические<br />
и гносеологические предпосылки и, хотя зауженную, но целесообразность.<br />
Но последняя была утеряна в том, что сущность «материальной»<br />
культуры не только не доводилась до ее идеальной<br />
противоположности и не понималась через нее, но и деградировала<br />
до мира вещей, до «благосостояния», которое никак не могло<br />
стать состоянием блага. Мера разумных потребностей (подобная<br />
постановка вопроса не осознавалась как стихийная попытка ут-<br />
вердить названное выше противоречие материальной и идеальной культуры) тщилась<br />
найти себя в количественных параметрах и никак не осознавала то, что мера разумных<br />
потребностей начинается с потребностей самого разума, с понимания сущности блага и<br />
снятием в этой сущности количества потребляемых вещей. Но и так называемая духовная<br />
культура, сведенная к двойственному содержанию форм общественного сознания (когда<br />
сущностное философское самосознание отнюдь не тождественно философскому многознанию,<br />
«моральные ценности» не тождественны нравственности, эстетическое не тождественно<br />
прекрасному), не доводилась (не восходила) до подлинного — культурного —<br />
мышления, до подлинной практики нравственной воли, до практики истины. В их тождестве,<br />
противоположности «материальной» и «духовной» культуры не доводятся<br />
до культуры формирования культурных способностей человека, которые в дуалистическом<br />
выражении «материальных» (практических) и «духовных» (теоретических) не существуют<br />
— культура формирования культурных способностей возможна исключительно<br />
через его (дуализма) преодоление и снятие в непосредственном саморазвитии человека.<br />
Но, вместо такого снятия, продолжается в замеченном множестве определений культуры<br />
ее раздробление на бесконечное количество «культур», которые ничего культурного<br />
уже в себе не содержат и даже предполагают обналичивание себя как форм имитации<br />
культуры. И это кажущееся банальностью противоречие «привязано» к тому, что в определении<br />
культуры как «всего, что создано человеком» присутствует и противоположность<br />
этого «всего», ибо культурой в таком случае предстает и то, что является<br />
ее имманентной противоположностью — «антикультура» как отчужденная негативность<br />
ее «положительных» (прогрессивных, развивающихся) форм. В таком случае не только<br />
ограниченности «классовой культуры» были ее исторической дуализации, но и совмещение<br />
в их пределах (с противоположными взаимными компенсациями) сочетаниями красоты<br />
и зла, добра и уродства, а в обоих случаях различными вариациями истины и лжи,<br />
истины и заблуждения. Современность довела эти сомнительной чистоты «пары» несовместимостей<br />
до абсурдного содержания реальных и абсурдного китча надуманных эстетических<br />
форм. Уродство накрыло общественную реальность и выдает себя за тотальность<br />
мира. «Жизнь без будущего перестала быть уделом одного класса и распространилсь<br />
на все, таким образом установилась полная демократия опустошенности […] В конце<br />
блестящего просвещенного века возвышается эшафот, конец истории, скорее всего,<br />
будет украшен чем-то более грандиозным», — утверждает Б. Рубинин [66, 242]. Господство<br />
уродства и является эстетической производной смешения «классовых» деформаций,<br />
порожденных когда-то историей политической экономии.<br />
Спасет ли красота современную историю, если последняя достигла апогея в устремлении<br />
к безобразному, превратив ложность связей, чувств и отношений в абсолютную самостоятельную<br />
ценность? И кто спасет саму красоту? Ведь искаженные формы современной<br />
эстетики общественных отношений имеют не только объективные,но и субъективные<br />
основания и явления их отчужденного содержания возможно как воинствующее уродст-<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
432<br />
ЗАКЛЮЧЕНИЕ<br />
433
шение синкретизма развития. Но вхождение культуры в жизненное пространство<br />
индивида в виде «начального образования» способностей может осуществиться через<br />
превращение естественных художественных (образных) потребностей самосознания,<br />
самопознания и отражения в преображение человека в способы абстрактных понятий.<br />
Этот «теоретический период» необходим, но способы и формы его опредмечивания возможны<br />
не через непосредственное равзивтие человека, но при условии разрушения его<br />
тотальности. Если воспроизвести эту ситуацию в повторяющемся «начале» филогенеза<br />
индивида, то уроки рисования не компенсируют утраты непосредственного интереса<br />
к художественному отражению и одновременному развивающем воспроизведению<br />
реальности; уроки пения не компенсируют утраченную потребность воспроизведения<br />
времени в собственное единство слова и звуков и вполне сочетаются с абсолютным отсутствием<br />
«культурного слуха»; уроки литературы не компенсируют утраченной способности<br />
творить слова в содержательной идиоматике пережитого и мечты о непережитом;<br />
уроки математики не компенсируют утрату принципов красоты из пространства абстрактного<br />
мышления и т. п. (Ирония заключается в том, что эта печальная ситуация свойственна<br />
как элитарным, так и «обычным» «заведениям» образования). Система образования,<br />
которая должна бы выполнить роль отправной точки и «спортивного зала» по<br />
«накачиванию мышц» и развитию «мозговых извилин», необходимых для успешного броска<br />
через пропасть дуализма сущности, не только не отвечает этому требованию, но,<br />
напротив, выполняет роль углубления пропасти. Образование разламывает идеально-материальное<br />
единство сущности человека, подменивая ее совокупностью фрагментарных<br />
знаний, которые никогда не пригодятся в калейдоскопе склеенных частей то ли полуживого,<br />
то ли полумертвого общественного «организма». «Гений — это нормальный человек»,<br />
— констатировал С. Моэм. Образование представляет собой сплошное разрушение<br />
именно этой нормальности, «выпуская» из своего душного и алогичного «чрева» в лучшем<br />
случае ремесленников разного толка. (В случае современного искусства имеет место<br />
попытка сублимации этого распада. Но сублимация суть тот же симулякр, подмена сущности<br />
видимостью и тем — выразительное подчеркивание отсутствия.<br />
Осмысление семантики и содержания общественных и феноменологических разломов<br />
в современном образовании, в художественном образовании прежде всего, требует выхода<br />
из ограниченной и ущербной «методической» предпосылки, коли образование привязывается<br />
к «дисциплинарному» подходу. Парадокс в том, что не до конца осмысленная<br />
попытка преодоления «дисциплинарных» дифференциаций также возведена в дисциплину<br />
— в так называемую «культурологию» 2 , объект которой определен, ибо лежит на поверхности,<br />
но предмет которой остается «тайной за семью печатями». И это неудивительно.<br />
Удивительно, что «культурологи» всех мастей никак не могут понять, что в случае<br />
культуры «предмет» тождественен «объекту» и не только не поддается привычному<br />
расчленению», но и призван преодолеть его. «Спасение» часто видится в том, что «Культурология»<br />
по старой привычке отождествляется с фрагментарным изучением истории<br />
во самоутверждения искаженного человека и как драма его самопотери. Именно связь<br />
безобразного с сущностной самоутратой человека породило констатацию Розенкранца:<br />
«Мы пребываем не только в среде зла и страдания, но также и безобразного». Уродство<br />
последнего определяется не отталкивающими явлениями природы. Вершиной уродства<br />
является «эгоизм, демонстрирующий свое коварство извращенными, вульгарными жестами,<br />
морщинами и тенями страдания, и — преступлением». И если безобразное достойно<br />
суда сатиры и комедии, то оно детерминирует превращение безобразного в общественную<br />
трагедию, проявляющуюся в неспособности восприятия и наслаждения красотой,<br />
в способности отрицания красоты, в потребности в безобразном как эмпирически предоставляемой<br />
уродливым временем формы свободы. Таким образом, безобразное как<br />
следствие извращенных отношений превращается в объективное основание агонии отчуждения.<br />
Отсюда следует, что содержание современной истории, закрепляющее отчуждение<br />
за способом бытия цивилизации, приравнивает бытие анархическим «потребам» потребительского<br />
эгоизма. Эстетике последнего не угрожает и не суждено стать классикой. Тем<br />
более, что классика брошена на свалку истории вместе с ее вечными истинами.<br />
Ложность современного состояния цивилизации отражает декадентство самого основания<br />
истории, извращенного содержания его основного противоречия, тождественного<br />
временами рефлексивным самоубийствам. Чувственная представленность современной<br />
мелодрамы не войдет и в историю мирового искусства. Ни в качестве возвышенной<br />
поэзии, ни в качестве возвышенной трагедии, ибо безобразное не может претендовать<br />
на выражение великих характеров, как не может обыденный рассудок питать величественный<br />
разум. Абсурдное же тяготение несчастного сознания к псевдо ценностям современной<br />
цивилизации «возвысило» современного индивида до статуса натурщика для<br />
нового Пикассо. Индивид с разбуженным «требованием самовопрошания» (Хайдеггер),<br />
с неудовлетворенной тоской по «высшему бытию» обречен прозябать на обочине истории<br />
— такой себе исторический бомж, потерявший место жительства своей человеческой<br />
сущности. «Восхождение» к безобразному определяется присвоением многообразия<br />
форм жизни превращенным, ложным способом, что ведет за собой отдаление во времени<br />
и пространстве не освоенного истинного содержания истории. Так безобразное превращается<br />
в абсолютное условие и абсолютную среду. Безобразное не только ярче всего<br />
проявляется в пред-переходные и переходные эпохи, но и является одним из существенных<br />
признаков их векторной направленности. В своеобразной «логике» этого вектора<br />
свернуты все восходящие и «нисходящие» линии истории, своеобразная логика снятия<br />
кругов истории в последующем развитии, содержащих в одном своем мгновении возможность<br />
как столетия застоя, так и подвижнических взлетов.<br />
Представляется, что порожденные разломами истории логические и эстетические разломы<br />
человека раскрывают ширину и глубину пропасти, через которую ему необходимо<br />
успеть перепрыгнуть. Исторически первый, независимый от человека и порожденный<br />
в нем отчуждением разлом представляет собой искусственное торможение, даже разрумария<br />
шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
434<br />
ЗАКЛЮЧЕНИЕ<br />
435
искусства (с одними и теми же «этапами» и «произведениями», предназначенными составить<br />
«общее мнение» о «главном», что само по себе профанирует сущность искусства),<br />
или с «дисциплиной» «Эстетика» (которая изучается не как теория чувственного, а также<br />
сводится к изучению искусства), или с вошедшим в «потребу дня» предметом «История<br />
искусства». (Как выразился один студент, «слишком многое мельтешит перед глазами<br />
— раздражает. Я это видел много раз». «Видел ли» — второй вопрос, но захочет ли<br />
смотреть еще? Едва ли.)<br />
Положительным моментом этой неутешительной ситуации является то, что она открывает<br />
завесу, скрывающую неэффективность «культурологических» намерений художественного<br />
образования общества, неэффективность его «методик», утопичность<br />
его результатов и симулякры его «новых учебных технологий». Ведь художественное образование<br />
не является образованием в обычном понимании этого слова — оно является<br />
образованием, которое должно образность доводить до понимания сущности вещей<br />
с возвратом сущности вещей в развитую феноменологическую способность творческого<br />
воображения. Будучи атрибутивной способностью человека, художественная культура<br />
является мерой его чувственной непосредственности, которая включает в себя процесс<br />
перехода абстрактности видов искусства в непосредственность времени и пространства<br />
человеческих чувств, «сворачивание» таких видов в творческую жизнедеятельность каждого.<br />
Это самая «утопичная» по видимости, но великая, по сути, цель истории. Именно<br />
необходимость такого перехода искаженным — эпатажным и бессмысленным образом<br />
отражена современным искусством, совершающего «акт» превращения искусства<br />
на форму непосредственной деятельности. На самом деле развитие художественной<br />
культуры как культуры мышления–чувств «измеряется» тем, насколько, скажем, овладение<br />
литературой воспроизводится и развивается «литературным талантом» «высказывания»<br />
действительности и выстраивания действительности в пространстве-времени<br />
синтаксиса языка; насколько овладение поэзией превращается в поэзию жизни и так<br />
со всеми видами искусства. Иными словами, развитие художественной культуры должно<br />
практически покончить с печальным историческим фактом, когда в каждом человеке,<br />
не успев родиться, умер художник Тарас Шевченко, поэт Александр Пушкин, композитор<br />
Вольфганг Амадей Моцарт (и так далее, но не тому подобное) и подарить обществу<br />
тайну решения этого таинственного и прекрасного рождения человека. Художественный<br />
синкретизм — поэтический, мыслительный, музыкальный, образный атрибутивно присущ<br />
универсальной сущности человека, но он истребляется «наповал и сразу» именно с момента<br />
вхождения ребенка в образовательную систему «освоения культуры».<br />
Какое отношение имеет выше сказанное к эстетике безобразного? Думайте сами. Одна<br />
подсказка все же необходима. И ее нужно искать в основании современной истории.<br />
Примечания<br />
1 Давать определения универсальным феноменам, в данном случае культуре, не только неблагодарная,<br />
но и неразумная «операция» — «определить» означает установить предел, а установление<br />
такового только создает видимость конкретизации. Конкретное же представляет собой не возведенное<br />
в чистую «отдельность» и рассматриваемую вне существенных связях с системой не столько<br />
вещей, сколько отношений — конкретное есть единство многообразного. Явления, рассматриваемые<br />
вне такого единства абстрактны, а за конкретность выдается их эмпиризм. Времена «определений»<br />
прошли, а последние нужны только рассудку (отличие лишь в том, что научному и обыденному рассудку<br />
они нужны по-разному).<br />
2 Еще одна иллюзорная форма, которой приписывается способность компенсировать разорванность<br />
целостности образования. Будто можно выстроить количественно историю культуры<br />
и будто история культуры способна заменить теорию культуры. Так и получается, что «культурология»<br />
остается самым несообразным «предметом», построенном по принципу: «Таскать вам —<br />
не перетаскать».<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
436
ПОСЛЕСЛОВИЕ<br />
Все слова после слов могут быть оправданы только возвращением<br />
к невысказанному. Высказывая истину как предвидение,<br />
они пугают. Высказывая ее как актуальность, они выглядят злословием<br />
(«истина немилосердна», А. Камю). Все их «сказания»<br />
выскальзывают из времени — истина становится понятной лишь<br />
тогда, когда уже поздно — она не так затаскана, как слова, и потому<br />
не так доступна.<br />
Высказанные после обнаружения истины слова выкрикивают<br />
себя воплем отчаяния опоздавшего мира, успешно торгующим<br />
уцененным и даже потерянным, но в этом качестве при-над-лежащим<br />
ему временем. И слова не хотят выговариваться, все же обреченно<br />
выговариваясь и, разумея собственную односторонность,<br />
отдаляются от собственного звучания, скрываются в собственное<br />
эхо и срываются в нем.<br />
Слова растерянно «умолкают», когда становится ясным — содержание<br />
единовременности невыразимо, а высказанное удерживает<br />
только одно «измерение». А за границей последнего —<br />
сплошная темень остальных — неосвещенных «измерений», в которые<br />
напористо укореняется сумрачный сонм ужасающе болтливых<br />
пожирателей великих идей. Они заговариваются, заговаривая<br />
суть. Им тоже нужны слова. Омрачения для. Слова смешиваются,<br />
противостоят и противопоставляются друг другу и каждое самому<br />
себе, отрицаясь собственной текучестью и отрицая собственную<br />
временность. И в этом единственно оставшемся потерянному<br />
миру противостоянии суть вещей обречена высказываться<br />
«по поводу» и «идти на поводу» изначально надуманным и вполне<br />
осознанным смещением и поводов, и мотивов. Тьма застилает<br />
сознание, выдавая себя за свет. Потерявши основание до полной<br />
потери сознания и сознательности, мир утратил точку опоры,<br />
с которой мог бы себя перевернуть с головы на ноги. И утонул в словах, которыми перевернуть<br />
ничего нельзя.<br />
Словами захлебываются. По-разному. Но идеи не должны превращаться в слова таким<br />
образом, чтобы при этом исчезало их своеобразие, а их общественный характер продолжал<br />
существовать рядом с ними в языке. Идеи не существуют в отрыве от языка, но язык<br />
освоил «искусство» деконструкции идей. И эта апология распада синтаксиса и семантики<br />
слова-языка предстала аналогией перерождения чувств 1 . Тяжелым шагом окаменевшей<br />
статуи призрак мира грохочет по такой же каменной обнаженности земли. И жизнь<br />
погружается в тяжеловесные формы усталости, напряжение которой неплодотворно.<br />
Жизнь отдается глупости, ибо только оная неистребима и потому хранит жизнь в себе<br />
и себя в ней. Спасение же глупостью уводит мир в безумие идиота, лишенное каких-либо<br />
высоких «трансценденций».<br />
Но захлебнуться можно и молчанием. Только не по-разному, поскольку молчание —<br />
особенная обитель аскетизма отречения. Во времени, окрестившем себя «жизнью после<br />
жизни», когда молчание принимает значение бессловесной и бессильной правды, а слово<br />
мимикрирует в осознанную ложь, молчание «не золото». Невысказанное после высказанного<br />
— не тайна, а нежелание как отстранение. Из этих двух бессилий отступления и наступления<br />
антагонистических смыслов выход может осуществиться в языке и образах<br />
практики истории. Других выходов не существует.<br />
В этом мире деформации сформировалась видимость и явь перевеса ненависти. Но если<br />
такой перевес действительно присутствует, то мир обречен — ненависть разрушает.<br />
Созидает любовь. Когда вбирает в себя земную напряженность мира, любовь прогибается<br />
под собственной тяжестью и собственной тяжестью возносится в невесомость. Ее<br />
предельное взаимо-пере-воплощение усиливается величием даров волхвов, принятие которых<br />
зашифровано в их инверсированном совпадении. Самое жестокое величие любви.<br />
Напряженная обоюдно-разделенная нераздельность любви спасает красоту, погибая в<br />
ней. Дар возвращается самим дарением.<br />
Возможно, в моей авторской библиографии этой книги не должно было быть. Она и не<br />
написана. Так… примечания к пустым страницам. В них — идеи невыученных уроков,<br />
опоздавшие на то чуть-чуть, которое почти навсегда. Но это «чуть-чуть» считается.<br />
Оно — время, оставшееся на спасение красоты, чтобы красота могла и успела спасти мир.<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
438<br />
ПОСЛЕСЛОВИЕ<br />
439
Примечание<br />
1 Слова сами-по-себе — «окультуренный» и не очень осадок бессилия, неведомости ведомого,<br />
отказывающегося быть и осознавать себя таковым. Красота думает, что прячется в словах, но, дезертируя<br />
в них, она только так говорит. Говорит непрестанно и беспрепятственно и стремясь к беспрепятственному,<br />
единственной видимостью которого есть отказ от знаков препинания. Смысл ускользает<br />
и утверждается единственной возможностью бессмыслия.<br />
…Сколько этих слов<br />
Что меня никуда не вели<br />
Слов чудесных как все остальные слова<br />
Вот оно мое царство земное<br />
Слова что сегодня пишу<br />
Наперекор очевидности<br />
И с великой заботой<br />
Все сказать.<br />
Поль Элюар. Несколько слов,<br />
которые до этого дня почему-то<br />
считались запретными для меня.<br />
Пер. М. Н. Ваксмахера<br />
Или другое, но почти что то же самое:<br />
Вот хороший человек — я не знаю имя рек!<br />
Но у рек же нет названья! Их придумал человек.<br />
Нет названья у воды, нет названья у беды,<br />
У мостов обвороженных, где на лавочках следы.<br />
Не помню кто<br />
Литература<br />
1. Эко У. История уродства. — М., 2005.<br />
2. Гегель Г. В. Ф. Эстетика / Под ред. Мих. Лифшица: В 4 т. — М., 1968. — Т. 1.<br />
3. Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа // Гегель. Соч.: В 14 т. — М., 1959. — Т. 4.<br />
4. Гегель Г. В. Ф. Наука логики: В 3 т. — М., 1970–1971.<br />
5. Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук: В 3 т. — М., 1975–1977.<br />
6. Noica C. Devenirea intru fiinta. — Bucuresti, 1981. — Vоl. 1–2.<br />
7. Босенко А. В. Общественно-культурные основания категории становление: Дис. … канд. филос. наук. — Ростов-на-Дону,<br />
1988.<br />
8. <strong>Шкепу</strong> М. А. Категория основания в материалистической диалектике: Дис. … канд. филос. наук. — К., 1990.<br />
9. Rosenкrant K. O estetica a uritului. — Bucuresti, 1984.<br />
10. Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года // Маркс К., Энгельс Ф. Соч.: В 50 т. — 2-е изд.<br />
— М., 1974. — Т. 42.<br />
11. Адорно Т. В. Эстетическая теория. — М., 2000; Адорно Т. В. Негативная диалектика. — М., 2003; Анчел Е.<br />
Мифы потрясенного сознания. — М., 1979; Бодрийар Ж. Система вещей. — М., 1999; Бодрийар Ж. Символический<br />
обмен и смерть. — М., 2000; Гиренок Ф. И. Ускользающее бытие. — М., 1994; Гурин П. С. Проблемы маргинальной<br />
антропологии. — Саратов, 1999; Ильенков Э. В. Об эстетической природе фантазии // Ильенков Э. В. Искусство и<br />
коммунистический идеал. — М., 1984; Ильин В. А. Статика и динамика чистой формы, или Очерк общей морфологии<br />
// Вопр. филос. — 1996. — № 11; Канарский А. С. Диалектика эстетического процесса: Генезис чувственной<br />
культуры. — К., 1982; Лифшиц Мих., Рейнгардт Л. Я. Кризис безобразия: От кубизма к поп-арт. — М., 1978; Левчук<br />
Л. Т. Психоанализ: От бессознательного к «усталости сознания». — К., 1980; Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна.<br />
— М.; СПб., 1998; Лифшиц Мих. Мифология древняя и современная. — М., 1980; Лифшиц Мих. Что такое<br />
классика. — М., 2004; Пигулевский В. О. Ирония и вымысел: От романтизма к постмодернизму. — Ростов-на-<br />
Дону, 2002; Руднев В. П. Прочь от реальности. — М., 2000; <strong>Шкепу</strong> М. А. Феноменология истории в трансформациях<br />
культуры. — К., 2005; Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. — М., 1994; Baltrusaitis J. Formari,<br />
deformari. — Bucuresti, 1989; Cioran E. Ispita de a exista. — Bucuresti, 1992; Ianosi I. Prefata // Estetica si filosofia artei.<br />
— Bucuresti, 1981; Mihaiu V. Cutia de resonanta. — Bucuresti, 1985; Nenitescu S. Istoria artei ca filosofie a istoriei. —<br />
Bucuresti, 1985; Tanase Al. Filosofia ca poesis sau dialogul artelor. — Bucuresti, 1985; Thome E. L’etre et le monde a l’etat<br />
nocturne. — P., 1979; Ralea M. Arta si uritul // Scrieri din trecut in literatura. — Bucuresti, 1957; Gregoretti P. Persona<br />
et esser: Sagio sur «Personalismo» di Luigi Stefanini. — Trieste, 1983; Jerphanion L. De la banalite. — P., 1965 ; Lesci J.<br />
ЛИТЕРАТУРА<br />
441
Experience mystique et metafizique. — P., 1987; Necula I. Cioran: Scepticul nemantuit. — Teculci, 1995; Noel E. Memoire<br />
d’un imbecile. — P., 1996; Rosca D. Existeance tragique. — Bucuresti, 1977; Sartre J.-P. L’age de raison. — P., 1972; Thome<br />
E. L’etre et le monde a l’etat nocturne. — P., 1979.<br />
12. Лишаев С. А. Эстетика другого. — СПб., 2008.<br />
13. Босенко А. В. Реквием по нерожденной красоте. — К., 1992; Босенко А. В. О другом: Симуляция пространств<br />
культуры. — К., 1996; Босенко А. В. Время страстей человеческих: Напрасная книга. — К., 2006; Босенко<br />
А. В. Случайная свобода искусства. — К., 2009; Веселовська Г. І. Театральні перехрестя Києва 1900–1910 рр. (Київський<br />
театральний модернізм). — К., 2007; Веселовська Г. І. Український театральний авангард. — К., 2010; Вишеславський<br />
Г. А., Сидор-Гібелинда О. В. Термінологія <strong>сучасного</strong> <strong>мистецтва</strong>. — Париж; К., 2010; Зубавіна І. Б.<br />
Екранна культура: Засоби моделювання художньої реальності. — К., 2006; Клековкін О. Ю. Блазні Господні: Нарис<br />
історії Біблійного театру. — К., 2006; Липківська А. К. Світ у дзеркалі драми. — К., 2007; Протас М. О. Українська<br />
скульптура ХХ ст. — К., 2006; Пучков А. А. Поэтика античной архитектуры. — К., 2008; Сидоренко В. Д. Візуальне<br />
мистецтво від авангардних зрушень до новітніх спрямувань (Розвиток візуального <strong>мистецтва</strong> України ХХ–ХХІ століть).<br />
— К., 2008; Соловйов О. І. Турбулентні шлюзи. — К., 2006; Чепелик О. В. Взаємодія архітектурних просторів,<br />
<strong>сучасного</strong> <strong>мистецтва</strong> та новітніх технологій, або Мультимедійна утопія. — К., 2010; Гринишина М. О. Театр української<br />
драматургії: Сучасна та класична українська п’єса на сценах театрів у 1930-х рр. — К., 2006; Яковлєв М. І.<br />
Композиція + геометрія. — К., 2007, и др.<br />
14. Лахан Б. Существовать и мыслить сквозь эпохи. Штрихи к портрету Фридриха Ницше // Иностр. л-ра. —<br />
2001. — № 11. — С. 204–255.<br />
15. Энгельс Ф. Шеллинг и откровение // Маркс К., Энгельс Ф. Соч.: В 50 т. — 2-е изд. — М., 1975. — Т. 40.<br />
16. Цвейг Ст. Казанова. Фридрих Ницше. Зигмунд Фрейд. — М., 1990.<br />
17. Ильенков Э. В. Об эстетической природе фантазии // Ильенков Э. В. Искусство и коммунистический идеал.<br />
— М., 1984.<br />
18. Хайдеггер М. Время картины мира // Новая технократическая волна на Западе: Сб. пер. — М., 1986. —<br />
С. 103–104.<br />
19. Фрагменты ранних греческих философов: От античных теокосмогоний до возникновения атомистики /<br />
Сост. А. В. Лебедев. — М., 1989. — Ч. 1.<br />
20. Assunto R. Orasul lui Amfion si orasul lui Prometeu. — Bucuresti, 1988.<br />
21. Бальзак О. Неведомый шедевр // Бальзак О. Собр. соч.: В 24 т. — М., 1960. — Т. 20.<br />
22. Starobinski J. 1789: Emblemele ratiunii. — Bucuresti, 1990. — Р. 55–56.<br />
23. Гейзенберг П. Смысл и предназначение красоты в точных науках // Вопр. филос. — 1979. — № 2. — С. 55.<br />
24. Шеллинг Ф. В. Й. Философские письма о догматизме и критицизме // Шеллинг Ф. В. Й. Соч.: В 2 т. — М.,<br />
1987. — Т. 2.<br />
25. Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Соч.: В 6 т. — М., 1966. — Т. 3.<br />
26. Кант И. Критика способности суждения // Кант И. Соч.: В 6 т. — М., 1966. — Т. 5.<br />
27. Канарский А. С. Диалектика эстетического процесса: Диалектика эстетического как теория чувственного<br />
познания. — К., 1982. — С. 101.<br />
28. Козловски П. Культура постмодерна. — М., 1997.<br />
29. Делез Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения. — Екатеринбург, 2008.<br />
30. Бодрийар Ж. Симулякры и симуляция // Философия эпохи постмодерна. — Минск, 1996.<br />
31. Лифшиц Мих. Мифология древняя и современная. — М., 1980.<br />
32. Лосев А. Ф. История античной эстетики: Софисты, Сократ, Платон. — М., 1969.<br />
33. Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года // Маркс К., Энгельс Ф. Соч.: В 50 т. — 2-е изд.<br />
— М., 1974. — Т. 42.<br />
34. Masec E. Karl Rozenkrant si omologarea estetica a uritului // Rosenкrant K. O estetica a uritului. — Bucuresti, 1984.<br />
35. Фуко М. История безумия в классическую эпоху. — СПб., 1997.<br />
36. Булдаков В. П. Имперство и русская революционность // Отечественная история. — 1997. — № 1. —<br />
С. 42–60.<br />
37. Мандельштам О. Собр. соч.: В 4 т. — Нью-Йорк, 1966. — Т. 2. — С. 352.<br />
38. Фромм Э. Бегство от свободы. — М., 1990.<br />
39. Фромм Э. Здоровое общество. — М., 2005.<br />
40. Мамардашивили М. К. Психологическая топология пути. — Тб., 1996.<br />
41. Деррида Ж. Эссе об имени. — СПб., 1999.<br />
42. Вильпен Д. де. Крик горгульи: Эпоха смятения // Иностр. л-ра. — 2004. — № 3. — С. 221–245.<br />
43. Муратова И. О муках творчества // Творчість як предмет міждисциплінарних досліджень та навчання: Матеріали<br />
4-ї Міжнар. наук.-практ. конф. НТУУ «КПІ» 24–25 квітня 1997 року. — К., 1997.<br />
44. Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук: В 3 т. — М., 1975–1977.<br />
45. Цит. по: Ghideanu T. Temeiuri critice ale lui J.-P. Sartre. — Bucuresti, 1988.<br />
46. Воннегут К. Времятрясение. — М., 2003.<br />
47. Бодрийар Ж. К критике политической экономии знака. — М., 2003.<br />
48. Лиотар Ж.-Ф. Заметки о смыслах «пост» // Иностр. л-ра. — 1994. — № 1.<br />
49. Курицын В. Постмодернизм: новая первобытная культура // Новый мир. — 1993. — № 2.<br />
50. Cant I. Logica generala. — Bucuresti, 1985.<br />
51. Noica C. Sase maladii ale spiritului contemporan. — Bucuresti, 1978.<br />
52. Янков В. А. Эскиз экзистенциальной истории // Вопр. филос. — 1998. — № 6.<br />
53. Хайдеггер М. Время картины мира // Новая технократическая волна на Западе: Сб. пер. — М., 1986. —<br />
С. 93–119.<br />
54. Бланшо М. Смерть как возможность // Вопр. л-ры. — 1994. — Вып. 3.<br />
55. Фуко М. Слова и вещи: Археология гуманитарных наук. — СПб., 1994.<br />
56. Деррида Ж. Эссе об имени. — СПб., 1999.<br />
57. Blaga L. Trilogia culturii // Blaga L. Opere. — Bucuresti, 1944. — Vol. 9.<br />
58. Бодрийар Ж. Фрагменты из книги «О соблазне» // Иностр. л-ра. — 1994. — № 3.<br />
59. Китаев-Смык Л. Болезнь войны // Дружба народов. — 1996. — № 2.<br />
60. Панарин Ю. О возможностях отечественной культуры // Новый мир. — 1996. — № 9.<br />
61. Noica C. Rostirea romaneasca. — Bucuresti, 1996.<br />
62. Анчел Е. Мифы потрясенного сознания. — М., 1979.<br />
63. Винников В. Форма действия // Завтра. — 1997. — № 8.<br />
64. Феноменология в современном мире / Отв. ред. М. Кулэ, В. И. Молчанов. — Рига, 1991.<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
442<br />
ЛИТЕРАТУРА<br />
443
65. Рубинин Б. О беге времени на его краю // Иностр. л-ра. — 2001. — № 1. — С. 233–234.<br />
66. Starobinski J. 1789. Emblemele ratiunii. — Bucuresti, 1990.<br />
67. Noica C. Scrisori despre logica lui Hermes. — Bucuresti, 1986.<br />
68. Гегель Г. В. Ф. Наука логики: В 3 т. — М., 1972. — Т. 3.<br />
69. Sartre J.-P. L’age de raison. — Paris, 1945.<br />
70. Cioran E. Amurgul gаndurilor. — Bucuresti, 1991.<br />
71. Бодрийар Ж. Символический обмен и смерть. — М., 2000.<br />
72. Бердяев Н. А. Философия свободы. — М., 1989.<br />
73. Шпенглер О. Закат Европы: В 2 т. — М., 1994. — Т. 2.<br />
74. Муравьев В. Н. Овладение временем. — М., 1998.<br />
75. Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Маркс К., Энгельс Ф. Соч.: В 50 т. — 2-е изд. — М., 1966. — Т. 3.<br />
76. Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук: В 3 т. — М., 1977. — Т. 3.<br />
77. Васильев Н. А. Воображаемая логика. — М., 1989.<br />
78. Рассел Б. Введение в математическую философию. — М., 1996.<br />
79. Бодрийар Ж. Символический обмен и смерть. — М., 2000; Ваттимо Дж. Прозрачное общество. — М., 2003;<br />
Юнгер Ф. Г. Совершенство техники. — СПб., 2002.<br />
80. Лифшиц М. Критические заметки к современной теории мифа // Вопр. филос. — 1973. — № 8.<br />
81. Затуливетер Ю. Компьютерная революция в социальной перспективе // Альтернативы. — 1996/97. — № 4.<br />
82. Маркс К. Экономические рукописи 1857–1859 гг. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. — 2-е изд. — Т. 46, ч. 1.<br />
83. Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа. — СПб., 1992.<br />
84. Махлин В. Л. Затекст: Эрих Ауэрбах и испытание филологии // Ауэрбах Э. Мимесис: Изображение действительности<br />
в западной литературе. — М.; СПб., 2000.<br />
85. Sartre J.-P. L’age de raison. — Paris, 1945.<br />
86. Камю А. Бунтующий человек. — М., 1990.<br />
87. Gregoretti P. Persona et esser: Sagio sul «Personalismo» di Luigi Stefanini. — Trieste, 1903.<br />
88. Шеллер М. Положение человека в Космосе // Проблема человека в западной философии. — М., 1988.<br />
89. Sartre J.-P. L’age de raison. — Paris, 1945.<br />
90. Noica C. Sase maladii ale spiritului contemporan. — Bucuresti, 1978.<br />
91. Jerphanion L. De la banalite. — Paris, 1965.<br />
92. Красин Ю. Кризис марксизма и место марксистской традиции в истории общественной мысли // Свободная<br />
мысль. — 1993. — № 1.<br />
93. Свасьян К. А. Феноменологическое познание. — Ереван, 1987.<br />
94. Мамардашвили М. К. Психологическая топология пути. — Тб., 1996.<br />
95. Воеводин А. П. Эстетическая антропология. — Луганск, 2010.<br />
96. Мареев С. Н., Мареева Е. В. История философии. — М., 2003.<br />
97. Адорно Т. В. Негативная диалектика. — М., 2003.<br />
98. Форрестер Дж. Мировая динамика. — М.; СПб., 2003.<br />
99. Курицын В. Постмодернизм: Новая первобытная культура // Новый мир. — 1993. — № 2. — С. 225–232.<br />
100. Степанян Т. Р. «Воздушной арфы легкий звон» // Русская речь. — 1986. — №1. — С. 56–61.<br />
ОГЛАВЛЕНИЕ<br />
Віктор СИДОРЕНКО. Переднє слово . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5<br />
Victor SYDORENKO. Preface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7<br />
Вместо предисловия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9<br />
Раздел первый<br />
КАРЛ РОЗЕНКРАНЦ. ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО . . . . . . . . . . . . . 23<br />
Справка к изданию . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25<br />
Биографическая справка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30<br />
Карл Розенкранц. Эстетика безобразного . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33<br />
Предисловие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33<br />
[Введение] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37<br />
Отрицательное вообще . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41<br />
Несовершенное . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41<br />
Безобразное в природе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43<br />
Духовное безобразное . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49<br />
Безобразное в искусстве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53<br />
Безобразное в контексте различных видов искусства . . . . . . . . . . . . . 60<br />
Наслаждение безобразным . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62<br />
Классификация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63<br />
Часть первая. Отсутствие формы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70<br />
А. Аморфное . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71<br />
Б. Асимметрия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75<br />
В. Дисгармония . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87<br />
Часть вторая. Неточное (Неправильное) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95<br />
А. Неточное (неправильное) вообще . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96<br />
Б. Неправильное в различных стилях искусства . . . . . . . . . . . . . . . . . 106<br />
В. Неправильное в видах искусства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112<br />
ОГЛАВЛЕНИЕ<br />
445
Часть третья. Распад формы, или Деформация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119<br />
А. Ординарное . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126<br />
I. Низменное (мелкое) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128<br />
II. Слабость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131<br />
III. Ничтожное (низость, гадкое) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137<br />
а. Обычное (заурядное, посредственное) . . . . . . . . . . . . . . . . . 137<br />
б. Случайное и произвольное . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144<br />
в. Лишенное становления (das rohe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151<br />
Б. Отвратительное . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172<br />
I. Грубое . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176<br />
II. Мертвое и пустое (Das Todte und Leere) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178<br />
III. Гнусное . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183<br />
а. Абсурд, нелепость (das Abgeschmackte) . . . . . . . . . . . . . . . . 184<br />
б. Омерзительное (тошнотворное) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189<br />
в. Зло . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195<br />
1. Беззаконие (преступное) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195<br />
2. Фантомное (мистическое) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202<br />
3. Адское (сатанинское) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210<br />
В. Карикатура . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227<br />
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245<br />
Примечания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247<br />
Величественное и ничтожное во всеобщем основании:<br />
К вопросу об эстетике истории . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330<br />
Примечания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341<br />
Природа и место превращенных форм в эстетике безобразного . . . . . . . . 342<br />
Метафизика внутренней формы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359<br />
Негативная феноменология искусства<br />
в контексте регрессивного времени . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379<br />
Примечания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398<br />
Трансгрессии времени в контексте<br />
логической замкнутости становления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400<br />
Примечания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423<br />
Современные трансфузии художественного отражения . . . . . . . . . . . . . . . 425<br />
Примечание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431<br />
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432<br />
Примечания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437<br />
Послесловие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438<br />
Примечание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440<br />
Литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441<br />
Раздел второй<br />
ФОРМАЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . 261<br />
Безобразное в становлении, становление в безобразном:<br />
К вопросу о месте «Эстетики безобразного» в логике истории . . . . . . . . . 263<br />
Примечания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285<br />
Феноменологические разломы и онтологическая деструкция<br />
в современном искусстве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289<br />
Примечания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301<br />
Искусство в «час быка» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303<br />
Отчужденная отрицательность безобразного<br />
в контексте логики истории . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311<br />
Примечания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318<br />
Свет и тень в логико-художественных коллизиях<br />
революции основания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320<br />
Примечания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329<br />
мария шкепу ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
446
Національна академія мистецтв України<br />
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА<br />
Наукове видання<br />
Марія Олексіївна <strong>Шкепу</strong><br />
ЕСТЕТИКА ПОТВОРНОГО КАРЛА РОЗЕНКРАНЦА<br />
Російською мовою<br />
В оформленні обкладинки використано репродукцію:<br />
Віктор СИДОРЕНКО. Із циклу «Цихротонізми», п., зм. техн., 150 х 125, 2002 р.<br />
Науковий редактор — А. Пучков<br />
Літературні редактори — В. Святогорова, С. Сімакова, Н. Стадник<br />
Коректори — Е. Патола, І. Побережська, Д. Тимофієнко<br />
Обкладинка, оригінал-макет, верстання — О. Червінський, О. Мурга<br />
Здано у виробництво 9.10.2010. Підписано до друку 20.12.2010.<br />
Формат 70 х 100 1 / 16 . Папір офс. № 1. Спосіб друку офс. Гарнітура «Мысль».<br />
Ум. др. арк. 36,12. Обл.-вид. арк. 32,2. Наклад 400 прим. Зам. № 10-956.<br />
<strong>Інститут</strong> <strong>проблем</strong> <strong>сучасного</strong> <strong>мистецтва</strong> НАМ України<br />
Офіційний сайт <strong>Інститут</strong>у: www.mari.kiev.ua<br />
Україна, 01133, Київ, вул. Щорса, 18-Д, тел.: (044) 529-2051<br />
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 1186 від 29.12.2002<br />
Видруковано у друкарні «Видавництво ФЕНІКС»<br />
Україна, 03680, Київ, вул. Полковника Шутова, 13-Б<br />
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 271 від 7.12.2000