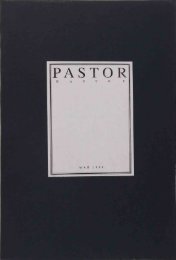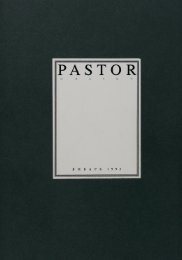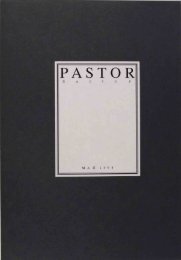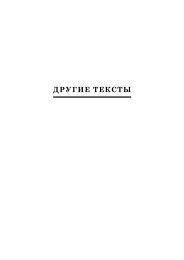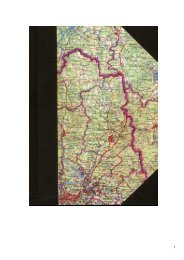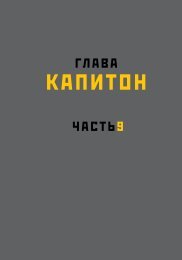том 4 - Московский концептуализм
том 4 - Московский концептуализм
том 4 - Московский концептуализм
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Обычно художник, ангажированный социальной конъюнктурой, связан сэкспозиционным знаковым полем функцией “украшательства” - либо он его “украшает” спомощью какой-либо устоявшейся традиции пейзажами или психологическими портретами ( итогда он практически “непроницаем” для мотивационной контекстуальности экспозиционногознакового поля), либо он “отражает” всякого рода перестройки на э<strong>том</strong> поле (также черезконкретную предметность - “украшая” или “критикуя” эти перестройки) - и тогда он “проницаем”для мотивационного контекста, но “проницаемость” эта допускается официальной культуройтолько до той степени, пока она не выходит за рамки функции “украшения” (включая и“критические” работы, “украшательство” которых носит диалектико-корректирующий характер иопределяется уже как “красота” или “безобразие”. “Безобразие” на экспозиционном поле недопускается, рассматривается либо как хулиганство, либо как бездарность).Неангажированные социумом (подпольные) художники, в Советском Союзепредоставленные самим себе, на протяжении многих лет находились в совершенно свободномотношении к экспозиционному знаковому полю, которое их окружало. Они могли как угодноэкспериментировать со степенями “проницаемости” мотивационного контекста на своихдемонстрационных полях, могли делать любое “безобразие” у себя в подвалах и на чердаках, идаже, более того, могли довести степень этой “проницаемости” до абсолютной, как это случилосьс Кабаковым.В начале 70-х годов (или даже раньше) Кабаков начал рисовать картины и альбомы спустым белым центром (изображение помещалось по краям). Социальный мотив и мимезистакого рода изображения в демонстрационном поле Кабакова как поле личного результативногоконтекста понятен и неоднократно отрефлектирован им самим: не вылезай в центр, задавят!Приблизительно тот же самый мотив и мимезис, что и в “Современной идиллии” Салтыкова-Щедрина. Но возникает вопрос: откуда взялась именно такая предметность его работ, такаяформа? Обычно художник отвечает: интуитивно, озарило и т.п. То есть сфера формообразования(для авангардиста), мотив предметности всегда сакрален и коренится в таких понятиях, какталант, дар и т.п.Достаточно широкий, панорамный взгляд нашего дискурса, а главное - жанр критическоговымысла и необязательность постулируемых умозаключений, позволяет нам обнаружить(разумеется, при сильных допусках), где “коренится” мотив предметности художника, которыйсделал свое демонстрационное поле абсолютно прозрачным для экспозиционного поля, то естьпозволяет нам обнаружить его “сакрального” инспиратора, по отношению к которому онвыстраивал свой онтологический (формальный) мимезис.Этот “сакральный” инспиратор (фотографии которого войдут в предметный ряд нашегодискурса как автономного концептуального произведения “Земляные работы”) вполне можетбыть обнаружен напротив “Дома России”, т.е. напротив мастерской Кабакова, на углуСретенского бульвара и Уланского переулка. Он представляет собой историю строительстваздания какого-то института или учреждения. История строительства довольна необычна. Пословам Кабакова, это здание, по форме очень напоминающее фигуру сидящего кондора сопущенными крыльями, строили лет 20 (с 1968 года), причем лет 15 возились с ямой ифундамен<strong>том</strong>: грунт оказался рыхлым, сваи проваливались в землю, в яме скапливалась вода,железные рамы ржавели, одним словом лет пятнадцать за забором на углу Сретенского иУланского зияла отвратительная яма, наполненная ржавыми металлическими сваями, прутьями иводой, которую и созерцал Кабаков из окна своей мастерской, оформляя детские книжки. Стол, закоторым он это делает, стоит как раз возле окна, откуда видно это место. Одновременно с тем, какархитекторы, инженеры, прорабы и строители возились вокруг этой ямы, вокруг этих свай ижелезных соединительных рам фундамента, Кабаков работал над своими рамами и фонами -цикл альбомов “Десять персонажей”, картина “Бердянская коса” и т.п., т.е. над работами,предметная художественность которых воплощалась через раму и фон: разрабатывалась оченьсложная система рам, рамок и фонов, которые, в сущности, и были предме<strong>том</strong> рассмотрения этихработ как концептуальных с точки зрения их эстетической автономии (т.е. вне инструментальныхконтекстов). Приблизительно в это же время на большие белые щиты переносились рисунки изальбомов, в частности - три щита “По краю” (с изображением гуцулов и телег).Наконец, к концу семидесятых годов фундамент был закончен и здание-“кондор”напротив его мастерской начало строиться. Одновременно с началом стройки у Кабакова на егопустых белых щитах стали проступать разного рода схемы и расписания, сделанные как бы от77