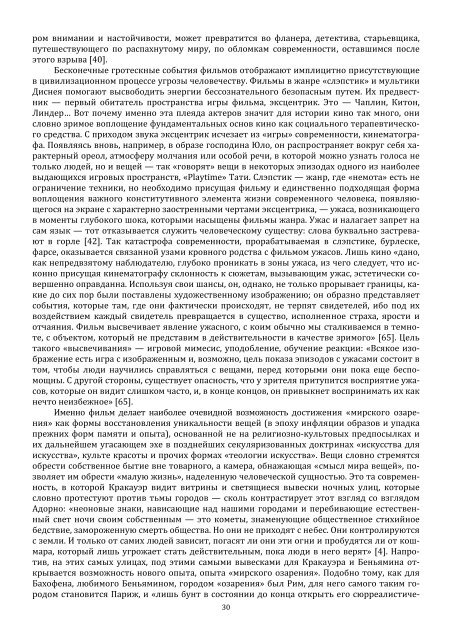не верь лукавым сновиденьям - Інститут проблем сучасного ...
не верь лукавым сновиденьям - Інститут проблем сучасного ...
не верь лукавым сновиденьям - Інститут проблем сучасного ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ром внимании и настойчивости, может превратится во фла<strong>не</strong>ра, детектива, старьевщика,<br />
путешествующего по распахнутому миру, по обломкам современности, оставшимся после<br />
этого взрыва [40].<br />
Беско<strong>не</strong>чные гротескные события фильмов отображают имплицитно присутствующие<br />
в цивилизационном процессе угрозы человечеству. Фильмы в жанре «слэпстик» и мультики<br />
Дис<strong>не</strong>я помогают высвободить э<strong>не</strong>ргии бессознательного безопасным путем. Их предвестник<br />
— первый обитатель пространства игры фильма, эксцентрик. Это — Чаплин, Китон,<br />
Линдер… Вот почему именно эта плеяда актеров значит для истории кино так много, они<br />
словно зримое воплощение фундаментальных основ кино как социального терапевтического<br />
средства. С приходом звука эксцентрик исчезает из «игры» современности, ки<strong>не</strong>матографа.<br />
Появляясь вновь, например, в образе господина Юло, он распространяет вокруг себя характерный<br />
ореол, атмосферу молчания или особой речи, в которой можно узнать голоса <strong>не</strong><br />
только людей, но и вещей — так «говорят» вещи в <strong>не</strong>которых эпизодах одного из наиболее<br />
выдающихся игровых пространств, «Playtime» Тати. Слэпстик — жанр, где «<strong>не</strong>мота» есть <strong>не</strong><br />
ограничение техники, но <strong>не</strong>обходимо присущая фильму и единственно подходящая форма<br />
воплощения важного конститутивного элемента жизни современного человека, появляющегося<br />
на экра<strong>не</strong> с характерно заостренными чертами эксцентрика, — ужаса, возникающего<br />
в моменты глубокого шока, которыми насыщены фильмы жанра. Ужас и налагает запрет на<br />
сам язык — тот отказывается служить человеческому существу: слова буквально застревают<br />
в горле [42]. Так катастрофа современности, прорабатываемая в слэпстике, бурлеске,<br />
фарсе, оказывается связанной узами кровного родства с фильмом ужасов. Лишь кино «дано,<br />
как <strong>не</strong>предвзятому наблюдателю, глубоко проникать в зоны ужаса, из чего следует, что исконно<br />
присущая ки<strong>не</strong>матографу склонность к сюжетам, вызывающим ужас, эстетически совершенно<br />
оправданна. Используя свои шансы, он, однако, <strong>не</strong> только прорывает границы, какие<br />
до сих пор были поставлены художественному изображению; он образно представляет<br />
события, которые там, где они фактически происходят, <strong>не</strong> терпят свидетелей, ибо под их<br />
воздействием каждый свидетель превращается в существо, испол<strong>не</strong>нное страха, ярости и<br />
отчаяния. Фильм высвечивает явление ужасного, с коим обычно мы сталкиваемся в темноте,<br />
с объектом, который <strong>не</strong> представим в действительности в качестве зримого» [65]. Цель<br />
такого «высвечивания» — игровой мимесис, уподобление, обучение реакции: «Всякое изображение<br />
есть игра с изображенным и, возможно, цель показа эпизодов с ужасами состоит в<br />
том, чтобы люди научились справляться с вещами, перед которыми они пока еще беспомощны.<br />
С другой стороны, существует опасность, что у зрителя притупится восприятие ужасов,<br />
которые он видит слишком часто, и, в конце концов, он привык<strong>не</strong>т воспринимать их как<br />
<strong>не</strong>что <strong>не</strong>избежное» [65].<br />
Именно фильм делает наиболее очевидной возможность достижения «мирского озарения»<br />
как формы восстановления уникальности вещей (в эпоху инфляции образов и упадка<br />
прежних форм памяти и опыта), основанной <strong>не</strong> на религиозно‐культовых предпосылках и<br />
их даль<strong>не</strong>йшем угасающем эхе в позд<strong>не</strong>йших секуляризованных доктринах «искусства для<br />
искусства», культе красоты и прочих формах «теологии искусства». Вещи словно стремятся<br />
обрести собственное бытие в<strong>не</strong> товарного, а камера, обнажающая «смысл мира вещей», позволяет<br />
им обрести «малую жизнь», наделенную человеческой сущностью. Это та современность,<br />
в которой Кракауэр видит витрины и светящиеся вывески ночных улиц, которые<br />
словно протестуют против тьмы городов — сколь контрастирует этот взгляд со взглядом<br />
Адорно: «<strong>не</strong>оновые знаки, нависающие над нашими городами и перебивающие естественный<br />
свет ночи своим собственным — это кометы, знаменующие общественное стихийное<br />
бедствие, замороженную смерть общества. Но они <strong>не</strong> приходят с <strong>не</strong>бес. Они контролируются<br />
с земли. И только от самих людей зависит, погасят ли они эти огни и пробудятся ли от кошмара,<br />
который лишь угрожает стать действительным, пока люди в <strong>не</strong>го верят» [4]. Напротив,<br />
на этих самых улицах, под этими самыми вывесками для Кракауэра и Беньямина открывается<br />
возможность нового опыта, опыта «мирского озарения». Подобно тому, как для<br />
Бахофена, любимого Беньямином, городом «озарения» был Рим, для <strong>не</strong>го самого таким городом<br />
становится Париж, и «лишь бунт в состоянии до конца открыть его сюрреалистиче‐<br />
30