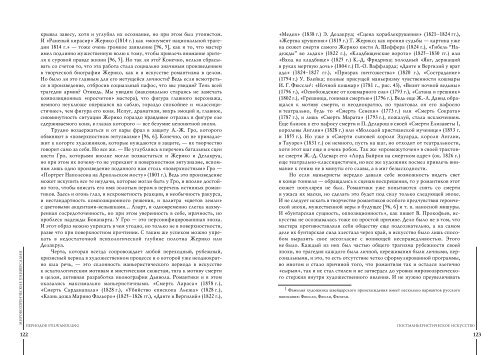Академия искусств Украины ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ...
Академия искусств Украины ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ...
Академия искусств Украины ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ УНИВЕРСАЛИИ<br />
крывал завесу, хотя и углубил их осознание, но при этом был утопистом.<br />
И «Раненый кирасир» Жерико (1814 г.) как «монумент национальной трагедии<br />
1814 г.» — тоже очень громкое заявление [96, 5], как и то, что мастер<br />
имел подлинно мужественную волю к тому, чтобы привлечь внимание зрителя<br />
к суровой правде жизни [96, 5]. Но так ли это? Конечно, нельзя сбрасывать<br />
со счетов то, что эта работа стала социально значимым произведением<br />
в творческой биографии Жерико, как и в <strong>искусств</strong>е романтизма в целом.<br />
Но было ли это главным для его метущейся личности? Ведь если всмотреться<br />
в произведение, отбросив социальный пафос, что мы увидим? Тень всей<br />
трагедии армии? Отнюдь. Мы увидим (максимально стараясь не замечать<br />
композиционных «просчетов» мастера), что фигура главного персонажа,<br />
немного неуклюже опершаяся на саблю, гораздо спокойнее и «классицистичнее»,<br />
чем фигура его коня. Испуг, драматизм, вихрь эмоций и, главное,<br />
сиюминутность ситуации Жерико гораздо правдивее отразил в фигуре еле<br />
сдерживаемого коня, в глазах которого — все безумие непонятной эпохи.<br />
Трудно воздержаться и от пары фраз в защиту А.-Ж. Гро, которого<br />
обвиняют в «поверхностном энтузиазме» [96, 6]. Конечно, он не принадлежит<br />
к когорте художников, которые нуждаются в защите, — их творчество<br />
говорит само за себя. Но все же. — Не углубляясь в перечень батальных сцен<br />
кисти Гро, которыми вполне могли похвастаться и Жерико и Делакруа,<br />
но при этом их почему-то не упрекают в поверхностном энтузиазме, вспомним<br />
лишь одно произведение поданного нам столь «поверхностным» Гро —<br />
«Портрет Наполеона на Аркольском мосту» (1801 г.). Ведь это произведение<br />
может искупить все те неудачи, которые могли быть у Гро, и вполне достойно<br />
того, чтобы вписать его имя золотым пером в перечень истинных романтиков.<br />
Здесь и огонь глаз, и искрометность реакции, и необычность ракурса,<br />
и нестандартность композиционного решения, и палитра «цветов земли»<br />
с цветовыми акцентами-вспышками… Азарт, и одновременно слегка нахмуренная<br />
сосредоточенность, но при этом уверенность в себе, мрачность, но<br />
проблеск надежды Бонапарта. У Гро — это персонифицированнная эпоха.<br />
И этот образ можно упрекать в чем угодно, но только не в поверхностности,<br />
разве что при поверхностном прочтении. С таким же успехом можно упрекать<br />
в недостаточной психологической глубине полотна Жерико или<br />
Делакруа.<br />
Черта, которая всегда сопровождает любой переходный, рубежный,<br />
кризисный период в художественном процессе и о которой уже неоднократно<br />
шла речь, — это склонность маньеристического периода в <strong>искусств</strong>е<br />
к эсхатологическим мотивам и мистическим сюжетам, тяга к мотиву смерти<br />
в целом, активная разработка иконографии Дьявола. Романтики и в этом<br />
оказались максимально маньеристичными. «Смерть Лараса» (1858 г.),<br />
«Смерть Сарданапала» (1828 г.), «Убийство епископа Льежа» (1828 г.),<br />
«Казнь дожа Марино Фальеро» (1825–1826 гг.), «Данте и Вергилий» (1822 г.),<br />
ПЕРИОДОВ STILWANDLUNG<br />
«Медея» (1838 г.) Э. Делакруа; «Сцена кораблекрушения» (1821–1824 гг.),<br />
«Жертва крушения» (1819 г.) Т. Жерико; как ирония судьбы — картина уже<br />
на сюжет смерти самого Жерико кисти А. Шеффера (1824 г.), «Гибель “Надежды”<br />
во льдах» (1822 г.), «Кладбищенские ворота» (1825–1830 гг.) или<br />
«Вход на кладбище» (1825 г.) К.-Д. Фридриха; холодный «Янг, держащий<br />
в руках мертвую дочь» (1804 г.) П.-О. Ваффларда; «Данте и Вергилий у врат<br />
ада» (1824–1827 гг.), «Призрак ничтожества» (1820 г.), «Сострадание»<br />
(1794 г.) У. Блейка; полные присущей маньеризму чувственности кошмары<br />
И. Г. Фюссли 1 : «Ночной кошмар» (1781 г., рис. 43), «Визит ночной ведьмы»<br />
(1796 г.), «Освобождение от кошмарного сна» (1793 г.), «Сатана и грешник»<br />
(1802 г.), «Грешница, гонимая смертью» (1796 г.). Ведь еще Ж.-Л. Давид обращался<br />
к мотиву смерти, и неоднократно, но трактовал он его пафосно<br />
и театрально, будь то «Смерть Сенеки» (1773 г.) или «Смерть Сократа»<br />
(1787 г.), и лишь «Смерть Марата» (1793 г.), пожалуй, стала исключением.<br />
Еще близок к его пафосу смерти и П. Деларош в своей «Смерти Елизаветы I,<br />
королевы Англии» (1828 г.) или «Молодой христианской мученице» (1853 г.<br />
и 1855 г.). Но уже в «Смерти сыновей короля Эдуарда, короля Англии,<br />
в Тауэре» (1831 г.) он немного, пусть на шаг, но отходит от театральности,<br />
хотя этот шаг еще и очень робок. Так же «промежуточен» в своей трактовке<br />
смерти Ж.-Д. Одевар: его «Лорд Байрон на смертном одре» (ок. 1826 г.)<br />
еще театрально-классицистичен, но все же художник посмел привлечь внимание<br />
к гению не в минуты его славы, а в миг безысходности.<br />
Но если маньеристы нередко давали себе возможность видеть свет<br />
в конце тоннеля — обращались к сценам воскрешения, то у романтиков этот<br />
сюжет популярен не был. Романтики уже попытаются снять со смерти<br />
и ужаса их маски, но сделать это будет под силу только следующей эпохе.<br />
И не следует искать в творчестве романтиков особого предчувствия героической<br />
эпохи, мужественной веры в будущее [96, 6] и т. п. наносной мишуры.<br />
И «бунтарская сущность, оппозиционность», как пишет В. Прокофьев, <strong>искусств</strong>а<br />
не осознавалась тоже по простой причине. Дело было не в том, что<br />
мастера противоставляли себя обществу еще подсознательно, а на самом<br />
деле их бунтарская сила хлестала через край, и <strong>искусств</strong>о было лишь способом<br />
выразить свое несогласие с вопиющей несправедливостью. Этого<br />
не было. Каждый из них был частью общего трагизма рубежности своей<br />
эпохи, но трагедия каждого была личной, переживания были личными, персональными,<br />
и это, то есть отсутствие четко сформулированной программы,<br />
во многом и стало причиной того, что романтизм так и остался элегично<br />
«сырым», так и не стал стилем и не затвердел до уровня мировоззренческого<br />
стержня внутри художественного явления. И не нужно преувеличивать<br />
1 Фамилия художника швейцарского происхождения имеет несколько вариантов русского<br />
написания: Фюссли, Фюсли, Фюзели.<br />
ПОСТМАНЬЕРИСТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО<br />
122<br />
123