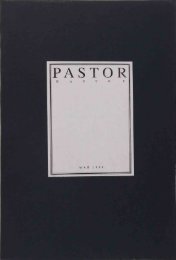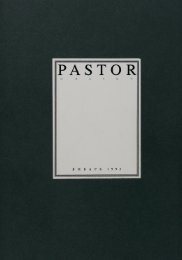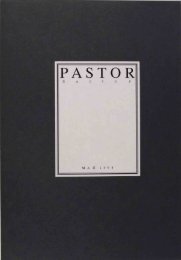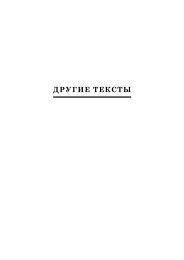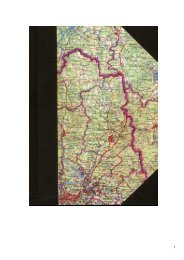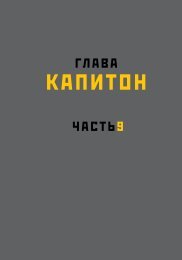А. Монастырский, Н. Панитков, И. Макаревич, Е. Елагина, С ...
А. Монастырский, Н. Панитков, И. Макаревич, Е. Елагина, С ...
А. Монастырский, Н. Панитков, И. Макаревич, Е. Елагина, С ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
тексту). В случае акции «К» принципиально новым было то, что: а) «механический»<br />
(зачитываемый) текст был не сакральным, «надвременным», а вполне бытовым,<br />
повествующим об обыденных текущих событиях – хотя и «общемирового» значения; и б)<br />
этот текст «вклинился» не в индивидуальный поток сознания, а в звучащий диалог между<br />
двумя людьми – т.е. «чудесное происшествие» полностью, от начала до конца<br />
располагалось в регистре согласованной реальности.<br />
Было ли «вплетение» сообщения о смерти Третчикова в наш диалог чем-то действительно<br />
необычным Каковы критерии «необычности» и в чем, в конечном итоге, состоит<br />
сущность конституирования некоего опыта в формате «необъяснимого события»<br />
Что касается критериев, то на первое место я бы поставил критерий, который можно<br />
назвать динамическим или диалектическим: «обычность» и «необычность» определяются<br />
только в отношении некоего установившегося горизонта опыта; и признаком (или<br />
источником) «необычности» чего-либо служит необходимость для субъекта опыта<br />
(субъект этот может быть и групповым и коллективным) подвергнуть ревизии весь этот<br />
горизонт в целом. Так, в случае с «некрологом Третчикова» моя собственная (или наша с<br />
<strong>И</strong>риной) позиция оказывается как бы фланкированной с двух сторон двумя<br />
мировоззренческими парадигмами, с точки зрения которых ничего особенного и<br />
необычного в данном происшествии не было. Эти две парадигмы можно обозначить как<br />
«обыденную рациональность» и «обыденную религиозность».<br />
<strong>С</strong> точки зрения «обыденной рациональности» происшествие это можно кратко<br />
квалифицировать как «обычное совпадение», «случайность». Обыденный рационализм<br />
выстраивает некую безличную детерминистскую вселенную (по Лапласу), не поднимаясь<br />
до схватывания возможных пределов такой вселенной, – очерченных, к примеру,<br />
теоремой Гѐделя. Вместо этого обыденный рационализм пытается вытеснить<br />
«случайность» («необъяснимость») в маргинальную резервацию внутри своего<br />
детерминистского мира, постоянно апеллируя к тому, что случайность не заслуживает<br />
внимания – поскольку далека от «сущности». <strong>С</strong>лучайность вообще никакой сущности не<br />
имеет, и потому в итоге развития познания должна быть полностью исключена (хотя<br />
понятно, что таким образом она оказывается уже заранее, «превентивно» исключенной из<br />
сферы значимого опыта). <strong>И</strong>сторически эта позиция является наследием эпохи<br />
Просвещения, и ее идеологическая подоплека состоит в борьбе с метафизической<br />
спекуляцией, в «легализме» (т.е. попытке «удалить» Бога из мира, заключив с ним<br />
нерушимый и вечный юридический контракт) и в безусловном предпочтении<br />
целенаправленного действия «пассивному» созерцанию.<br />
<strong>С</strong> точки зрения «обыденной религиозности», вышеописанное «курьезное происшествие»<br />
можно, наоборот, интерпретировать как «обычное вмешательство Божественного<br />
Провидения», «высшей закономерности», как очередное подтверждение неизмеримого<br />
превосходства Божественного Логоса над убогим человеческим разумением. В этом<br />
случае весь событийный ряд вплоть до сообщения о смерти Третчикова будет обладать<br />
вполне определенным, адресованным нам с <strong>И</strong>риной (и тем, кому мы об этом событии<br />
расскажем) дидактическим содержанием типа: «Помните о том, что все волосы на голове<br />
у вас сочтены, и что право распоряжаться жизнью и смертью сосредоточено в одних,<br />
живых и умных руках». <strong>Н</strong>етрудно заметить, что, когда такая позиция заявляет о себе в<br />
контурах повседневной «межчеловеческой» коммуникации (а это происходит в наши дни<br />
на каждом шагу), то ее функция, – точнее, ее диспозиция – оказывается ни чем иным как<br />
«отрицательным двойником» обыденного рационализма: в первую очередь в смысле ее<br />
столь же выраженной репрессивности. Утверждая приоритет веры над знанием и<br />
«досужим рассуждением» в пространстве связанного причинно-следственной топикой<br />
обыденного языка, эта позиция стремится «загнать в резервацию» противостоящую ей<br />
обыденную рациональность, – однако пространство языка и коммуникации (которое эта<br />
позиция не торопится упразднять) оказывается при этом «расчищенным» исключительно