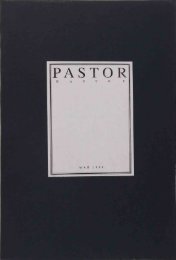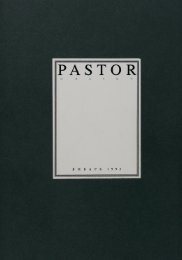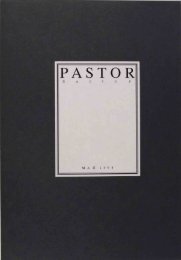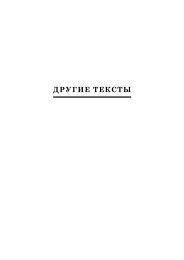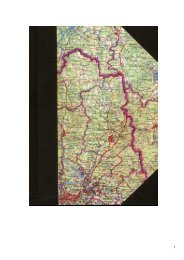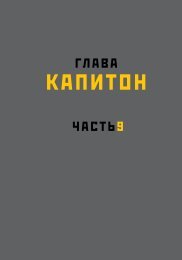А. Монастырский, Н. Панитков, И. Макаревич, Е. Елагина, С ...
А. Монастырский, Н. Панитков, И. Макаревич, Е. Елагина, С ...
А. Монастырский, Н. Панитков, И. Макаревич, Е. Елагина, С ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
парадигмой, в которой вплоть до наших дней действуют астрологи и их постоянная<br />
клиентура (если, конечно, не считать собственно древнекитайской традиции). Отличие от<br />
астрологического типа координации действительности состоит в том, что манипуляции с<br />
гексаграммами <strong>И</strong> Цзина допускают все же некий ограниченный доступ творческой воли<br />
на уровень глубинных причин (а не только на уровень поверхностных следствий), –<br />
однако такое проникновение порождает труднопредсказуемые эффекты и, кроме того,<br />
губит очень важную для КД «зону индетерминированности», загрязняя ее<br />
детерминирующей «магией».<br />
В целом текст «Эстетика и магия» едва ли стоит рассматривать как манифест или даже<br />
предварительный очерк какой-то новой онтологии (автор явно не стремится вписать его в<br />
традицию профессионального философствования), – скорее он носит именно<br />
(психо)технический характер и маркирует собой конец активных экспериментов с <strong>И</strong><br />
Цзином в практике КД. <strong>И</strong> все же выраженная в нем онтологическая перспектива<br />
заразительна и вызывает непроизвольную симпатию. В какой-то степени «Эстетика и<br />
магия», конечно, «капитулирует» перед Коллективным Бессознательным, перфомансы<br />
которого признаются куда более «эффектными», чем целенаправленная художественная<br />
деятельность группы. Кроме того, <strong>Монастырский</strong> явно гипостазирует управляющие этим<br />
Бессознательным «мандалы руководства», которые приобретают у него облик<br />
могущественных архаических богов, сметающих все на своем пути. Однако не стоит<br />
забывать, что в пост-лакановском психоанализе Бессознательное определяется в первую<br />
очередь негативно и диалектически – как нечто, «сопротивляющееся и противостоящее<br />
дискурсу аналитика». Мандалы руководства, по Монастырскому, «известны»: стало быть,<br />
если они, как он говорит, «веками прорабатывают коллективное бессознательное», то на<br />
них вполне можно взглянуть не только как на рудименты безнадежной архаики<br />
(противостоящие подлинной культурной деятельности), но и как на могущественных<br />
«агентов дискурса» в окутанном непроглядной тьмой враждебном стане<br />
Бессознательного. <strong>И</strong>ными словами, «инкрустация» Бессознательного мандалами<br />
руководства, произведенная в «Эстетике и магии» (так же как и практические<br />
эксперименты с <strong>И</strong> Цзином в акциях) – есть ни что иное, как очередной этап деятельности<br />
по «просвечиванию» Бессознательного аналитическим (культурным) дискурсом. <strong>А</strong> тот<br />
факт, что эти эксперименты в какой-то момент сознательно прекращаются, в полной мере<br />
обосновывается этическим требованием продуктивной «диалогической недосказанности»<br />
(понятой как необходимое «экологическое» условие конституирования «другого»), о<br />
котором <strong>Монастырский</strong> упоминает в заключительной части текста.<br />
Говоря проще, здесь перед нами предстает некий хрупкий диалектический «шлейф»,<br />
сотканный из свободы и необходимости, рациональности и благоговения перед<br />
«сокровенным», – взятых в точно выверенной равной пропорции. Этот дискурсивный<br />
«шлейф» не только тянется из далекого прошлого, но и раскрывается в будущее,<br />
проскальзывая ровно посередине между репрессивными челюстями «обыденной<br />
рациональности» и «обыденной религиозности», о которых говорилось выше. <strong>И</strong><br />
раскрывается он, в конечном счете, навстречу новым переживаниям «неожиданного»,<br />
«недетерминированного», «чудесного».<br />
Все вышеизложенное, по моему скромному разумению, подтверждает правильность<br />
выбора эпизода с «некрологом Третчикова» в качестве главной темы моего отчета об<br />
акции «К» (в принципе, можно было выделить целый ряд такого рода эпизодов, хотя,<br />
пожалуй, менее интенсивных) и заставляет взглянуть на него несколько иными глазами, –<br />
ослабив гносеологический пыл, освободившись от всякого «практического интереса» (по<br />
завету Канта), и отдав, таким образом, должное его эстетической стороне. <strong>Е</strong>сли в<br />
отношении содержания акции как художественного произведения первичной является<br />
сама «материя» переживания чего-то как необычного и чудесного (которую требуется<br />
только очистить от внешних логических увязываний), то что можно сказать о самой этой