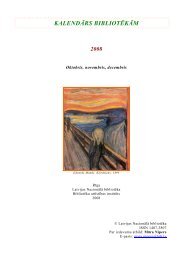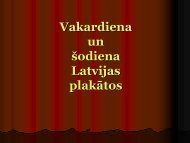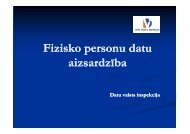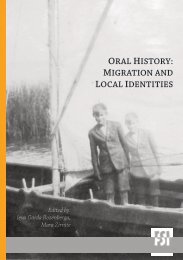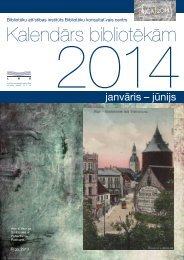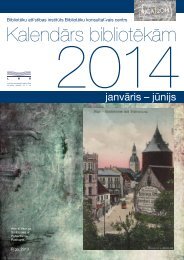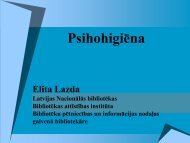LAIKU ATŠALKAS: ŽURNĀLISTIKA, KINO, POLITIKA - Academia
LAIKU ATŠALKAS: ŽURNĀLISTIKA, KINO, POLITIKA - Academia
LAIKU ATŠALKAS: ŽURNĀLISTIKA, KINO, POLITIKA - Academia
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>LAIKU</strong> ATŠALKAS: ŽURNĀLISTIKA, <strong>KINO</strong>, <strong>POLITIKA</strong>на симпозиум смотреть фильмы очередных участников.Неискушенные зрители не умеют отличить документальный фильм от телепродукции.Нет никакого навыка смотрения документального кино. Тем более это относится к авторскимхудожественным произведениям документалистики. Едва успев освободиться от каноновгосударственного официоза, они попали в ловушку шоу-бизнеса и масскульта. Как-то на симпозиумедаже родилась идея создать хрестоматию документалистики – «Неумирающее кино».Почему игровые фильмы в двадцатом веке, включая сюда и телевизионные сериалы,стали массовым зрелищем, а документальные ленты не имеют и сотой доли этого зрительскогоуспеха? Документальное кино все еще остается искусством будущего, презираемымсвоим настоящим. К тому же неумирающее кино создают умирающие документалисты,печально заметил один из участников, добавив, что это может стать названием следующейвстречи – «Неумирающее кино в эпоху умирающего кинематографа».Но тут возмутились практики – перспектива работать в морге их совершенно не устраивала.Умирающее кино, утверждали они, – кино тоталитарное. Коммерциализация неозначает радикальный запрет. В конце концов, и «Нанук» Флаэрти создавался для пушнойкомпании, а «Луизианская история» на деньги нефтяной компании. «Шагай, Совет» и другиефильмы Дзига Вертов снимал по заказу Госторга и Моссовета. Но фильмы Флаэртии Вертова и сегодня относятся к разряду неумирающих.Удел авторского кино, по убеждению Клецкина, – создавать язык, развивать его, определять,как расширить его возможности. Правы студенты, которые очень четко определилиразницу между настоящим кино и, скажем, голливудской продукцией. «В первом случаеты думаешь, а во втором – это ни к чему. Просто глазеешь, развлекаешься, вышел и ужене помнишь, о чем там было… Поэтому и должно делаться документальное кино, котороедает масштаб – когда показывается не событие или кампания, а объектом исследованиястановится сама жизнь, смысл происходящих в ней процессов».«Умеем ли мы с людьми разговаривать? – размышлял Абрам Клецкин на одном из симпозиумов.– Дело не в приемах, а в нашей позиции, в нашем отношении к жизни. Мы несамые умные, мы не самые знающие, мы не собираемся быть божеством ни для кого, мыпередаем наши размышления, наши собственные сомнения… Поэтому сегодня проблема,которая всегда была, с моей точки зрения, очень остра в документальном кино – проблемаэтики – является этикой совместного размышления над жизнью. Поэтому нельзя говоритьо людях и с людьми как бы со стороны».В январе прошлого года в Москве отмечали двадцатилетие фильма Юриса Подниекса«Легко ли быть молодым?» – своего рода экранной революции, сопоставимой, пожалуй,лишь с картиной, снимавшейся еще за 20 лет до него – «Обыкновенным фашизмом» МихаилаРомма. Такие фильмы, как ответы на жгучую потребность общения, возникают вмоменты социальных переворотов. Первым переворотом было время шестидесятников,вторым – горбачевская перестройка. Картине Подниекса предшествовала телевизионнаяреволюция. В том году аудитория увидела телемост Ленинград-Сиэттл, а месяц спустя –«12 этаж» с его знаменитой «лестницей». В первой трансляции телезрители убедились, чторядовые американцы – такие же, как и мы. Во второй, что наши собственные дети совсемне похожи на тех, какими мы их ожидали увидеть. Они вызывающе орали, скандалили искандализировали происходящее, словом, они не хотели быть такими, как их родители иучителя. На лестнице непарадного подъезда одного из московских Домов культуры онисебя чувствовали самими собой куда больше, чем если бы их пригласили в студию. Местодействия стало действующим лицом. ТВ очнулось от летаргии.«Легко ли быть молодым?» оказалось продолжением «лестницы» – нашей встречей с собственнымидетьми. «Никто так и не понял, что мы надели эти кожанки с заклепками и взялиэто громкое слова «металлист», «панк», чтобы показать всем: мы – грязные, ободранные,213